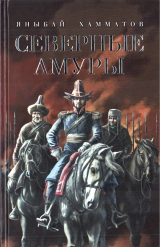
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
С волнением, с сочувствием Кахым пожал его могучую руку – он и любил Буранбая, и уважал глубоко за волшебный дар песенника и кураиста.
Они разъехались. Кахым пустил иноходца резвой рысью, крикнув ординарцу, чтобы держался поближе. А Буранбай бросил поводья, и конь, чуя настроение всадника, зашагал обратно в лагерь полка размеренным шагом, дробя с хрустом ледышки на дороге.
В дороге на Буранбая всегда нападала тоска, и, чтобы побороть ее, он начал бормотать – слагать песню о золотоволосой:
18
Не скорбит ли твое сердце,
Хай-хай, одинокими вечерами?
Жди – вернусь с похода!
Хай-хай, вернусь живым.
Сдержу клятву любви,
Хай-хай, клятву верности.
На границе казачьи полки занимались разведкой, сбором по лесам и деревням отбившихся французов. Пехота, артиллеристы, саперы, гвардия наконец-то получили передышку, скоротечную, правда, но столь долгожданную.
В эти дни фельдмаршал продиктовал Коновницыну приказ, тщательно подбирая слова, желая вложить в них свою безмерную любовь к русским солдатам:
«1) Принять все необходимые меры к укреплению здоровья нижних чинов, укрепляя силы их доставлением хорошей пищи и спокойного расположения на квартирах.
2) Привести в полный порядок обмундирование солдат.
3) Собрать из обозов всех строевых нижних чинов, всех отставших и в командировках и присоединить их к своим полкам».
Нижними чинами тогда назывались рядовые солдаты.
Верил ли фельдмаршал, что нижние чины спокойно расположатся на квартирах, что интенданты подвезут хорошую пищу, что солдаты успеют привести в полный порядок те рубища, какие еще по привычке назывались мундирами?..
И Коновницын, аккуратно записав приказ, чтобы передать его писарям, тоже не очень верил, что требования Михаила Илларионовича выполнимы, но горячо желал хоть как-то подкормить солдат, расквартировать их по деревням, отмыть в банях, залатать их лохмотья.
– При разъездах по полкам буду следить за выполнением приказа.
Фельдмаршал утомленно наклонил тяжелую голову:
– Да, да, голубчик, они заслужили и благодарность, и заботу. Ну что еще у вас?
– Скончался от ранений в рукопашном бою командир Первого башкирского полка майор Лачин.
– Жаль майора, давно знаю, отличный, наихрабрейший офицер!
– Да, ваша светлость, Лачин и войсковой старшина Буранбай Бутусов первыми, увлекая казаков, ворвались во вражескую колонну, рубили направо и налево. Свыше шестисот французов уничтожены, двести сорок взяты в плен и, кроме того, полковник, четырнадцать офицеров, сорок восемь унтер-офицеров.
– Молодцы башкирские казаки! – просиял Кутузов. – Войскового старшину Буранбая Кутусова наградить именной, в золоте и серебре, саблей. Майора Лачина посмертно представить к ордену. Особо отличившихся казаков повысить в чинах.
– Слушаю. Я полагаю, что командиром Первого полка вместо Лачина надо назначить Кахыма Ильмурзина.
– Согласен. И без того он ныл, что ему скучно в Главной квартире, – сказал фельдмаршал.
После ухода Коновницына Михаил Илларионович позвал денщика, тот помог старику снять сюртук, уложил в постель, прикрыл ватным одеялом. Перекрестившись, Кутузов кряхтя потянулся. «…День ото дня мне все хуже и хуже. И в Тарутинском лагере опасался, что не дотяну до полного изгнания французов из России. Дотянул!.. Дотянул – и надорвался. Устал, до чего же я устал… Суждено ли Богом встретить завтрашнее утро? А надо и воевать, и мириться с Пруссией, чтобы бросить немецкие войска против Наполеона».
Сверчок нехитрой песенкой баюкал погружавшегося в дремоту старика – первого победителя, казалось бы, непобедимого Наполеона…
Земляки с восторгом встретили нового командира полка; нет, они любили Лачина, ценили его боевые заслуги, оплакивали его смерть, такую преждевременную, но к Кахыму невольно тянулись их сердца – он нравился джигитам молодостью, молодцеватостью и песнями.
Стоял март 1813 года. Весна в Прибалтике приходит раньше, чем на Урале, земля в поле и на лугах подсохла, брызнула изумрудно-зеленой, блестящей, словно отлакированной, травою, почки на деревьях набухли, налились соком, вот-вот лопнут, взметнув остроугольные клейкие листья. И море, еще не видимое за лесами и песчаными дюнами, но несущее влажную прохладу, чуть-чуть подсоленную.
У костра на привале Буранбай непрестанно вздыхал и жаловался:
– И что это за наша военная судьба – год за годом в походах. А сейчас, поди, у нас там тоже весна.
– Да ведь там холоднее, – трезво напомнил Кахым.
– И пусть холоднее, но зато милее. Суровый край, но родной!.. И сердце мое рвется в степи, в горы. И песни сами собою слагаются. А песня, сам знаешь, утишает боль сердца.
– А ты, агай, заведи, а я постараюсь подтянуть, – сказал Кахым.
Подошел мулла Карагош и, опустившись на кошму, тоже попросил любимого певца осчастливить его и джигитов песней. Буранбаю пение, игра на курае были так же естественны, как дыхание. К сабле рука прикипела, а с песней, с кураем душа сроднилась. И он, полузакрыв глаза, запел звонко, прочувствованно:
Урал-гора, Урал-тау,
Прими мою тоску.
Распроклятые французы
Разлучили нас с Уралом.
– Это не я сочинил, – вдруг сказал он, – а джигиты Второго башкирского полка. В полках ходят песни безымянных сочинителей, один на биваке вымолвил слово-другое, а сосед добавил. Вот послушай «Гимн Кутузову», нет, точнее – «Гимн Кутусу»:
Отгремела битва, остывали пушки,
Храбрые батыры-львы отдыхали,
Славили великого Кутуса,
Сабли, пики точили – завтра в бой…
Песня была длинная, величальная, торжественная.
– А я слышал у соседей и запомнил песню про Бородино, – сказал мулла и загудел, словно Коран читал в мечети:
Целый день кипел бой на Бородинском поле,
Ночь настала – не утихла битва.
Кровь людская текла ручьями,
Земля набухла, не впитывала крови.
Разъяренные батыры-мужи не ведали страха,
Раны не считали – кидались в сечу.
Ветры окрасились кровью.
Небо окрасилось кровью.
Безмерную рать французов
Обескровили мужи-батыры.
– Какие слова! – восхитился Кахым. – И весь полк – поэт. И каждый батыр – поэт. Вот бы записывать эти военные песни-былины, да не до этого…
– И грамотеев в полках нет, – вздохнул Буранбай.
– И вообще пора спать, – засмеялся Кахым, – завтра в поход!
…За Одером Первый полк соединился с казаками корпуса генерала Чернышева. Начиналась битва за освобождение Берлина. Чернышев умело маневрировал конницей, бросил казаков на окраинные поселки, а засевших в каменных цитаделях, монастырях, церквах французов, саксонцев и еще сопротивлявшихся немцев громил пушками и атаками пехотинцев.
Прижав копья к седлам, подзадоривая друг друга громким «ура», доводя неутомимых лошадей пронзительным свистом буквально до безумия, джигиты напали на французские заставы так стремительно, что первый ружейный залп запоздал, а перезарядить солдаты не успели – были проколоты копьями, изрублены саблями. Саксонцы и немцы либо разбегались, прятались в подвалах, либо охотно поднимали руки и сдавались.
Джигиты промчались птицами через город и соединились с казаками Ставропольского полка из армии генерала Репнина.
Вечером бой закончился. Кахым съездил в штаб корпуса Чернышева, а вернувшись, собрал сотников, сказал, куда ехать за фуражом для лошадей, где получить мясо для людей, в каких домах остановиться на ночлег.
Все распоряжения были краткими, но совершенно точными – в петербургских военных учебных заведениях муштровали рачительно и в классах, и на маневрах в поле. В кровь впиталась офицерская выучка.
– К немцам относиться приветливо, ничего не брать, за все платить деньгами, – строго предупредил он.
– Понимаем, ваше благородие, но мы немцев-то и не видели – прячутся от нас, как от чумных! – сказал сотник Гатауллин.
– Я хотел воды попросить напиться, так хозяин-немец и калитку не открыл, кричит: «Амур, амур!..» – засмеялся Буранбай.
В Петербурге Кахым сносно наловчился говорить по-немецки. И немудрено – и булочники, и колбасники, и пивовары в столице – немцы. Как тут не научиться!..
Он спешился, перешел улицу, постучал в дверь аккуратного кирпичного двухэтажного дома. На окнах зашевелились занавески, послышались испуганные голоса, шарканье шлепанцев, туфель, но дверь не отперли. Кахым еще постучал, настойчивее. Наконец в форточке показалась лысая голова старика, видимо, хозяина.
– Я русский офицер, – произнес Кахым миролюбиво, старательно выговаривая немецкие слова, от которых уже отвык за войну.
Доброе лицо Кахыма, его мундир и, конечно, немецкий, пусть и ломаный, язык произвели, как и следовало ожидать, самое благоприятное впечатление на старика.
Он вышел на крылечко, низко кланялся, приговаривая: «Bitte… bitte»[43]43
Пожалуйста (нем.).
[Закрыть], – пропустил вперед Кахыма и надежно затворил дверь – громыхнул засов.
Кахым долго не выходил, и мулла Карагош забеспокоился:
– Не прикончили бы пруссаки нашего командира!
Буранбай его успокоил:
– Ты за нашего турэ не опасайся! Он себя в обиду не даст.
Через несколько минут Кахым, улыбаясь в бороду, вышел из дома, за ним шагали три жилистых парня, а хозяин стоял на крыльце и гостеприимно разводил руками, повторяя: «Bitte…»
– Значит, в этом доме на втором этаже разместимся – я, старшина Буранбай, мулла, Янтурэ с женой. Эти парни – сыновья хозяина, они помогут устроить наших джигитов в соседних домах. Лошадей можно оставить здесь, в конюшне, и у соседей. Парни все устроят, а если что – зовите меня.
Мулла Карагош набожно возвел глаза к небу и поблагодарил Аллаха за то, что он даровал им такого образованного командира полка.
Вечером у Кахыма собрались Буранбай, мулла, сотники.
– А вы знаете, почему немцы нас так боятся? – лукаво спросил Кахым.
Все переглянулись, а Буранбай сказал:
– Наверно, прозвище «амур» пугает?
– Нет, французы, чтобы укрепить в немецком гарнизоне города веру в победу, распустили слухи: дескать, идут из степей дикари, которые питаются человеческим мясом. Особенно любят поджаривать младенцев на пиках в огне костра. Ну и девиц насилуют прямо на улицах.
Все возмутились, закричали в обиде, в негодовании:
– А-ах, стыда у этих мусью нету!
– Ишь чего придумали, подлые обманщики!
– Хотят за Наполеона проливать немецкую кровь!
Мулла сказал назидательно:
– А ты, турэ, скажи, что мы хоть из степей, а верующие. Бог – один, а веры разные.
– Если бы не говорил так, нас бы не устроили здесь удобно и хлебосольно, – засмеялся Кахым. – Но вы скажите джигитам, – он строго обратился к сотникам, – за все платить, а денег нет, присылать хозяев ко мне, у меня есть казенные суммы на обеспечение полка.
Сотники заверили командира, что проследят за порядком, а Буранбай добавил, что Первый башкирский казачий полк незыблемо сохранит свою честь.
Через неделю берлинцы привыкли к джигитам, оценили их честность. И первыми, естественно, подружились с ними мальчишки – они просили у них лук и стрелы, старательно, так, что пот прошибал, целились в мишень и восторженно визжали, когда крылатая певунья впивалась в яблочко. Джигиты говорили: «Гут! Гут!..» А когда они вели лошадей на водопой, то в каждом седле горделиво восседал краснощекий паренек, вцепившись в лук, не доставая ногами до стремян, а рядом шел веселый джигит, повторял: «Гут! Гут!..» Из всех окон торчали женские головы в белоснежных накрахмаленных чепцах, и маменьки, бабушки, тетушки, старшие сестры благословляли добрых конников.
Кахым рассказывал своим джигитам:
– Берлинцы в один голос вспоминают, что французы держались с ними надменно, заверяли, что с Наполеоном они непобедимы, что Россию покорят в два месяца.
– Вот и покорили! – радовались джигиты. – Угробил всю армию Наполеон, а Россия как стояла, так и стоит.
– Да еще могущественнее стала!
– И всегда будет непобедимой.
19Двадцать восьмого апреля 1813 года в маленьком немецком городке Бунцлау скончался Михаил Илларионович Кутузов.
Остановилось сердце великого полководца, единолично взявшего на себя в год роковых испытаний всю ответственность за независимость России. В Первом башкирском полку царило уныние. Мулла Карагош отслужил заупокойную службу.
Кахым плакал, как ребенок, рассказывал опечаленным джигитам, как по-отечески относился к нему Михаил Илларионович, да и ко всем башкирским казакам.
– Для него не было разницы – донской ли казак, башкирский или калмыцкий – лишь бы сражался храбро.
А заплаканный Буранбай всем показывал жалованную саблю с золотыми и серебряными украшениями и говорил многозначительно:
– По личному повелению Верховного! А вручил от имени Кутузова атаман Платов.
Как-то в штабе Кахым вполголоса спросил генерала Коновницына, тяжко переживавшего смерть полководца:
– Петр Петрович, а правда, что царь недолюбливал Михаила Илларионовича?
– А кого наш Александр Павлович любил, кроме самого себя? – усмехнулся Коновницын. – Ну, то дело прошедшее. Страшнее иное – некому заменить Кутузова. А война продолжается!..
Война действительно продолжалась. К Кахыму, когда он служил офицером связи в Главной квартире, некоторые генералы и старшие офицеры привыкли, а после рекомендации молодого князя Волконского и относились с доверием. От них он узнал, что царем ныне якобы вертели, как хотели, Беннигсен, Барклай-де-Толли, Витгенштейн. С ними Александр Павлович советовался, втайне мечтая без Кутузова прославиться, присвоить себе лавры победителя Наполеона.
Но французские войска еще сохранили боеспособность: беспощадно обирая немецких крестьян, солдаты отъелись, из Франции подвезли боеприпасы, и первая же схватка близ Люцена 20 апреля 1813 года закончилась для русских и примкнувших к ним прусских корпусов неудачно; потеряв свыше двадцати тысяч убитыми, ранеными и пленными, союзники отступили на Эльбу. Пришлось оставить и Дрезден. Майская битва при Бауцене тоже была проиграна, и армия Наполеона заняла Бреслав ль.
Император Александр перетрусил. Раньше неудачи, поражения, оставление Москвы можно было свалить на Кутузова – дескать, одряхлел старче, не справляется… А сейчас с кого спрашивать, кого обвинять? Самого себя?.. Австрия, Бавария, Саксония и Вюртембург все еще хранили верность Наполеону. Кто же выручит Александра Павловича? Барклай-де-Толли генерал умный, опытный, но в русской армии нелюбим.
В конце мая союзники и Наполеон подписали соглашение о перемирии. Обе стороны нуждались в отдыхе, в пополнении новобранцами, в боеприпасах, но русская армия быстрее воспрянула, возродилась, преодолела страшные потери зимних боев и маршей. И австрийцы это сразу же заметили – в июле Австрия откололась от Наполеона и примкнула к союзникам. Швеция, соблюдавшая нейтралитет, выжидавшая – кто кого одолеет? – объявила войну Наполеону. И соглашение о перемирии распалось само собой – пушки загремели… Все лето шли маневренные стычки. Наполеон требовал от своих постаревших маршалов, от так и не успевших основательно отдохнуть солдат невозможного: стремительных маршей, сокрушительных атак. Но французские корпуса и маршировали медленно, и атаковали робко… А надеяться на немецких «друзей» было наивно.
В октябре на равнине у Лейпцига сошлись две огромные многонациональные армии. У Наполеона, кроме французов, еще были саксонцы, голландцы, итальянцы, бельгийцы, немцы Рейнского союза и еще жалкие остатки польской кавалерии. У Александра могучим ядром наступления были испытанные Бородино и Березиной русские корпуса и австрийцы, шведы, пруссаки.
…В штабе армии Кахыму, как и всем командирам полков, подробно объяснили обстановку. Что и говорить, у французов позиции на высотках, сам город Лейпциг со средневековыми, из крепчайшего камня, башнями, стенами, монастырями, костелами – грозный узел обороны. Реки Парте, Палайсе и Эльстер с болотистыми берегами.
Вернувшись в полк, Кахым собрал сотников, рассказал о местности, о позициях французов, указал полосу наступления Первого полка. Сотникам было велено вести непрерывную разведку, выделить от каждой сотни по пять всадников с урядником.
– Полезем вслепую, наобум и погибнем! – предупредил Кахым. – А надо уцелеть и победить.
Когда сотники разошлись, Буранбай насмешливо хмыкнул:
– И на что надеется этот Наполеон? Погубил всю армию в русских снегах и еще пыжится!
Мулла Карагош не согласился:
– У издыхающей щуки зубы еще острее, чем у живой. Угодивший в капкан волк отгрызает себе лапу, чтобы высвободиться, и снова охотится, гонится за добычей, чтобы выжить. Так и Наполеон – ковыляет на трех лапах, но огрызается люто.
Кахым его поддержал:
– Верно рассуждаешь, хэзрэт. Нет страшнее в дремучем лесу подранка! Под Лейпцигом прольются ручьи крови, нет, реки!..
Утром джигиты вычистили, сводили на водопой лошадей, затем сами свершили омовение, готовясь к намазу. Кахым, как и все в полку, опустился на колени на кошму, повторял благоговейно за муллою слова молитвы-азана и слушал проповедь.
Лошадей было приказано не расседлывать. Джигиты плотно позавтракали – голодная зимняя пора уже забылась… Приказа на выступление из штаба не приходило. Не расходясь, чтобы по команде вихрем взлететь в седло, джигиты занялись каждый своим делом: кто точил саблю или копье, перетягивал тетиву лука, калил над костром стрелы, а кто чинил сбрую.
Кахым велел Ишмулле сыграть на домбре и спеть бывальщину о войне, чтобы всадники не заскучали.
Безбрежна башкирская земля,
Густо ветвисты роды и семьи.
Аксакалы читали фарман,
Собрались в полки сыновья.
Злобный дракон вполз в страну.
Трубы заиграли походную,
И пошли полки за Волгу.
Началась священная война!
Дракон в «год крысы» начал поход,
Поверг в огонь города, села,
Осиротил тысячи детей.
У француза глаза аждахи,
Руки как у шурале,
Глаза зеленые, как у ведьмы,
Кости стучат, как у бисуры[44]44
Аждаха – дракон, шурале – леший, бисура – кикимора.
[Закрыть].
Подстрелил я это страшилище,
Содрал кожу со спины,
Поставил клеймо конокрада —
Пусть детям-внукам показывает.
Закончив пение, Ишмулла долго отдувался, вытирал полотенцем вспотевший лоб – ему приходилось напрягать голос, чтобы и дальние земляки его услышали. Но едва слушатели рассыпались в похвалах, Ишмулла замахал руками, вскочил:
– Нет, нет, парни, бывальщина и верно славная, складная, но не моя, а великого певца Байыка. Старик, а как молодо звучит его песня!..
Буранбай подтвердил, что бывальщина действительно сэсэна Байыка, но оценил и талант Ишмуллы:
– Надо же запомнить и слова, и мотив! А какой звучный голос – на версты летит над рекою. Французы бы послушали…
– Им не до батырских песен и былин, – сказал в свою очередь Кахым. – Теперь у них, наверно, поют лишь заупокойные молитвы.
– Да, аксакал Байык вместе с нами воюет против французов своими песнями! – умно заметил мулла Карагош.
Пушки, французские и русские, погремели и смолкли, прокатилась ружейная трескотня и резко оборвалась, обе многотысячные армии подтягивали обозы, вели разведку, прикидывали в штабах планы грядущего сражения, решающего судьбу Наполеона, – это чувствовал и сам он, догадывался об этом и умный Барклай-де-Толли…
День в башкирских и донских казачьих полках прошел в бездействии, иные молодые джигиты и донцы были даже разочарованы, что не удалось столкнуться в рубке с французами.
А к вечеру заморосил холодный дождик, уныло монотонный, назойливый. Утром никто в полку и не позаботился о том, чтобы поставить шалаши, – считали, что заночуют в другом месте, может, в поселке или городке, где теплые дома и просторные конюшни.
Наспех поставленные из досок, жердей, окутанные войлоком шалаши протекали, джигиты мокли, кутались в чапаны, прикрывались паласами, жались друг к другу, но все равно мерзли.
Кахыма денщик и ординарец укрыли понадежнее, но и его пробрал озноб, и он поднялся, вышел. Вся долина была закутана сырым вязким туманом; изредка слышались одиночные ружейные выстрелы, перекликались зычно часовые, подбадривая и себя, и соседних караульных, предупреждая неприятеля, что даром русских и во мгле не возьмешь… Кахым перемотал отсыревшие портянки, надел густо смазанные дегтем сапоги, накинул плащ и вышел. У коновязей дремали, опустив морды, мокрые лошади, часто вздрагивали от стекавших по коже студеных капель.
«Трудно человеку на войне, – думал Кахым, расхаживая взад-вперед по лагерю полка; часовые, завидя командира, подтягивались, но он взмахом руки, а то и словом велел им смотреть не на него, а в сторону неприятельских позиций. – А начнется битва, и сколько же погибнет молодых, не познавших любви, отцовского счастья. Им бы самая пора веселиться в хороводах, на посиделках, в плясках, им бы влюбляться, жениться! А разве сам я уверен, что уцелею завтра? Да, убьют либо шальной пулей, либо взмахом французского палаша, похоронят на чужбине. Придет через месяц-другой в аул похоронка, согнутся от потери единственного сына отец и мать, зарыдает Сафия, осиротеет Мустафа, так и не порезвившийся с отцом, да и не привыкший к нему…»
Кахым встряхнулся: «Нет, накануне боя нельзя предаваться таким мрачным раздумьям!..»
В темноте послышалось чавканье грязи под чьими-то шагами. Кахым положил руку на пистолет – конечно, часовые надежные, но мало ли что… Из влажной мглы выступила высокая фигура Буранбая.
– Чего это тебя носит в полночь, агай? – без предисловия спросил Кахым.
– А тебе чего не спится, командир? – так же дружески-грубовато засмеялся Буранбай.
– Да вот всякое думается, – не покривил душой Кахым.
– И мне тоска сердце гложет, командир! Жаркое будет сражение! Пострашнее Бородинского. И французы, и их союзники, вплоть до рядовых солдат, понимают, что отступать дальше нельзя. Значит, будут стоять насмерть. – Он помолчал. – Если погибну, командир, напиши Тане письмо поласковее. Так и напиши: любил тебя, Таня, башкирский джигит… А сможешь завернуть к ней на обратном пути, передай на словах: любил!
– Да ну тебя, агай, – рассердился Кахым. – Нашел о чем думать-гадать накануне битвы!.. Не хочу тебя огорчать, агай, но напоминаю: твоя Таня – крепостная. Раба! К тому же православная. И лучше бы тебе самому от нее отказаться.
– Ну это уж мое дело! – взорвался Буранбай. – Знай край, да не падай, командир!
И, резко повернувшись, ушел.
«Обиделся? Но ведь я говорил правду».
Кахым не раскаивался, что выложил Буранбаю начистоту свои опасения.
К рассвету дождь рассеялся, но туман долго еще держался вязкий, тяжелый, над болотами и ручьями.
И загрохотали пушки. Лейпцигское сражение, вошедшее в историю как «битва народов», началось. Все больше и больше батарей – и французских, и русских – гремели могучими басами, слагая хорал смерти.
В Первом полку проиграли тревогу. Джигиты, все еще мокрые, но строгие, молчаливые, стояли у оседланных лошадей, держа их уздечки. Кахым обошел сотни – все казаки в полном снаряжении.
А день тянулся как опоенная кляча, впряженная в телегу с дровами. От болот, от раскисших после ночного дождя полей вздымались перехватывающие горло испарения. Туман поредел, но дым от пушечных выстрелов заволок холмы и берега речек непроницаемой пеленою.
И башкирские казачьи полки оставались в резерве.
Внезапно из обоза полка, где стояли фуры и телеги, раздался пронзительный, леденящий душу женский вопль, прервался на мгновение и снова взвился, усилившись, ожесточившись.
Кахым невольно вздрогнул:
– Что это там?
Ординарец и стоявшие неподалеку джигиты, переглянувшись, рассмеялись.
– Сахиба-енгэй рожает!
– Янтурэ строго-настрого наказал ей, чтобы обождала окончания битвы, а она вот не послушалась!
– Самое подходящее время рожать!
Кахым с трудом сдержал смех и сказал громко, весело:
– Если родится малец под гром пушек, то вырастет обязательно великим батыром!.. – Подумав, добавил: – Надо бы, если что, пригласить доктора из лазарета.
– Да разве она подпустит к себе мужчину-врача? – сказал Буранбай.
– Знахарей же приглашают в аулах к больным женщинам, – возразил Кахым. – Я ведь говорю: если случится что-то страшное. Походная жизнь! Морозы! Дожди!.. И, агай, – обратился он к Буранбаю, – прикажи Янтурэ не отлучаться от жены. А то ведь он умчится в бой.
– Да там у их повозки собрались все женщины, – сказал кто-то из строя сотни. – Кудахчут, как на базаре.
– И вообще надо бросить эту привычку – уходить в поход с женами, – раздраженно сказал Кахым. – Какая-то орда, а не казачий полк!
– Не пытайся менять старые обычаи, не вздумай, – остановил его многоопытный Буранбай.








