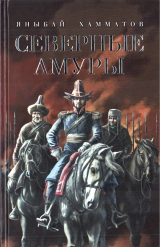
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц)
Выйдя из губернской канцелярии, шагая к дому Бурангула, есаул упрекал себя за то, что согласился ехать на границу. Там он будет оторван от родного народа, а это та же ссылка, но с офицерским жалованьем и почетом. Вернуться и отказаться? Пожалуй, после отказа он угодит в настоящую ссылку, сибирскую, без жалованья, но с унижениями и побоями!
Начальник кантона жил рядом с мечетью, высокий минарет которой остро царапал низко плывущее облачко, в одноэтажном, но солидном, сложенном из медово-желтых, в два охвата бревен, с резьбою над окнами и крыльцом доме.
Буранбай спросил работника, дома ли начальник, велел сходить на постоялый двор за его верховой лошадью и накормить ее.
И взошел на крыльцо.
Добродетельный Бурангул возлежал на широком кожаном диване в теплом стеганом халате, смуглое широкоскулое лицо со светло-карими проницательными глазами, окаймленное круглой, башкирского фасона бородою, было сумрачным: то ли дремал, то ли предавался мрачным размышлениям.
– Здравствуйте, агай! – поклонился Буранбай своему благодетелю.
– А! Приехал! Проходи, братец, садись. – Начальник спустил с дивана ноги в белых шерстяных, крупной вязки носках, натянул мягкие кожаные ичиги, прошел по домотканому паласу к столу. – Узнал о назначении? То-то!.. Благодари Аллаха. Сильно я беспокоился о твоей судьбе. Со всех сторон нашептывали Ермолаеву, что ты песнями и речами смущаешь народ. Парни подхватывают дерзкие твои песенки, поют их открыто и по избам, и в хороводах. Старшины юртов встревожены.
– Мне приписывают и сложенные другими музыкантами песни.
– Знаю, – начальник кантона опустился в кресло. – Слава твоя гуляет по всем кантонам. Народ полюбил тебя. И я люблю тебя.
Буранбай поклонился.
– Но завистники, враги набиваются тебе в друзья, пьют-бражничают с тобою, лезут в душу, а сами тем временем строчат доносы, чтобы выслужиться, получить вне очереди воинский чин, доходное место. Возблагодарим Бога, что тебя на дистанцию назначили, а не угнали в ссылку.
– Агай, я понимаю, что вы заступились за меня, – искренне сказал Буранбай и поклонился.
– А!.. Пустое. Защищаю справедливость. Верхнеуральск рядом. Могли бы назначить и в армию на западной границе.
– Но говорили, что наш царь помирился с французским императором.
– А! Временно. Наполеон – алчный, ненасытный завоеватель. Князь уверен, что война не за горами. Его старший сын пропал без вести под Аустерлицем. Князь сильно горюет. Так что, братец, на восточной границе служить куда спокойнее, чем в Польше.
– Я не трус! – Буранбай вспыхнул.
– А! Кто ж это подозревает! Начнется война, пойдешь воевать. А пока сиди в Верхнеуральске, около башкирской земли, ты кураист, ты певец, ты нужен башкирскому народу… Выпьем-ка кумыса, братец, – и Бурангул снял с деревянного гвоздя тяжелый бурдюк, налил пенящийся белый напиток в деревянные чашки. – Пей, кустым, поди, горло пересохло с дороги.
Гость тянул маленькими глотками, смакуя, наслаждаясь, вытер рукавом усы, крякнул:
– Э-эх, богатырский напиток!
– Как, силы прибавилось?
– Утроились силы, агай, такая бодрость, и кровь закипела.
– А! Поистине, кустым, наш кумыс – услада и исцеление от недугов, – и вдруг начальник сказал деловым тоном: – Слушай, тебе подполковник Ермолаев не намекал?
– На что? – не понял Буранбай.
– О благодарности. О подарке… Надо же сделать ему подношение за должность. Ну я все сам обделаю и тебе потом скажу, – успокоил он встревожившегося Буранбая, – а сейчас возьми курай и порадуй меня песней. «Баяс» помнишь?
Он закрыл глаза, откинулся на спинку кресла, и вскоре ресницы его увлажнились, ибо голос курая, волшебно-нежный, словно соловьиный, затосковал-заплакал о несбывшейся любви.
Бурангул буквально переживал песню о погибшей любви, губы его дрожали, мокрые ресницы трепетали, дыханье прерывалось, и душа скорбела.
Музыка скрепила дружбу, родство, единокровие, судьбу начальника и его питомца.
– А-а! – простонал Бурангул, едва мелодия умолкла, будто последнее дуновение степного ветерка. – Какая беда, какое горе сотворило эту песню!
Буранбай быстро отвернулся – он-то знал, чью погибшую любовь оплакивал голос его курая.
Для успокоения и хозяина и себя Буранбай снял со стены домбру, провел по разрозненно зазвеневшим струнам.
– Во времена Салавата башкиры играли главным образом на кубызе и на домбре. Домбра хороша тем, что музыкант и поет и сам себе подыгрывает. Муллы тогда запрещали домбру, считая, что грешно играть на ней, – ведь она сделана руками человека, а курай из тростника, сотворенного самой природой.
– Нынче попадаются и медные кураи, – заметил начальник.
– Это повелось от медных труб русских военных оркестров; так я лично считаю.
Буранбай проверил пальцами звучанье струн, прислушался – домбра звенела гармонично, значит, не расстроена.
И запел, умеряя силу молодого, неукротимо крепкого голоса:
Хай, да по дороге джигиты скачут
На резвых аргамаках.
Хай, да по дороге Пугач идет
Громить царское войско.
Хай, да по дороге полки едут,
Пыль столбом до небес.
Пугач царских начальников
Велел казнить при народе…
Начальнику кантона песня не понравилась – заерзал в кресле, с испугом покосился на дверь: плотно ли закрыта.
Хай, да по дороге войско идет,
Пугач его предводитель.
Кончится ли нужда народная
Без лютых царских начальников?..
– Остановись, братец, помолчи! – воскликнул Бурангул. Певец же, словно опьяненный музыкой и песней, продолжал:
Хай, да по дороге Пугач едет,
Кафтан казачий, сабля башкирская.
Земли-воды помещиков и баев
Отдал бедному люду.
Вскочив, Бурангул вырвал из рук певца домбру, швырнул ее в угол, струны всхлипнули от обиды, задребезжали.
– Злом за мое добро, за благоволение платишь? – с угрозой спросил начальник, подступая со стиснутыми кулаками к гостю. – Вора и грабителя Пугачева славишь?! А нас, значит, как баранов резать? Не зря, видно, на тебя жалобы строчат!
– Агай, благодетель и покровитель, не хотел тебя обижать, – чистосердечно признался Буранбай. – Разные начальники водятся. Не все же угнетатели! Морадым, Кусим, Алдар… Батырша, Юлай, Салават… Да мало ли справедливых! И к тебе, агай, народ относится уважительно.
Слаще меда пришлась похвала начальнику, успокоенно перевел он дыхание.
– Верно, кустым, у башкир всегда бывали добрые начальники. И я, грешный, стараюсь поступать в делах по божьим заветам и по народным обычаям. Но ты, братец, о Пугаче забудь, забудь, чтоб ни слова… Донесут Ермолаеву, что в моем доме славят кровопийцу, врага царицы Катерины, и несдобровать тебе… Я-то откуплюсь, – подумав, добавил он, – а тебе, кустым, ай-хай, – тюрьма, ссылка!
– Да разве песня о стародавнем вредна?
– Не прикидывайся наивным, кустым! Не притворяйся! Сам знаешь силу и власть своей песни. Имена Пугача и Салавата у молодых на устах. Твои песни парни подхватывают и переносят из аула в аул, как бунтарские призывы.
– Что ж, смолой склеить губы?
– Ай-хай, не разыгрывай из себя дурачка, в тебе, братец, ума хватит на двух-трех начальников кантона! – сердито сказал Бурангул. – Соловей погибнет без песни. И ты без песни, без музыки увянешь, захиреешь! Играй на курае, кубызе, на домбре, весели людей любовными песенками, а на праздниках и свадьбах ударь плясовую, пусть пляшут, танцуют, ведут хороводы. Желательно прославлять наших великих героев-батыров!.. Но о Пугаче ни-ни, молчок! Пугачева не вспоминай. Тридцать лет прошло после его казни, а народ от него не отшатнулся. Молодые ждут прихода нового Пугача и нового Салавата.
Спорить с начальником кантона бесполезно, Буранбай это понял. Порядочный, отзывчивый Бурангул и музыку любит, но ведь он – тархан[8]8
Тарханы – башкирские князья, баи, дворяне.
[Закрыть], он приближенный генерал-губернатора. У него власть, у него и деньги. Услышать ли тархану стоны и жалобы башкирской деревни! Какое! – толстые стены и плотные двери в его доме. Да, он любит музыку, но для услаждения. И Буранбая он опекает ради упоения собственным великодушием.
Теперь же начальник упивался своим красноречием:
– Живи смиренно, и покатится твоя судьба колобком по маслу. Пора жениться. Самый неистовый парень, женившись, утихает! У меня на примете в Шестом кантоне, в деревне Котлок дочь старшины Алмабикэ. Ммм! – Бурангул поцеловал кончики своих пухлых пальцев.
– Женитьба от меня не убежит, – буркнул гость.
– Нет, убежит! Алмабикэ – пятнадцать лет, заневестилась, цветет как роза! Отец с удовольствием сплавит ее за почтенного богача или за офицера. Тебе, братец, двадцать четыре года стукнуло – не юноша, а муж!.. – наговаривал благостным говорком начальник. – В твои годы удалой джигит четырех жен имеет и ребятишки по избе, как горох…
– Агай, я любил девушку, – признался в порыве тоски Буранбай, – любил светоч красоты и разума!.. Пока скитался, учился в Омске, ее выдали замуж за постылого. Я надеялся, что время-лекарь исцелит меня от любовного дурмана, но годы идут, а я по-прежнему и люблю и страдаю.
– Пустое! – небрежно отмахнулся начальник. – Она чужая жена. Чужа-а-я!..
– Мне бы ее повидать!
– А что толку? – пожал плечами начальник: он искренне не понимал, что такое верная любовь, до гроба.
После обильного обеда хозяин завалился на перины отдохнуть, а гостя служка провел в горницу, светлую, уютную с высокими окнами на улицу. На нарах была раскинута постель, но Буранбай подошел к окну, задумался… Жизнь сделала крутой поворот – надо ехать на дистанцию, еще дальше от любимой. Ему говорили, что в Верхнеуральском военном училище служит преподавателем Петр Михайлович Кудряшов, весьма образованный и не таящий свободолюбивых убеждений, родом из бедной солдатской семьи. Может, он скрасит одиночество дистанционного офицера?..
Вечерело. С минарета раздался певучий призыв муэдзина к намазу:
– Ал-лаху акбэ-е-ер! Ля-а-а илла-хи илля-а-а Ал-ла-ах!
Буранбай привычно потянулся к папахе, брошенной на нары, но к намазу не пошел – нет сил быть на людях… Темнело, и окна были уже не светлыми, а черными, с искорками далеких огней.
Скрипнула дверь. Буранбай узнал легкие осторожные шажки.
Не оглянувшись, спросил:
– А Бурангул-агай? А твой Кахарман?
– Глупый! – горячо зашептала Фатима. – И свекровь ушла к соседям. В доме ни души… Ну целуй скорее, жарче!
Она привлекла его к себе, к молодому, сильному телу, сотрясавшемуся от нетерпения, и объятия ее были страстными, – мог ли устоять джигит перед соблазном!
…Лежа в дремоте, в истоме на нарах, она сказала не таясь:
– Подслушивала твой разговор со свекром. У тебя, оказывается, любимая завелась!
– Давно завелась – с детства.
– Охотно поменялась бы с нею судьбою.
– Твой Кахарман богат. Рискнула бы бросить его?
– С любимым и в шалаше рай! – горько усмехнулась Фатима.
Во дворе гулко хлопнула калитка.
– Вернулись с намаза! – Она вскочила, поправила платье, волосы. – Не закрывай дверь на щеколду – приду ночью! – и бесшумно, словно мышь, выскользнула из горницы.
«В доме благодетеля! – терзал себя раскаянием Буранбай. – Он действительно меня любит, а я с его невесткой… Отблагодарил своего покровителя! Не-е-ет, уезжаю завтра же на кордон!»
6Писем из Петербурга, от семьи все не было и не было. Князь Волконский хмурился, еще усерднее бил поклоны перед иконами, но каждодневно совершал свои обычные прогулки по городу в скромном сюртуке, в коричневой шляпе, в широких брюках, именуемых в ту пору панталонами, и бодро стучал тростью по булыжнику. Днем князь занимался с Ермолаевым, принимал посетителей.
И наконец-то, запыхавшись, вбежал по мраморной лестнице в его кабинет камердинер, сказал радостно:
– Курьер, ваше сиятельство! Из Питера курьер!
– Веди сюда! – не по годам резво вскочил с кресла князь.
– Да он в пыли…
– Веди-и-и!
Молодой офицер в смятом мундире, со смуглым и от загара, и от дорожной пыли лицом, в тусклых от грязи сапогах вошел в кабинет стеснительно, но старик наградил его такой сияющей улыбкой, что юноша приободрился.
– Честь имею доложить, ваше сиятельство…
– Ладно, ладно, письма давай, говори, что там… – бесцеремонно нарушил воинский этикет генерал-губернатор.
– Княгиня Александра Николаевна здорова. Здесь ее письмо. На словах приказала передать, что приехать не сможет, пока не дождется сына Николая Григорьевича…
– Жи-ив?! – ахнул князь и часто-часто заморгал намокшими от слез отцовского счастья ресницами. – Николай!.. Николенька жив, значит?!
– Жив, ваше сиятельство, был в плену у французов.
Старик тотчас взял себя в руки, стукнул по ручке кресла крепким кулаком.
– В плену-у-у?.. Да ты понимаешь, что сказал, – Волконский в плену! Николай Волконский сдался в плен Наполеону! Позор и ему и мне, старику.
– Ради бога, ваше сиятельство, вы не дослушали! Он был ранен! Тяжело ранен! Лежал без сознания на поле боя. Княгиня все вам изложила в письме. И мне рассказала…
– Ранен? И тяжело? Лежал без сознания? – недоверчиво спрашивал князь, постепенно успокаиваясь.
– Да-да! В битве под Аустерлицем был ранен в голову. Французы привезли его, бесчувственного, в лазарет. Наполеон приказал своим врачам лечить молодого князя, а затем встретился с ним, выразил восхищение его храбростью, сказал, что отпускает в Россию.
– Отпускает? Где же Николенька задержался?
– Наполеон потребовал, чтобы князь дал ему слово два года не воевать против французов. И князь отказался наотрез: «Присягу давал и царю, и России! Окрепну, в руку – саблю, и в бой!..»
– Ура-а-а! Браво! – вскричал князь, глаза его блеснули молодой удалью. – Узнаю кровь и нрав Волконских! Спасибо, голубчик, обрадовали старика! – Он обратился лицом к иконам в красном углу, перекрестился, пошептал благодарственную молитву. – Молодец Николенька! А каково здравие князя Петра Михайловича[9]9
Петр Михайлович Волконский – зять князя Григория Семеновича, однофамилец, был тяжело ранен под Аустерлицем.
[Закрыть]?
– Рана зажила. Награжден Георгиевским крестом.
– Рад, душевно рад за Петра. О Михаиле Илларионовиче Кутузове что слышно?
Офицер замялся, пошевелил губами, повел плечом.
– Да разное, ваше сиятельство, если всех слушать, так голова кругом пойдет!.. Обвиняют его в поражении наших войск под Аустерлицем.
– Как? Что?! Михаила Илларионовича? – Кустистые брови старика дрогнули. – А сколько над ним было начальников?.. Ему же мешали.
– Ваше сиятельство, я передаю вам разговоры…
– Запомните, молодой человек, – попросил, тяжело задышав, Волконский, – Кутузова я узнал еще прапорщиком. Сплетни, сплетни, грязные сплетни! И ничему не верю! При мне Кутузов разгромил турецкие и татарские полчища – лично об этом свидетельствую. Из любого, казалось бы, безнадежного положения Михаил Илларионович обязательно найдет выход.
– Ваше сиятельство, ну при чем тут я, – взмолился курьер.
– Кутузов – выдающийся стратег!
Виски заломило, острая боль пронзила голову – личной обидой Волконскому были эти петербургские салонные разговоры о Михаиле Илларионовиче, эти дворцовые интриги, это злопыхательство. Князь Григорий Семенович был отлично осведомлен, что винить в поражении под Аустерлицем надлежит одного императора Александра – власть безграничная, а военных способностей в наличии не было, да и сейчас нет.
– Спасибо, голубчик, – сказал князь и, устало кивнув, отпустил офицера.
7Настал долгожданный день – начальник кантона вручил Ильмурзе вожделенную медаль старшины. Через день-два Ильмурза с семейством и имуществом, весьма скудным, перебрался в село Ельмердек, где ему предстояло ныне начальствовать.
Аул уютно раскинулся по берегам Ельмека. Невысокие, с плоскими вершинами горы полукольцом охватили село. Река была быстрая, бурливая. Избы стояли не по порядку, а то вкось, то поперек улицы, но ведь так застраивались тогда все башкирские аулы… Ельмердек Ильмурзе весьма понравился.
Перво-наперво он построил на пустыре около мечети дом шестистенный, из отборных бревен, с высокими окнами. Вместо чувала, исконного башкирского очага, возвел русскую печь, а в горницах поставил круглые голландки, обернутые листами кровельного железа, крашенного черным цветом. Нары застелены разноцветными паласами. Все по-городскому, все как у богатых оренбуржцев!
Деньги плыли сами в руки – и подарки, и вспомоществование на строительство дома, на обзаведение в Ельмердеке, и благодарности за советы, за выручку, за покровительство.
Держался старшина с достоинством, сообразно чину. Отвыкал от беспредметных разговоров, не хвастался. В гости шел с выбором и к себе в дом допускал лишь равных.
Бороду и усы подстригал аккуратно, голову брил наголо, носил тюбетейку и папаху такого же фасона, как у начальника кантона Бурангула. В гости, в мечеть шествовал неспешно, в чистой рубахе, в бархатном камзоле, поверх мягких сапожек натягивал кожаные калоши, а на груди сияла до блеска начищенная медаль.
Но в этот день Ильмурза надел военный мундир, лихо напялил на голову каракулевую папаху, подправил быстренько ножницами усы и бородку, перевесил с камзола медаль.
– Мундир в сундуке помялся, могла бы догадаться – вычистить, выгладить, – окрысился он на жену.
Сажида так и обмерла.
– Ничего не успевает, постарела! Придется, видно, брать в дом молодую жену!
– Ты же обещал моему брату не обижать мать, – выглянул из-за перегородки с книгой в руке Кахым.
– Мало ли чего обещал? Когда твой брат ушел на военную службу, я был голодранцем, а теперь кто? Старшина юрта.
– Русский разбогател – новый дом поставил, башкир разбогател – новую жену ведет в дом! – насмешливо скривил губы Кахым.
– Не учи отца! Осмелел! – рявкнул Ильмурза.
– Дитя мое, не перечь отцу! – взмолилась всепрощающая Сажида и дернула сына за полу бешмета.
– Ладно, ладно, – протянул Ильмурза. – И пошутить, вишь, нельзя! У меня на службе та-а-акие дела. Всюду нужен глаз да глаз. До молодой ли жены? А вот тебя пора женить. Матери уже непосильно вести хозяйство.
– Закончить бы сперва школу в Оренбурге, – робко заметила Сажида.
– В городе соблазна много, долго ли до греха! А женится, хомут на шею натянет и сразу поумнеет.
– Не стану сейчас жениться, – твердо заявил Кахым.
– Молчи! – прикрикнул, снова ожесточаясь, Ильмурза. – Кто это будет ждать твоего согласия? И вообще, когда отец с матерью разговаривают, ты молчи и мотай на ус. Мне четырнадцать едва стукнуло, когда женили на твоей матери. И видишь, живем советно, в согласии. Какая семья!.. На всеобщий почет. Тебе сколько еще учиться-то? Год? Ну через год женю, так и знай.
– Я хочу дальше учиться, в Петербурге или в Москве.
– Сперва женись, а потом скатертью дорога на все четыре стороны!.. Мы, старики, с невесткой останемся, глядишь, и с внуком нянчиться будем.
– Дитя мое, отец говорит правду, – робко заметила Сажида. – Аллаху будет угодна твоя женитьба.
Ильмурза повертел плечами, чтобы мундир плотнее облегал его расплывшееся тело.
– Жена, идет мне военная форма?
– Идет, очень идет, атахы, – поспешно рассыпалась в похвалах Сажида. – Батыр! Красавец батыр!
– Приходи на смотр, – бросил сыну Ильмурза и вышел.
– Приду, – вздохнул Кахым и захлопнул книгу.
За воротами старшину поджидали писарь и сотники.
– Как, все в сборе? – спросил Ильмурза не здороваясь.
– Давно в сборе, ждут, господин старшина!
Подали тарантас, кони раскормленные, холеные, гривы расчесанные.
Однако старшина возжелал прогуляться-промяться по главной улице аула, чтобы жители полюбовались своим начальником – важным турэ, его мундиром и бравой выправкой.
Шагал медленно, чинно, наслаждаясь тем, что стоявшие у домов старики, женщины низко кланялись. Большой турэ! Сам себе голова! Полноправный хозяин юрта!..
Идет, горделиво выкатив грудь колесом, а позади почтительная свита.
На пустыре, за аулом выстроились верхоконные джигиты. Махальные подняли пики с привязанными к копьям полотнищами, громко скомандовал есаул, сотники поскакали вдоль строя.
Ильмурза решил, что выходить пешком к джигитам – недостойно и чина, и звания, и должности старшины, по мановению руки ему подвели высокого раскормленного коня. Есаул, увидев, что старшина в седле, зычно скомандовал:
– Смирно-о-о!.. – И, подъехав к начальнику, бойко отрапортовал: – Господин старшина, две сотни башкирского казачьего войска выстроены.
Ильмурза помедлил для солидности, затем внятно, отчетливо сказал:
– Здорово, молодцы!
В ответ грянуло дружное:
– Ура-а-а!..
Старшина ехал вдоль строя в сопровождении есаула и сотников, внимательно рассматривал джигитов. Они в военных доспехах, как средневековые батыры: в кольчугах, панцирях, за спиною лук, в колчане стрелы, на поясе сабля и кинжал; у иных – копья. Лошади башкирской породы – низкие, но выносливые.
По обеим сторонам пустыря столпились женщины, старики, дети, молчаливо наблюдая за церемониалом смотра и с замиранием сердца ожидая, уж не объявят ли, чего доброго, что началась война…
Завершив объезд, Ильмурза обернулся к есаулу:
– Расскажи джигитам о приказах генерал-губернатора.
– Да они все знают, господин старшина.
– Повторенье – мать ученья. Говори!
Заунывно, словно муэдзин с минарета, есаул прокричал, что джигит башкирского казачьего войска, призываемый на действительную службу, должен иметь собственное оружие и двух лошадей; доставку им провизии обеспечивает население юрта.
– На каждого уходящего в армию мы должны собрать с жителей вспомоществования по четыре рубля пять копеек.
«До чего точно подсчитали: пять копеек! – хмуро сказал себе стоявший в толпе Кахым. – Прав Буранбай: дерут с народа семь шкур. Почему же начальники кантонов, есаулы, старшины, сотники не вносят денег на войско? Закон на стороне богатых… А бедняков притесняют и русские власти, и свои башкирские баи. Долго ли будут терпеть? Вот придет новый Салават-батыр, – мигом поднимется народ на борьбу».
– Все ли поняли господина есаула? Может, нужны разъяснения? – спросил Ильмурза.
– Мне нужно разъяснение! – поднялся на стременах десятник Азамат.
– Слушаю.
– Джигитам непонятно, господин старшина, как же это так – мы несем линейную службу на кордоне с половины мая до половины ноября. Сейчас глубокая осень… Зачем собрали наши две сотни? Или уходим в поход?
– Ты, Азамат, всегда забегаешь вперед! – рассердился Ильмурза. – Что за нетерпеливый характер! Башкирское казачье войско должно быть постоянно в полной боевой готовности.
– Чего ж тут не понять?! – И Азамат дерзко выпятил рыжие усики.
– Значит, молчи. Молчи-и-и! – Ильмурза погладил бороду. – У кого еще есть вопросы? Нету? Значит, слушайте.
Все – джигиты и жители – затаили дыхание.
– Господин генерал-губернатор князь Волконский собирал в Оренбурге начальников кантонов. Вчера господин Бурангул вызвал и меня в кантон… На границе неспокойно. Французский царь Наполеон опять замышляет недоброе. Оттого четырнадцать башкирских полков не вернулись домой – стоят в Польше. Значит, еще отправят туда полк из пяти сотен. Набор на этот раз небольшой – от нашего юрта уйдут всего восемнадцать конников. Пока! – многозначительно сказал Ильмурза.
Женщины подле Кахыма заголосили, завопили.
– Тиха-а-а! – рявкнул Ильмурза, вздыбив бороденку. – Не две сотни, а всего восемнадцать! Ревут, как перед Страшным судом!
Кахым услышал, как невесело усмехнулся джигит в строю:
– На этот раз очередь моя!
– Да, твоя, – согласились его соседи.
– Вернусь ли живым?
– Э-э, милый, война вспыхнет, так и мы тебя догоним! – успокоили приятели. – И не то что две – три сотни уйдут из юрта, четыре!
На рассвете призывники в конном строю ушли в Оренбург.








