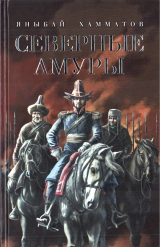
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
Пожар в Москве был не праздничной иллюминацией в честь великого полководца, а траурным салютом. От радужных упований Наполеона не осталось и следа. Император попал в тупик. Продовольственные московские склады сожжены. Добывать провиант в подмосковных селах – невозможно: партизаны истребляют начисто целые батальоны, а уцелевшие солдаты превращаются в мародеров, грабят и своих, и русских. Зимовать в Москве? А если отпадут и без того-то ненадежные союзники – австрийцы, пруссаки, баварцы? Испания не покорена.
Надо предлагать русскому царю мир, почетный, не обремененный контрибуциями, требованиями территориальных уступок.
И Наполеон то через генерала Тутолмина, то через московского барина Яковлева, отца великого Александра Ивановича Герцена, будущего неистового бунтаря, посылает Александру заискивающие намеки на возможность немедленного и неунизительного мира.
Ответа не последовало.
Отчаявшись, Наполеон послал в Тарутинский лагерь, к Кутузову, маркиза Лористона, бывшего французского посла в России перед самой войною, с непреложным требованием: «Мне нужен мир, лишь бы честь была спасена».
Маркиз поехал неохотно, заранее не надеясь на удачу, вернулся через два дня с унылым лицом и мрачным сердцем.
– Встретились с Кутузовым? – нетерпеливо спросил император.
– Встретился, ваше величество. Свыше часа беседовал!
– И?..
– Кутузов тоже не согласен даже на кратковременное перемирие. – Маркиз прятал глаза, страшась испепеляющего взгляда взбешенного Наполеона. – Фельдмаршал возликовал, прочитав ваше письмо, – догадался… Держался уверенно, достойно. Я попросил от вашего имени прекратить действия партизан, варварски нарушающих законы войны, законы, принятые между цивилизованными народами. Кутузов рассмеялся и пренебрежительно отмахнулся, сказав: «Наша война только начинается».
Одутловатое, с желтизной на жирных обвисших щеках лицо Наполеона побелело, лоб покрылся испариной. Он резко махнул рукою, и маркиз плавным плывущим шагом направился к дверям.
А Михаил Илларионович выжидал, прикидывал в уме, изучая карту боевых действий, сколько подкреплений получила его армия, где расположены вражеские дивизии и сколько французских фуражиров перехватили и уничтожили партизаны. Вот на столе последнее донесение Фигнера:
«Петр Петрович!
Преступил повеление Его светлости и исполнил его волю, побыв в неприятельской армии. Армия стоит на прежнем месте. В Вороново два пехотных полка. Французы терпят крайний недостаток в хлебе, который ищут с величайшей дерзостью, но я за оную их строго наказываю…
Фигнер».
– Строго наказываю!
Каждый день укреплял русскую армию и расшатывал, обескровливал армию Наполеона.
Дежурный по Главной квартире полковник Кайсаров доложил, что с Дона, из Арзамаса и Мурома полки прибыли в Тарутино, дивизия генерала Урусова подходит к Туле.
– Что ж, пора начинать! – вяло произнес фельдмаршал.
– Конечно, ваше сиятельство! – горячо воскликнул Кайсаров.
– Нет, до генерального наступления еще далеко, – охладил его пыл мудрый старец. – Да и нужно ли оно?.. Конечно, при дворе недовольны моей медлительностью, да и генерал Беннигсен шлет туда доносы, но… Но сейчас пора разгромить корпус Мюрата. Где Петр Петрович?
– Генерал Коновницын еще не вернулся из передовых полков.
– Ну когда приедет, отдохнет, тогда и приносите план операции.
Сказав это, фельдмаршал устроился покойнее в кресле, открыл французский роман – русский патриотизм не мешал старику читать любовные французские романы, – но вскоре задремал. Время от времени он просыпался и думал – вовсе не об императоре Александре, им недовольном, не об интригах Беннигсена, а о русских мужиках, на которых слезно жаловался ему маркиз Лористон: они, дескать, истребляют французских фуражиров и отставших от своих частей солдат. Кутузов в ответ пожал плечами и обронил: «Они относятся к французам, как к орде вторгшихся татар под командой Чингисхана».
Поздним вечером Коновницын и Кайсаров принесли фельдмаршалу оперативную карту и приказ.
– Наступление начнется семнадцатого октября. Пехотные полки и десять башкирских и оренбургских казачьих полков затемно ударят по левому флангу Мюрата в направлении села Спасского. Главные наши силы, – Петр Петрович перечислял названия дивизий и корпусов, – будут атаковать с фронта. Партизаны Фигнера и Дорохова должны взять село Вороново, разбить два стрелковых полка неприятеля, стоящие там, и перерезать коммуникации противника.
Диспозиция была подробная, но фельдмаршал сидел безучастно, и Коновницын переглянулся с Кайсаровым, решив, что старик задремал, но именно в этот момент Михаил Илларионович зорко взглянул на них и твердо сказал:
– Своеобразие этого короткого боя, – он повторил, – короткого… во внезапности нападения наших кавалерийских и казачьих полков. Фигнер, Дорохов и Сеславин постоянно докладывают, что у Мюрата караульная служба из рук вон плоха. Вот и воспользуемся этой неразберихой. – Он плутовски усмехнулся. – Но это не решающее сражение. Значит, артиллерию резерва к бою не привлекать. Тарутинский лагерь оставить в полной неприкосновенности – шалаши, палатки, балаганы, землянки. Костры должны пылать всю ночь. От каждого полка оставить офицера, от каждой роты унтер-офицера и трех рядовых для охраны лагеря, соблюдения порядка.
– Слушаю! – Коновницын кивнул.
– Их превосходительство барон Леонтий Леонтьевич Беннигсен жаждет показать свои полководческие способности, – дребезжащим, слабым голосом продолжал Кутузов, и нельзя было догадаться, то ли он говорит раздраженно, то ли насмешливо. – Просит разрешить ему командовать армией. Мне пришлось уступить и согласиться. Так что идите сейчас к нему и с картой, и с диспозицией. Да, подождите! – остановил он Коновницына и Кайсарова. – Надо доложить государю о плане операции. С пакетом пошлите князя Волконского. И попросите его перед отъездом в Петербург заглянуть ко мне.
Молодой князь Волконский был красив, строен, учтив, и фельдмаршал с удовольствием смотрел на сына своего боевого соратника Григория Семеновича Волконского, затерявшегося в далеком Оренбурге.
– Садитесь, Сергей Григорьевич, – приветливо пригласил он князя. – Мне надобно вам сказать о серьезных делах. Официальные бумаги бумагами, а при встрече с государем императором расскажите ему…
Получив пакет, Волконский быстро сбежал с крылечка и пошел к поджидавшей его тройке с гремучими валдайскими колокольцами.
– Ассалямагалейкум, князь Сергей Григорьевич! – окликнул его молодым звучным голосом стоявший у ворот офицер.
В изумлении Волконский оглянулся – Кахым.
– О! Кахым! Джигит! Земляк! – Он обнял просиявшего от такого дружелюбия Кахыма. – Где вы сейчас?
– К сожалению, не в строю. Состою при Главной квартире офицером связи. Сейчас вернулся от героев «малой войны».
– Что ж, и это необходимо, – подумав, пожал плечами князь. – Я вот с первого дня войны был на фронте, в кавалергардском полку Первой армии сражался под Островно и Смоленском. Далее Бородино… А сейчас тоже стал офицером связи, фельдъегерем, скачу вот в Петербург. И это надо.
– Надо, согласен… Но меня тянет в строй.
– Вполне понимаю ваши стремления. – Волконский вдруг спросил: – В Семеновском полку бываете? Встречали кого-либо из питерских знакомых?
– Да, видел, беседовал с Трубецким Сергеем Петровичем, с Чаадаевым Петром Яковлевичем… Получил истинное наслаждение от общения с такими просвещенными людьми! – горячо сказал Кахым.
Князь спросил, понизив голос:
– А что это за слухи, что в Семеновском полку начались волнения, когда кто-то сболтнул, что государь согласен на мир с Наполеоном? Будто офицеры и солдаты заявили, что начнут сами по себе партизанскую войну с захватчиками?
– Мне тоже говорили об этом, – медленно сказал Кахым, – подробностей не знаю, но думаю, что и в башкирских полках начались бы волнения. Что же это за мир, если французы сквернят нашу землю?! Только фельдмаршал, да продлит Аллах его дни, указал Лористону на дверь!
– Да, наш старик – кремень! – восхищенно воскликнул князь.
К нему приблизился щеголеватый адъютант:
– Ваше высокоблагородие, их превосходительство генерал Беннигсен просят вас пожаловать к нему, – с особо изысканной деликатностью проворковал он.
– Ну, прощайте, земляк! Бог даст, увидимся еще, – сказал Волконский мягко и зашагал за щеголем-адъютантом.
13Сражение началось не семнадцатого, а восемнадцатого октября, Кахыма послали офицером связи в корпус Орлова-Денисова. Всю ночь шел дождь со снегом, земля разбухла, стала ноздреватой, но это коннице не помеха: первый удар, еще в рассветной мгле, платовских казаков и башкирских джигитов опрокинул французов, солдаты бежали в панике, бросая ружья, на позициях артиллерии были захвачены и сразу увезены в тыл неповрежденные пушки – ни одного выстрела не успели сделать растерявшиеся батарейцы.
Левый фланг Мюрата атаковал Второй стрелковый корпус генерала Багговута. И здесь французы дрогнули, попятились, но в разгаре схватки Багговут, идущий в первом ряду атакующих пехотинцев, был убит. Среди солдат возникло замешательство. Шеренги остановились, маршалу Мюрату удалось восстановить порядок в рядах своих полков.
Кахым послал с ординарцем донесение в Главную квартиру о сокрушительной атаке казаков Орлова-Денисова и поскакал к центру боя, чтобы узнать там новости.
На пути его перехватил Коновницын и велел следовать за ним.
В расположении корпуса Багговута они наткнулись на растерянного генерала Беннигсена; обычное высокомерное выражение на его лице сменилось гримасой страха.
– Что с вами, Леонтий Леонтиевич? – вырвалось у Коновницына.
– Нужны подкрепления! – срывающимся голосом выкрикнул Беннигсен, поправляя дрожащими пальцами плюмаж на треугольном кивере. – Посылал адъютанта к фельдмаршалу – отказал.
– Баталия еще только началась, какие же у вас потери? – изумился Коновницын.
– Но егеря Багговута остановились, – тоном капризного мальчика пожаловался Леонтий Леонтиевич.
Коновницын пришпорил взвизгнувшего от боли и обиды жеребца и помчался в расположение Четвертого корпуса. Спрыгнув с седла, он выхватил знамя из рук унтер-офицера – знаменосца и побежал вперед, тяжело увязая в раскисшей пашне:
– Ребята-а-а, за мной! Сыны Отечества-а-а!.. В атаку!
И произошло то чудо, которое случается лишь на войне, – скоротечная оторопь прошла, солдаты превратились в разъяренных смельчаков и со штыками наперевес, смыкая расстроенные было ряды, бросились в атаку, а русскую штыковую атаку не выдерживали самые стойкие, самые вымуштрованные пехотинцы.
Сорок шесть стрелковых батальонов, превратившись в могучий клин, врезались во вражеские позиции, продвинулись глубоко к Тетеревинке.
Конвойные догнали Коновницына, опьяненного безумием атаки, выхватили из строя егерей, передали знамя солдатам и увезли генерала в безопасное место. Петр Петрович и сопротивлялся, и ругался, но затем смирился, зная, что его дело управлять боем.
А бой продолжался, и Мюрату все же удалось в полном порядке отвести части своего корпуса за реку Чернишну, к Спас-Купале.
Тщетно неистовствовал Беннигсен, посылая адъютанта за адъютантом к Кутузову, клянясь, что полностью разгромит французов, если получит подкрепление. Старик щурил единственный глаз и отмалчивался.
Ранние зимние сумерки сами по себе остановили битву. Горнисты трубили сбор. Солдаты собирали раненых, увозили трупы погибших друзей на Тарутинское кладбище. Офицеры связи разъезжали по частям, передавая приказ фельдмаршала выслать разъезды, выставить полевые заставы и возвращаться в лагерь.
Кутузов приказал подать коня, с трудом, шевеля обширным животом, со скамеечки, подставленной денщиком, влез в седло и в сопровождении Коновницына и охраны затрусил на смирной кобылице в лагерь.
Всюду пылали костры. Солдаты весело переговаривались, с хохотом вспоминали, как «мусью» улепетывал, бросив ружье, не оглядываясь.
– Нет, ослабла гайка у француза! – слышались возбужденные голоса. – Не принимают штыкового боя!
Фельдмаршала встречали восторженными криками «ура», кидали вверх фуражки и кивера, теснились вокруг, чтобы хоть издалека увидеть великого старца.
Кутузов проверял, сварена ли каша на ужин, вкусна ли, с маслицем ли, спрашивал у офицеров имена отличившихся в бою, благодарил героев, обещал завтра наградить медалями, а между тем отеческая похвала полководца была дороже всех отличий и регалий.
«Вот в чьих руках судьба России! – растрогался старик. – Конечно, их превосходительство Беннигсен уже настрочил на меня царю очередной донос… Что ж, не привыкать!.. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Мудрая пословица. Раненый зверь обороняется со смертной яростью. Надо стрелять в него наверняка, чтобы уложить наповал!»
У расположения башкирских полков фельдмаршала встретил Кахым, откозырнул, почтительно попросил их светлость заглянуть к джигитам – они так обрадуются…
– Каково настроение у казаков, голубчик? – душевно спросил Кутузов.
– Замечательно!.. Беспощадно рубились. Я-то, ваша светлость, знаю, что Мюрат – любимчик Наполеона, а значит, и его кавалерия находилась в привилегированном положении. Джигиты уйму лошадей захватили и увели – кони с тела не спали. Выходит, было и сено, перепадал и овес!
– Меткое наблюдение! – кивнул Кутузов.
От костров слышалось дружное пение, в студеном ночном воздухе крепко гудели молодые голоса.
– Что это за песня? – остановив лошадь, заинтересовался Кутузов.
– Вам славу поют, ваша светлость! – радостно сказал Кахым. – Сложили гимн в честь Кутузова. У нас ведь каждый джигит либо певец, либо музыкант, либо сочинитель песен и былин. А попадаются и такие, которым все удается: они играют на курае или домбре, сами слагают и исполняют песню, – весело закончил он.
Фельдмаршал различил в хоре «Кутус» и попросил Кахыма перевести слова.
Прислушавшись, Кахым начал медленно переводить, а кое-что и присочинять тут же, на свой манер. Но искренне:
Герой, хай, герой Кутузов
Прошел и огонь, и воду.
Полководец, хай, Кутузов —
Великий батыр,
Хай, батыр.
Французскую нечисть громит;
Страх на врагов наводит.
Полководец, хай, Кутузов —
Великий батыр,
Хай, батыр.
Россия, хай, широка, славна,
Мать-Россия к нам добра.
Полководец, хай, Кутузов —
Великий батыр.
Хай, батыр.
И солдаты все – герои,
Дружно бьют врага.
Полководец, хай, Кутузов —
Великий батыр,
Хай, батыр.
Михаил Илларионович от умиления всхлипнул, слезы текли по его морщинистому лицу.
– Наградить! Сам проследи, голубчик, чтоб ни одного отличившегося не забыли, – попросил он Кахыма и повернул лошадь к своему дому.
Через час Коновницын принес фельдмаршалу черновик боевого донесения: французы потеряли свыше двух с половиной тысяч солдат и офицеров, русские примерно одну тысячу, наши потери еще уточняются… Захвачено 36 пушек, 50 зарядных ящиков, знамя.
– Что ж, посылайте, голубчик, императору и в военное министерство, – распорядился Кутузов. – Все правильно. Удачная пред-ва-ри-тель-ная схватка.
– Леонтий Леонтиевич негодует, что ему по вашему приказу пришлось вернуть войска на двенадцать верст назад, на исходные позиции, – подчеркнуто бесстрастно заметил Коновницын.
– Пускай негодует, пускай доносит. Баталия пред-ва-ри-тель-ная… – и старец закрыл глаза.
Петр Петрович бесшумно вышел.
Михаил Илларионович погрузился в глубокие размышления: «…Немудрено было Мюрата разбить при Чернишне, но надобно было разбить дешево для нас. Первый раз французы потеряли столько пушек и первый раз бежали как зайцы».
14Двадцать второго октября 1812 года прапорщик Языков с разведывательным казачьим разъездом беспрепятственно въехал на окраинную улицу Москвы. Бездонная, могильная тишина и страшила, и завораживала его. В полуразрушенном доме казаки нашли старика хозяина, привели к офицеру.
– Грохотали вчера и сегодня утром взрывы там… – он показал в сторону Кремля. – А потом все затихло.
Языкову не отказать в удали, и он велел казакам ехать вперед. Сгоревшие и растащенные на дрова дома уныло отмечали линии улиц. Смрадно несло пеплом с пожарищ. В колокольнях разграбленных французами церквей свистел забубенный ветер.
Цокот и стук копыт казачьих коней прозвучал для уцелевших москвичей праздничным благовестом, они выглядывали из погребов, сараев, осмелев выбегали, смеясь и рыдая, бросались к казакам.
Казаки Языкова доскакали до Кремля. Иван Великий сиял как золоточеканный шлем былинного русского богатыря, но стены кое-где были подорваны.
Москва была пуста. Французы ушли.
– Надо известить фельдмаршала Кутузова, – веря и не веря глазам своим, ликующе воскликнул Языков.
Но Михаил Илларионович знал еще три дня назад, что исход Наполеона из Первопрестольной начался.
Первый рапорт он получил от вездесущего и всезнающего Сеславина – его разведчики и сами видели, и от пленных французов узнали, что неприятель выводит войска на Калужскую дорогу.
Затем, нарушая всяческий военный этикет, к верховному вбежали генерал Коновницын и полковник Толь:
– Ваша светлость, свершилось – Наполеон покинул Москву!..
Их глаза сияли счастьем, губы дрожали – закаленные в боях ветераны готовы были вот-вот разрыдаться.
– Да верно ли это?
– Верно, ваша светлость, верно! Прискакал адъютант генерала Дохтурова Волконский.
– Зовите сюда, – приказал фельдмаршал.
Изнемогший от бешеной скачки по ночным проселкам Волконский сперва запинался от волнения и усталости, затем начал говорить связно: да, разведчики видели, как из Москвы в ночь на девятнадцатое октября выходили и выходили полки, батареи, обозы на Калужскую дорогу. Шагали пехотинцы, трусили мелкой рысцой кавалеристы, скрипели колеса бесчисленных телег с награбленным в Москве добром.
– Генерал Дохтуров перепроверил первые донесения разведчиков? – строго осведомился фельдмаршал.
– Так точно, ваша светлость, был послан офицерский разведывательный пикет. Видели воочию – армия движется на Пахру, на Калугу.
– Слава Богу! – Кутузов осенил себя тяжелым крестом, рухнул на колени перед иконами в красном углу. – Господь, породивший меня на свет, ты услышал наши моления, ты сжалился над нашими слезами… Россия спасена. Благодарю Тебя, Боже всесильный и всемогущий!
Коновницын, Толь и денщик помогли плачущему старцу подняться, усадили в кресло. Денщик сунулся было к нему с кувшином и тазом для умывания, предварительно встряхнув и без того тщательно вычищенный мундир, но фельдмаршал оттолкнул его и, как был в халате на заячьем меху, обратился к Коновницыну:
– Петр Петрович, голубчик, если Наполеон идет на Калугу, то, следовательно, надо его остановить перед Малоярославцем. Распорядитесь!
«Ему и карта не нужна – все помнит и все видит единственным глазом. Какое величие ума и сердца!» – с теснящим грудь благоговением подумал Коновницын.
– Дохтурову оборонять Малоярославец. Усилить его части четырьмя казачьими полками Платова и двумя башкирскими полками. В Москву отрядить корпус Кудашева – пусть спасают то, что еще можно спасти от мародеров, наводят порядок.
– Слушаю.
Передовым в корпусе князя Кудашева шел полк майора Лачина, офицером связи был здесь Кахым.
Поруганный, в пепелищах и развалинах вечный город встретил джигитов не хлебом и солью, как полагалось бы по обычаю, и не песнопениями, а горем осиротевших бездомных детей, слезами вдов солдатских и матерей, потерявших своих сыновей.
По Калужской дороге еще тянулись тяжело нагруженные награбленным у москвичей имуществом фуры. Вокруг поспешно шагали французы, напялившие на себя меховые шубы и даже женские салопы на меху, похищенные из брошенных московскими барами особняков.
Майор Лачин послал вдогонку с двумя сотнями Буранбая, а сам с оставшимися джигитами поскакал к Кремлю. К счастью, дожди подмочили фитили фугасов и мин, и взрывы разрушили в кремлевской святыне лишь Арсенал и кое-где стены, обрушилась с одного боку Никольская башня. Начались пожары в Грановитой палате и соборах, но, по указанию Лачина и Кахыма, джигиты быстро справились с пламенем. Майор выставил охрану вокруг кремлевских дворцов, церквей, монастырей.
Онемевшие при французах колокола церквей звали верующих на молебны в честь избавления столицы от власти наполеоновских хищников и грабителей.
– Война, битва, ну ладно, это я еще понимаю, – возмущался Кахым, – но взрывать кремлевские дивные храмы, дворцы, – что за варварство! Я мусульманин, но русскую церковь не оскверню. Но это же европейцы!
– Вся низость Наполеона проявилась в этой жалкой мести, – согласился с ним Лачин.
– Хочу съездить к старшине Буранбаю, – обратился к майору Кахым.
– Да, да, посмотрите, что там делается, а если понадобится, то и помогите, – обрадовался Лачин.
Кахым в сопровождении ординарца поехал размашистой рысью к заставе. То и дело приходилось объезжать на улицах завалы из обрушившихся стен каменных дворянских особняков, из полу обгорелых бревен деревянных домов, раскатившихся по мостовой. Всюду лежали груды мусора, грязи, навоза от французских лошадей.
Москвичи окончательно поверили, что пришел час освобождения, и светло улыбались молодому красивому офицеру, так молодцевато сидевшему в седле, а дети встречали его ликующим визгом.
У заставы джигиты Буранбая уже разбили привал, свезли и поставили под охрану отбитые у беглецов фуры, телеги, повозки с добром, складывали на землю ружья убитых французов. Кахым расспросил Буранбая, как прошло преследование отступавших французов, каковы наши потери, велел подсчитать трофеи, чтобы послать донесение в Главную квартиру.
– А я песню сочинил, – усмехнулся Буранбай в усы. – Слова, понимаешь, так сами и просятся взлететь как птицы! – И обернулся к Ишмулле: – Ну, не забыл мотив?
– Как можно? – обиделся молодой музыкант, приложил сладкоголосый курай к губам, и крылатая песенка вспорхнула, пролетела над лагерем.
Буранбай запел уверенно, полнозвучно:
Начинали мы войну,
Попрощались с женами,
Разгромили французню,
Вернемся со славою.
Любезники, любизар,
Молодец, молодец.
Ворвались французы в город,
Стольный град Москву,
Наше войско их зажало,
Убежали восвояси.
Любезники, любизар,
Молодец, молодец.
Теперь и джигиты запомнили припев и гремели могуче, в упоении своей силою.
«Молодцы! – гордился ими Кахым. – Есть и шестнадцатилетние, а как смело лезут в пекло боя. С такими удальцами да не уничтожить полчища Наполеона!»
А Буранбай вел и вел широко, торжественно победную песню:
Бонапарту не сидится
В стороне родной,
Как дополз до стен московских,
Растерял покой.
Любезники, любизар,
Молодец, молодец.
Бонапарта колотили,
Быстро попритих.
Там русские, здесь башкиры,
Не найдет следов своих.
Любезники, любизар,
Молодец, молодец.
– Ах какой же ты, Буранбай-агай, чародей! Какие прочувствованные слова, какой мотив! Так и западает песня в душу. Надо бы ее записать, обидно, если забудется, – горячо сказал Кахым, обнимая с седла вдохновенного певца.
– Сейчас мне надо воевать без устали! – вразумительно ответил Буранбай. – А погибну на поле сечи, родятся в народе новые певцы.
– Так-то оно так, – не согласился Кахым, – но ведь надо бы передать внукам-правнукам песни войны.
– А может, и удастся, – мечтательно протянул Буранбай. – Может, и вправду не исчезнут наши песни.
Кахым написал донесение, отыскал князя Кудашева, получил от него рапорт и личное письмо фельдмаршалу.
– Здесь мне пока делать нечего, сам поеду в Главную квартиру, – сказал он.
– Да, поезжайте, Лачин наведет порядок, он человек железной руки, – кивнул князь.
Вечерело. Карагош-мулла служил намаз прямо на улице, и джигиты, постелив кто бешмет, кто кошму, кто дерюгу, коленопреклоненно отбивали поклоны, возносили молитвы и за убиенных, и за уцелевших воинов.
В деревне Леташовка Кахым узнал, что фельдмаршал со штабными генералами и офицерами уехал к Малоярославцу. Отдыхать не приходится… И усталый Кахым сменил лошадь, оставил ординарца на квартире, дежурный по Главной квартире снарядил ему двух донских казаков и проводниками, и конвойными. До Малоярославца верст сто по прямой, а ведь придется ехать окольными проселками. Лошадь шла ходко, казаки не отставали, но Кахыма клонило в сон, он то и дело ронял голову на грудь, засыпал на мгновение, снова пробуждался и вновь погружался в забытье. Виделись ему Сафия и сынок Мустафа на цветущем лугу, под знойным летним солнцем. Благословенная башкирская степь благоухала медовым разнотравьем. Пчелы, шмели тянули в загустевшем от жары воздухе звонкие струны. Очнувшись, Кахым бормотал вполголоса:
Едем мы по военной дороге,
Выстроившись клином, как журавли,
Защищаем родимую землю,
Не щадя крови и жизни.
Подковали мы коней надежно,
Зимняя дорога ледениста.
Спасет Аллах наши головушки,
Вернемся к женам и детям.
Рассвет зачинался мутный, серый, овражки залило туманной пеленою. Навстречу все чаще и чаще попадались телеги, везущие раненых, – людские страдания, со стонами, а иногда и безмолвные, а в молчании-то они еще страшнее, – колыхались в ухабах, залитых жидкой грязью.
– Ну как там, ребята? – спросил Кахым усатого солдата с повязкой с пятнами запекшейся крови на голове.
– У-у-у, француз так и ломит напропалую, но мы его славно расчихвостили, ваше благородие! – сказал, прерывисто, со свистом дыша, солдат.
– Значит, завязалась грозная баталия! – воскликнул Кахым и ускорил шпорами и поводьями бег коня.
Пушки гремели оглушительно, могуче, дробью рассыпались ружейные выстрелы, изредка ненастное утро взрывалось дружным «ура» – бой разгорался совсем близко, за лесом.
Часовые остановили Кахыма, расспросили и указали на деревенский дом с краю пригородной деревушки. За широкой, но мелководной речкой горел город, дым, то светлосерый, то с дегтярными струями, заволакивал золотые кресты церквей и монастырей.
У дома стояли привязанные к коновязям лошади с подвязанными хвостами и опущенными подпругами. «Крепко же вам досталось!» – сразу определил заядлый лошадник Кахым, видя, как дымятся, словно отлакированные, бока загнанных лошадей курьеров и офицеров связи.
Непрерывно из дома, звеня заляпанными грязью шпорами, выбегали офицеры, кричали своим вестовым и конвойным, и те подтягивали подпруги на не успевших передохнуть, пожевать сена лошадях, взнуздывали их, раздирая слюнявые губы, и подводили к крыльцу. И в это же время от реки скакали офицеры, нещадно хлеща замотанных, с шальными глазами лошадей, слетали с седла, вбегали в дом, а казаки принимали, отводили шатавшегося коня.
Кахым оставил своего скакуна казакам, пошел в дом. На столе желтыми лепестками, вздрагивавшими, когда дверь открывалась и закрывалась, горели свечи, лежали карты. Михаил Илларионович сидел в красном углу под образами, и отечное лицо с тяжелым подбородком было еще бледнее, еще немощнее обычного.
Кахым отрапортовал, протянул личное письмо Кудашева тестю, пакет с донесением, свое донесение.
– А-а! – без удивления, вяло произнес фельдмаршал. – Ушли французы? Кремль уцелел? Ну и слава Тебе, Господи! – Он перекрестился, по-стариковски всхлипнув.
К удивлению Кахыма, Михаил Илларионович даже личное письмо зятя не стал читать, а отдал нераспечатанным вместе с остальными бумагами Коновницыну:
– Петр Петрович, распорядитесь.
«Все его помыслы, все чувства отданы битве в Малоярославце, – подумал Кахым. – Здесь заслон отступающему Наполеону. Выдержит ли?..»
– Петр Петрович, надо оставить в Москве сотни две-три казаков для порядка, а корпус князя Кудашева подтянуть сюда, – продолжал Кутузов.
В это время вошел запыхавшийся, смертельно уставший, с крапинками засохшей грязи на щеках адъютант генерала Дохтурова.
– Пришел корпус генерала Раевского? – без предисловия спросил Кутузов.
– Так точно, ваша светлость. Уже задействован в бою. Французы вторично отступили за кладбище. Генерал Дельзон убит – это вполне надежные сведения от пленных французов. Сейчас к городу подходит корпус маршала Даву. И об этом сведения достоверные – только что вернулись дальние разведчики. Целые улицы, ваша светлость, в огне. В пламени гибнут и наши, и французские раненые. Бой в городе штыковой, грудь в грудь.
– Ну штыкового удара французы не выдержат, – сказал кто-то из генералов, сидевших на лавках у стены.
Послышался негромкий смешок.
Кутузов радостно улыбнулся, но тотчас обратился к Коновницыну:
– Петр Петрович, теперь ясно, что Наполеон через Малоярославец в Калугу не пройдет. Видимо, попытается предпринять обход через Малыню.
Понимавший фельдмаршала даже не с полуслова, а с намека, по сведенным бровям, по хитро блеснувшему глазу, Коновницын не задумываясь ответил:
– Поставим там казаков Платова и корпус князя Кудашева.
– Именно. И все ж не грех подкрепить их стрелками и артиллерией. У Даву корпус сохранил боеспособность.
«Он уже думает о следующих боях», – понял Кахым.
– Да, все разведывательные материалы подтверждают, что Даву держал своих солдат и на обильных харчах, и в железной дисциплине, – согласился Коновницын.
– Хотя тяжелые бои за Малоярославец могут и образумить Наполеона, – размышлял вслух Михаил Илларионович, – все – и штабные генералы, и офицеры – притихли, жадно ловя каждое его слово, – и он догадывается, что, уйдя из Москвы, не выдюжит таких тяжелых потерь, какие сегодня несет в Малоярославце…
– И свернет на Смоленск, – догадался Коновницын.
– Именно. И все же… все же усилим гарнизон Малыни.
Дежурные офицеры записывали приказы Коновницына, давали генералу на подпись и незамедлительно посылали в полки курьеров.
Битва за Малоярославец продолжалась с еще более свирепым ожесточением. Город восемь раз переходил из рук в руки. Пожары бушевали с такой силой, что зачастую войска, и русские, и французские, подступали к окраине, а дальше не могли и шага ступить – перед ними бурлило, гудело, клокотало пламя, выжигающее глаза, опаляющее усы и бороду, солдаты роняли ружья – так раскалялись стволы.
К вечеру Кутузов и Коновницын перевели резервные части за Малоярославец и еще плотнее преградили дорогу на Калугу.








