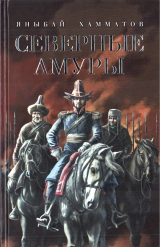
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц)
Пасмурным слякотным днем 1806 года на Пятую дистанцию нежданно-негаданно нагрянул князь Волконский. Начальник дистанции Буранбай Кутусов отрапортовал, что на границе спокойно, извинился, что генерал-губернатора не встретили барабанным боем и почетным караулом и этим грубо нарушили воинский церемониал.
– Не надо, есаул, не надо! – отмахнулся князь. – Не в гости приехал! – Со старческим кряхтеньем и оханьем он слез с седла. – Дорога – дрянь. Грязища непролазная. Как-никак, ноябрь на носу… Устал! Где мне переночевать, голубчик?
– Ваше сиятельство, квартира чистая, но…
– Что еще за «но»?
– Не шибко благоустроенная.
– Вздор-вздор! На одну-то ночь! Веди.
Дом был шестистенный, бревенчатый, с голландками, полы из выскобленных косарем, мытых щелоком трехвершковых половиц. Князь умилился:
– Рай, истинный рай земной!
«И впрямь какой-то странный! Начальнички, пониже его чином и званием, выламываются, – подумал Буранбай. – А этот всем доволен. Может, и вправду, не все у него дома? Всякое про него болтают…»
Ординарцы, вестовые, повар разместились на хозяйской половине, а князя Буранбай провел в просторную горницу.
Волконский огляделся:
– Я лягу на кровати, а ты, голубчик, на диване.
– Ваше сиятельство, помилуйте, да у меня своя квартира в соседнем доме…
– Ложись здесь, не оставляй старика одного.
Вскоре повар и ординарец накрыли стол белокипенной скатертью, принесли тарелки, миски из княжеского сервиза.
Буранбай решил, что пора удалиться, но Волконский остановил:
– Садись, вместе поужинаем.
– Да мне бы проверить караулы!
– Вздор-вздор, без тебя обойдутся.
Принесли из кухни холодные и горячие закуски, жаркое.
Буранбай смущался, отвечал на вопросы князя односложно: «так точно», «слушаю», «никак нет». С хитрой улыбкой князь усердно подливал есаулу водки, и тот захмелел, оживился.
– В губернскую канцелярию пришла жалоба из Шестого кантона: угнали, дескать, киргизы у башкир свыше семисот лошадей. Слышал?
– Да когда ж такое случилось? Давно ли?
– Совсем недавно. Угнали табун мимо Красной крепости. Сам читал рапорт сотника Халевина. Требую, есаул, границу сторожить неусыпно!
– Слушаю, ваше сиятельство!
Набравшись смелости, Буранбай спросил, вернутся ли к зиме башкирские полки с западной границы. Князь вздохнул, лицо его потемнело.
– Нет, не вернутся. Опять Наполеон развязал войну.
– Когда же закончится это кровопролитие? – возмутился Буранбай.
– Думаю, что не скоро, – буркнул князь.
После ужина принесли бурно кипящий медный самовар. Через десять минут князь снял мундир, затем верхнюю рубашку, но пил стакан за стаканом коричневого цвета чай, раскраснелся.
– Фу, жара! Есаул, распорядитесь, голубчик, чтоб печку на ночь не топили.
– Не простудиться бы вам!
– Вздор-вздор!.. Суворов даже зимою спал под открытым небом. И нас, солдат, офицеров, приучал к стуже, ибо оная убивает всех болезненных микробов. – И князь собственноручно распахнул окно, с наслаждением вдохнул осеннюю прохладу. Вдруг лицо Волконского передернула судорога, он, закрыв глаза, крепко погладил ладонью висок. – До чего ж изнуряют меня мигрени!
Снова Буранбай решил, что ему пора удалиться, сделал шаг-другой к двери, но князь мигом открыл глаза и приказал:
– Обожди!
Есаул остановился.
– Начальник Девятого кантона Бурангул Куватов нахваливал твою игру на курае. Развесели старика, голубчик, сыграй что-нибудь ваше, народное.
– Курай дома оставил, в ауле. Могу спеть башкирскую песенку «Катанку», ваше сиятельство.
– «Катанка»?.. Гм, небось «Катенька»?
– Это по-вашему «Катенька», а по-нашему «Катанка». У песни интересная история, ваше сиятельство… В ауле на реке Туяляс жил паренек, учился прилежно, старательно, и его направили в училище землемеров. В русском городе он полюбил русскую девушку Катю. И она к нему отнеслась с нежностью. Свадьбу сыграли. Землемер в разных уездах и кантонах работал, но летом обязательно приезжал с Катей в родную деревню. Он был музыкантом, слагал песни, вместе с женою Катей на деревенских праздниках, свадьбах они исполняли башкирские и русские песни… Как-то раз он вел размежевку башкирских земель и помещичьих. А на меже сарай помещика. Барин требует, чтобы сарай остался в его усадьбе, а джигит поступил по закону – провел межу прямо посередине сарая. Богач, конечно, затаил злобу, шепнул приказчикам… Этой же ночью землемера убили. Катя похоронила мужа, оплакала его могилу, прощаясь навеки, сложила поминальную песню:
Ой, на озере, на светлом озере
Утка с утятами резвилась,
Безжалостна судьба ко мне, бедной,
Заставила лить кровавые слезы.
Красива река Туяляс,
Серебряные рыбки резвятся.
Обманула меня надежда,
Впереди одинокая старость.
Буранбай спел песню сперва по-башкирски, затем по-русски. Князю песня понравилась:
– За душу берет! Неизбывное горе… Значит, «Катанка»?
– Именно «Катанка», ваше сиятельство! По всем аулам ее поют, на поминках и в хороводе. Плачут и певцы, и слушатели.
– Спасибо, голубчик, спасибо, – растроганно произнес князь. – Пойду, однако, погуляю перед сном.
Он накинул на плечи плащ, нахлобучил шапку.
– Разрешите сопровождать, ваше сиятельство?
– Не разрешаю. Всегда гуляю один, и в Оренбурге, и в деревне.
– Так ведь здесь кордон!..
Князь не ответил, но в дверях обернулся и строго предупредил:
– Окно не закрывайте!
Буранбай проследил взглядом, как старик зашагал к лесу, слегка согнувшись и заложив руки за спину.
Вызвав дежурного джигита, есаул зашептал:
– Отвечаешь головою за генерал-губернатора! Возьми с собою двух парней побойчее. На глаза князю не попадаться, охраняйте тайно.
Услышав голоса во дворе, вышел на крыльцо камердинер князя, спросил без тревоги:
– А где их сиятельство?
– Ушел гулять. Один!
– Он это любит.
– Но тут ведь граница… Я просил разрешения сопровождать – отказал.
– Ладно, я издалека посмотрю, – сказал камердинер и пошел к лесу.
Буранбай послал верховых на соседние редуты, форпосты, в полевые караулы: прибыл генерал-губернатор – быть начеку.
Темнело, захолодало. Ноябрьская погода переменчивая: солнечными днями и светло, и весело, а сгустилась вечерняя тьма – и уныло на душе, зябко. И – тишина на границе, беспросветная, гнетущая. Опавшие листья шуршат под копытами лошадей.
Перекликаются часовые.
Под безбрежным звездным небом Буранбай чувствовал себя одиноким, забытым близкими. Военная служба на кордоне – служба тревожная, день и ночь в напряжении: вот-вот загремят выстрелы – не увлекала его. Он служил честно, по присяге, но томился в тоске без друзей, без музыки, без книг. «Бессмысленная жизнь, а годы идут и идут… И эти бесконечные войны, сколько горя, страданий приносят они и русским, и башкирам!»
Обойдя караулы, он вошел в дом на цыпочках, чтоб половицы не скрипнули, прокрался в горницу. Князь лежал на кровати, лицом к стене. Кажись, уснул?.. Буранбай потянулся к створкам открытого окна, но Волконский тут же повернулся и резко спросил:
– Кто здесь? Что вам нужно?
– Хотел окно закрыть на ночь, ваше сиятельство. Холодно!
– Вздор-вздор! Или вам, господин есаул, вреден свежий воздух? – с ехидством добавил князь. – Я старик, а вот стужи не боюсь.
– Да ведь я, ваше сиятельство, тоже не боюсь, но ваше здоровье…
– О нем я сам позабочусь! – Их сиятельство опять перевернулся на правый бок и уткнулся в подушку.
От круглой печки из угла еще несло теплом, но ветерок свободно вливался через подоконник в горницу. «Простудится, наверняка простудится! А ослушаться невозможно». Не раздеваясь, Буранбай улегся на диване, поджал ноги и быстро задремал. Проснулся он среди глухой ночи, заледенел до того, что не смог разогнуться. Князь же мирно посапывал у стены. Не раздумывая долго, есаул снял с вешалки широкий плащ – епанчу князя, закутался поплотнее и вскоре согрелся, забылся крепким сном.
Начальник дистанции привык вставать на рассвете, но генерал-губернатор просыпался еще раньше, затемно – так было каждодневно в Оренбурге, такой режим неукоснительно соблюдался и в разъездах. Есаул еще упивался предутренним сладким сном, как князь проворно спустил ноги на пол, поднялся, потянулся и сразу заметил, что епанча исчезла с вешалки. Эге, непорядок, под генеральским плащом мощно храпел есаул! Непорядок и непочтительность!..
– Кто разрешил? А?.. – скрипуче осведомился князь, тряся Буранбая за плечи.
Спросонок есаул растерялся, забормотал:
– Виноват, ваше сиятельство, ночью закоченел…
– Повесь на место!
– Слушаю. Виноват.
– Одобряю за находчивость! – хмыкнул князь. – Надеюсь, что в бою вы проявите такую же дерзость! Хе-хе…
И Волконский отправился на утреннюю прогулку.
9Внимательно и придирчиво проверив, как несут джигиты Буранбая пограничную службу на дистанции, князь похвалил есаула и его подчиненных за добросовестность и поехал в Троицк, в Третий кантон.
Буранбай попросил у Волконского разрешения съездить на неделю в родной аул.
Князь сперва поморщился, затем покашлял и с неожиданно доброй улыбкой сказал:
– Поезжай, голубчик, порядок на дистанции у тебя строгий, но через неделю непременно возвращайся. Опоздаешь – пеняй на себя!
Есаул заверил князя, что не задержится.
Волконский кивнул, тронул коня и, окруженный свитой, конвойными, поскакал по твердой от утренника дороге. За ними затарахтели по кочкам тарантасы и подводы генерал-губернаторского обоза.
Отдав последние приказы, Буранбай в полдень не по-ноябрьски теплого денька отправился в путь. Снег лежал в низинах и оврагах, а луга и поляны, пожалуй, после пятого снегопада лежали желто-зелеными паласами, влажными на солнцепеке. Копыта коня мерно стучали по окаменевшей дороге. Солнце висело низко, но все же радовало сердце путника бледно-золотистым сиянием. Ноябрь – месяц переменчивый: то бураны, вьюга – значит, зима установилась, а там, глянь, дни ясные, и лошади, овцы бродят по лугам, по нежно зеленеющей отаве. Дорога втянулась в междугорье – и справа и слева то взбегали острыми зубцами, то плоско расширялись горы древнего Урала. Вот Эсерташ – вершина ее вогнутая, похожая на седло. А там фиолетово-синяя Иремель, самая стройная, статная, буквально упирающаяся в небо. Душа Буранбая преисполнилась восторга. Седой Урал!.. Какими вдохновенными песнями прославить твою силу и красу? Родной Урал!
Ой, далеко-далеко синеют
Гордые скалы Иремелъ-тау.
Долгие годы джигит скитался,
Но вернулся к Иремель-тау.
Столетиями у подножия Иремель-тау собиралось могучее башкирское войско на борьбу против иноземных захватчиков. И Буранбаю сейчас почудилось, будто это сама гора громоподобным кураем созывала всадников в дальний поход.
Резвого коня оседлал,
В колчане крылатые стрелы.
Жизни не щадил, крови не жалел,
Но свой Урал джигит
Чужакам не отдавал.
Песня плыла над лесами, речками, полями, унеслась резвым ветром в степь, гудела эхом в ущельях. Не горам – народу слушать бы ее, призывную, сулящую грозу гнева, чтобы повторились и умножились подвиги Салавата! Слишком вольготно, монотонно живет сейчас Буранбай на дистанции, а пора бы молодцу в сечу.
– Живей, живей!.. – поднял плеть всадник, и конь пошел крупной рысью. – Быстрей, быстрей!..
Три дня и три ночи добирался он до родного аула Шонкар, прижавшегося избушками к мелкодонной, но бурливой речке Куюргазы. Дома – прочные, добротные, а всего-то их пятнадцать… Однако жители Шонкара гордились своим аулом и свысока поглядывали на соседние деревни.
У околицы Буранбай свернул в лощину, снял там военный мундир и спрятал в седельную сумку, надел бешмет, шапку, натянул на ноги сапожки с суконным голенищем. И зашагал, ведя на поводу коня, к крайнему дому.
Хозяин долго всматривался в лицо пришельца, силился вспомнить, а не смог, вопросительно замычал:
– М-м-м, кто таков?
– Янтурэ-агай, – засмеялся есаул, – забыл, как на сабантуе победил в борьбе – поднял и швырнул в пыль лицом, как куль с овсом?
– Я на сабантуях всех швырял, – похвастался Янтурэ. – Разве вас, бедолаг, упомнишь!
– Ну в состязаниях-то кураистов я оказался первым!
– И такое случалось…
Вышла на крыльцо молодая румяная женщина в платке из козьего пуха, всплеснула руками:
– Еркей! Певец! Кураист несравненный!
Янтурэ вздрогнул от неожиданности и, признав наконец гостя, осклабился:
– И верно, Еркей! А я-то гляжу… Ах, бродяга, ах, скиталец! – и обнял гостя. – Жив-здоров? Ну слава Аллаху! А то ведь люди говорили, будто ты утонул в Хакмаре, когда везли в сибирскую ссылку. Значит, долго-долго жить будешь!.. Сахиба, эсэхе[10]10
Эсэхе – мать (букв. – мать моих детей).
[Закрыть], ставь самовар! – Распорядился он и снова полез обниматься: – У-у, бродяга!..
Хозяин и гость увели коня во двор, бросили ему охапку сена.
– Но как же ты изменился! Возмужал, не постарел, а возмужал. И в лице строгость.
В избе жарко зашумел самовар. Гость вынул из котомки кулечки с конфетами из оренбургских кондитерских лавок, пряники, печенье.
– Вашим деткам, дорогие мои!
Сахиба застеснялась:
– Ой, зачем так много?
Из-за занавески уже показались детские носы, сверкнули любопытные глазенки. Буранбай позвал ребятишек, щедро одарил их лакомствами, и те, не чуя ног от радости, выскочили с визгом на улицу.
Хозяин же тем временем погрузился в трудные размышления. Он сопел, чесал затылок и бросал на гостя и на жену унылые взгляды.
– Надо бы соседей по обычаю пригласить, чтобы гостя показать, – нерешительно произнес наконец он.
У башкир так издавна ведется. Гость пожаловал – зови соседей, кидай на праздничную скатерть и печеное, и вареное, и жареное. Последнюю овцу хозяин зарежет, чтоб соседи наелись до отвала, пускай даже завтра – зубы на полку. Сегодня застолье – ешь, пей, веселись, а потом вся надежда на Аллаха… Не Янтурэ первым в ауле должен нарушать вековечный обычай. Он – башкир, настоящий башкир.
– А чего спрашивать? – удивилась жена. – Гостем надо хвастаться перед всей деревней.
– Тут другое дело… Не повредить бы Еркею.
– Да разве это грешно – созвать соседей? – пожала плечами Сахиба.
– Подожди, эсэхе, – сердито осадил ее хозяин. – У Еркея есть враги. Вот я и опасаюсь, не случилось бы беды. Если Еркей в бегах, то, может, лучше принять его тайно? Языка моей жены не страшись, – заверил он гостя. – Она, конечно, баба, но держать язык за зубами умеет. Надежнее любого мужика. Режь на куски – не пикнет.
– Да ну тебя, атахы, – сконфузилась хозяйка и ушла за занавеску.
Гость отпираться не стал, поблагодарил хозяина за догадку:
– Агай, ты будто насквозь видишь, что к чему. Я и вправду должен скрываться от людей, даже от земляков. Но что поделаешь, стосковался по родному краю и не утерпел.
– Ладно, братец, не надо лишних слов, ты наш желанный гость. А где же ты сейчас проживаешь?
– На кордоне.
– М-м-м, далеко!.. – Хозяин задумался. – Говорят, что появился замечательный кураист Ялан-Еркей. Ты с ним не встречался?
– Еще бы не встречаться, если я и есть Ялан-Еркей! – расхохотался гость.
– Ты-ы-и?!
– Вот именно!.. Довелось мне жить в бурзянских аулах, там много кураистов и, добавлю, отличных музыкантов! И все зовутся Еркеями. А меня прозвали, чтобы не запутаться, Ялан-Еркеем, степным Еркеем.
– Ишь ты-ы-и! Выходит, и песня «Ялан-Еркей» твоего сочинения? – продолжал изумляться хозяин.
– Вот именно, мое собственное произведение.
– И-и-и!.. Может, ты не поверишь, но у нас нет дома, где бы не пели эту задушевную песню.
– Отчего не поверить? Верю!
– А с Буранбаем встречался?
– Нет.
– Что ж ты, братец! – упрекнул хозяин. – Его песни у нас тоже славятся. И молодые, и люди в годах, слушая его песни, то смеются, то плачут… Ты, кустым, постарайся с ним встретиться. Он, мне говорили, из военных.
– Буду в Оренбурге – поищу, – ухмыльнулся гость. – А ты, агай, скажи мне, где Салима? Мне надо обязательно ее повидать. Ради нее и приехал.
– Разве не женился?! – ахнул Янтурэ.
Из-за перегородки выглянула хозяйка – значит, подслушивала.
«Что за непонятный гость! Все у него не так, как у добропорядочных людей».
– Знаешь, не лежит сердце ни к одной. Сватали и красивых, и разумных, и с приданым. Не могу забыть Салиму.
– Тебе ведь тридцать стукнуло?
– Через три года стукнет.
– У меня-то в твои годы сколько было ребятишек, что гороха!
– Тебе повезло – суженая родилась, выросла в соседнем доме. И какая достойная! – искренне сказал гость.
За перегородкой звякнула чашка…
Янтурэ поудобнее уселся на нарах и вполголоса, осторожно подбирая слова, начал:
– Салима долго тебя, братец, ждала. И меня о тебе расспрашивала. А молва пошла по аулам и до Шонкара докатилась – утонул, дескать, в Хакмаре. Сильно убивалась, конечно, бедняжка… Ну, братья настояли на своем – выдали замуж. А что ей оставалось делать? Косою удавиться? Знаешь старшего сына Мухаматши-бая?
– Ахматуллу?
– Да.
– Э-э-эх, – застонал Буранбай и закрыл лицо шапкой.
Сахиба не выдержала, выскочила, раздвинув занавеску:
– Не рви, атахы, сердце гостю!
– Не стану же я его обманывать…
– Спасибо, Сахиба-енгэй[11]11
Енгэй – жена старшего брата; обращение к женщине, старшей по возрасту.
[Закрыть], но лучше сразу все узнать, – сказал Буранбай и решительно встал, шагнул к порогу. – Я должен ее увидеть немедля!
– Погоди! – вцепился в него хозяин. – Ты погубишь и ее и себя!.. Нельзя же самому совать голову в петлю! Надо устроить все с верным расчетом.
– Когда же кончится власть денег? – спросил и его и себя гость.
«Никогда!..» – подумал Янтурэ и трезво напомнил:
– Учти, за твою голову была обещана награда – триста рублей.
– И нашлись бы башкиры, которые польстились бы?
– Люди разные, кустым. Как поручишься за каждого? Есть и такие изверги, которые за крупные деньги не пощадят отца-мать! Бедняки бескорыстнее, честнее рвущихся к богатству. Бедняк и под пыткой не выдаст.
Рассуждения хозяина были разумными.
За окном послышались голоса. Сахиба заглянула и сказала безрадостно:
– Старики идут.
По лицу Янтурэ скользнула дымка недовольства, но всего лишь на мгновение: надо встречать – обычай.
– Держись настороже, помалкивай, где живешь, куда едешь, – посоветовал он Буранбаю и с почтительными поклонами вышел на крыльцо. – Милости просим, аксакалы! Проходите, гости дорогие! Ко времени пожаловали. Сам собирался вас звать, да запоздал, извините. А у меня гость желанный! Кунак! Еркей, музыкант и певец, заглянул проездом.
Старики с величественным видом, чинно, неспешно ступили в горницу.
– Ас-салямгалейкум!
– Вагалейкумассалям, достопочтенные аксакалы, – низко поклонился им гость.
– Как житье-здравие?
– Благодарение Аллаху. Радуюсь, что вы, достославные отцы и деды наши, в полном благополучии.
– Да, ползаем потихоньку-помаленьку, слава Аллаху!
Аксакалы уселись рядком на краю нар, воздали хвалу Всевышнему. Самый ветхий, но самый надменный старик погладил трясущимися руками редкую бороденку, вознес Всевышнему хвалебную молитву.
– Откуда вы узнали, что Еркей приехал? – не утерпел хозяин.
– От твоих детишек. Носятся из избы в избу, хвастаются подарками Еркея!
«Ах, чертенята! Вправду говорят, что в доме с детьми секреты не держатся», – подумал Янтурэ.
Он принес медный кумган с теплой водою и таз, по очереди полил старцам на морщинистые, немощные руки воду, стащил с их ног каты и пригласил к табыну на нарах, к самовару-батыру, горячо шумевшему, бьющему в потолок крутой струею пара.
Старики, неукоснительно соблюдая очередь по возрасту, один за другим, кряхтя и охая, влезли на нары.
Едва приступили они к чаепитию с гостинцами Еркея-Буранбая, как дверь широко распахнулась и вошли, переговариваясь, молодые мужчины и парни, поклонились аксакалам, хозяину, гостю. Хозяйка постоянно подливала кипяток из чугуна в самовар. Гостинцы со скатерти исчезли. Янтурэ принес из кладовки скудные запасы, и земляки не отклонили дара, ибо рука дающего да не оскудеет.
День клонился к сумеркам, но гости усердно хлебали чай, уже пустой.
– Следует ради дорогого кунака-музыканта зарезать лошадь пожирнее, – произнес тоном приказа старейший из старых.
Все согласились с ним.
– И чтоб слой сала-казы был не тоньше пяти пальцев!
– У моего знакума-уруса есть трехгодовалый жеребчик – хочет менять на корову.
– В телегу еще не запрягал?
– Ни разу не запрягал – чистенький, благоуханный.
– Завтра утром и поедем, сговоримся либо на обмен, либо за деньги.
Буранбай и хозяин обменялись тревожными взглядами.
– Еркею в ночь требуется уехать, – сказал Янтурэ.
– Да-да, высокочтимые отцы и деды, у меня срочные дела, – плавно подхватил гость.
Но аксакалы разохотились:
– Желание земляков – закон гостю!
– Кунак не может отказаться от угощенья!
«Влип!..» – уныло сказал себе Буранбай.
В чувале жарко затрещали щепки, дрова, но свет был зыбкий, и потому запалили лучину. В избе уютно, сидеть бы так и сидеть, степенно разговаривать, но молодые потребовали песен Еркея – стосковались по ним…
Буранбай не упирался.
– А кто исполнит мелодию на курае?
– Ишмулла! Ишмулла!
Молодые расступились, и Буранбай увидел жмущегося в угол паренька.
– Ты помнишь мотив песни «Посланник Гайса»?
Тот застенчиво посмотрел на знаменитого певца Еркея, кивнул.
– Он все песни знает, Еркей-агай, – заверили парни, подталкивая Ишмуллу к нарам.
– Начинай!
Ишмулла поднес курай ко рту, и по горнице полетел соловьино-звонкий напев, ясный, чистый, но омраченный тоскою.
Как заблудший олененок,
Затерялся на чужбине.
Дни и ночи сердце ноет
По желанной, по любимой…
Та, которой сердце отдал,
Не забыла ли джигита?
И скучаю, и рыдаю
По желанной, по любимой.
Лица слушателей, освещенные бликами пламени в чувале, выражали безмерное сострадание к горю одинокого странника; полнозвучный голос певца то сливался с мелодией курая, то заглушал ее душу рвущей жалобной интонацией:
С вершины горы гляжу
На родную мою сторонку.
Вернусь жив-невредим в аул,
Сложу песню о скитаньях.
И стар и млад ловили буквально каждое слово песни, упивались дивной выстраданной музыкой, благословляя с благодарностью талант Еркея. Когда мелодия оборвалась, слушатели восхищенно вздохнули, а за занавеской давилась рыданиями Сахиба. Парни бурно хвалили Еркея и кураиста, аксакалы выражали благосклонность улыбками и односложными восклицаниями, но все были глубоко тронуты гармонией слова и мотива.
Долго в этот вечер Еркей-Буранбай и молодой кураист потрясали сердца людей магической силой мелодии и поэтического слова. Эти песни были поистине не для свадебного развлечения, не для хороводных игр и шуток, а для прославления верности, самопожертвования, любви, которая сильнее смерти.
Расходились за полночь, изнемогая от блаженства музыкального пира, рассыпаясь в благодарностях.
Хозяева и гость улеглись на нарах, усталость их была не обременяющей, а умиротворенной.
Тишина ночи казалась бездонной, всеобъемлющей, но вдруг на крыльце послышались шаги, в дверь осторожно постучали.
– Янтурэ-агай, это я, Ишмулла…
– Что стряслось? – Хозяин, шлепая босыми ногами по половицам, звякнул засовом.
– Старшина юрта прознал, что Еркей-агай в ауле, и послал гонца в кантон.
– Кустым, это верно? – строго спросил Янтурэ в дверях.
– Верно, агай. Да разве я рискнул бы?
– Понимаю. Спасибо, кустым!
Буранбай торопливо оделся, вышел за хозяином на крыльцо.
– Спасибо, Ишмулла, никогда не забуду. Желаю тебе счастья! Музыкант ты одаренный, от Аллаха. – И Буранбай-Еркей обнял паренька.
– Седлай, да побыстрее! – распорядился Янтурэ. – И поезжай в аул Агиш. Дорогу не забыл?
– Я его провожу! – тотчас заверил Ишмулла.
– Так я и не повидался с Салимой, – упавшим голосом прошептал Буранбай. – Видно, не судьба.
– У тебя вся жизнь впереди – встретишься еще, – поспешил успокоить его Янтурэ.
Оседлали коня, кураист Ишмулла убежал домой за своим жеребчиком; хозяин и хозяйка стояли у ворот понурясь, едва не плача – не ждали, что так быстро придется проводить гостя. И у Буранбая было тяжело на душе: скитанья, непрерывные кочевья… Не надо, может, было приезжать сюда – служил бы на дистанции и постепенно забыл бы Салиму.
За огородами, в низине, он и Ишмулла поплотнее нахлобучили шапки на лоб и пустили лошадей рысью по заброшенной лесной дороге; отдохнувшие кони бежали резво, а всадники молчали…
Поздним утром к дому Янтурэ примчались казаки, сотник вломился в горницу, не здороваясь, грубо, властно спросил:
– Где беглец?
– Какой беглец?
– Ты, агай, эти шуточки брось, отвечай честно – где беглый?
– Никаких беглых не принимал, господин сотник, а вчера забрел странник, из благонадежных, ветеран войны с турками, угостил я его чайком и салмою, а как же! – бывалый солдат… Он и ушел.
– Куда?
– Сказал, что в Первый кантон, а оттуда в Стерлитамак на базар.
– Что ж ты не задержал его? Он же из беглых каторжников.
– Я на задержание не уполномочен, господин сотник, а гость в доме по башкирским обычаям – кунак!
…Казаки ускакали, разъярив обычно миролюбивых деревенских собак.








