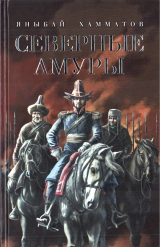
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 42 страниц)
– Нет, ты пострадал за святое дело!
– Спасибо! – голос Азамата дрогнул. – Спасибо! Всегда верил, что ты добрая.
Танзиля повела его на задний двор, за сараи.
– Там, за изгородью, лошадь тестя, я оседлала, набила тороки продуктами. У твоего дома солдаты. Скачи в горы, агай!
Азамат надменно скривил запекшиеся губы:
– Не сяду в чужое седло! Не конокрад я, не вор, не стану прятаться!..
Он оттолкнул всхлипнувшую Танзилю, вышел из калитки и крупными твердыми шагами направился к своему дому. Весь аул уже проведал о возвращении Азамата, но со срамом, а не с почетом. Из домов высыпали и стар и мал, расступились, пропустив вперед Азамата, и пошли за ним в глубоком молчании, как на похоронах.
Солдаты из Уфимского стрелкового русского полка, завидев Азамата, вскинули штыки, но он сам протянул им руки:
– Вяжите!
Его заковали в кандалы и пешего повели в Оренбург под охраной казаков. Те беспечно насвистывали, покачиваясь в седлах, Азамат же ожесточенно уминал сапогами заметенную сыпучим снегом дорогу.
На кухне дома Ильмурзы билась в рыданиях Танзиля, кусала себе пальцы, чтобы не завопить в голос:
– Дурень! Сам, по своей воле пошел в темницу! О-о-о!
Вышла из горницы Сафия, ведя за ручонку Мустафу, усмехнулась презрительно и кичливо:
– Стыд, сущий стыд убиваться из-за труса!
– Азамат не трус! Он под знамена Салавата ускакал с войны!.. А ты помоги спасти его, сверши божье дело! Твой отец – начальник кантона, сам князь не откажет Бурангулу. Напиши мужу Кахыму, чтобы он заступился за Азамата.
– Мне не подобает вмешиваться в мужские дела.
– Речь идет о спасении невиновного человека!..
– Да ты не влюбилась ли в этого Азамата?
Кухарки, служанки с таинственным видом заулыбались, прикрывая платками рты.
– Влюбилась! – отважно призналась Танзиля и с раскаленными горем глазами, с трясущимися синими губами пошла на Сафию. – Он клятву верности Салавату выполнил!
– Хвали, хвали смутьяна! – хихикнула, попятившись, Сафия.
– И Кахым от Салавата не отрекся!
– Ты моего мужа не равняй с этим босяком! – Подведенные сурьмой глазки Сафии щурились враждебно. – Мой Кахым в высоких офицерских чинах! Не станет он защищать беглого.
– Не знаешь ты своего мужа, оказывается, – устало вздохнула Танзиля, напоследок всхлипнула и резко ушла во двор, к колодцу, долго там швыряла в лицо пригоршни студеной воды, чтобы хоть как-то унять пламень тоски, рвущей душу.
6Узнав о бунте башкирских полков в Муроме, о том, что две сотни ушли на Урал, князь Волконский был потрясен: «А я-то им доверял!..» Вместе с тем старик не на шутку перепугался – если две сотни обученных, отлично вооруженных мятежников начнут партизанскую войну, то как с ними совладать? Гарнизоны в крепостях – немощные инвалидные команды. Башкирские полки на границе – из старослужащих, и многие из них помнят Пугачева и Салавата, пожалуй, и помогали вождям восстания, но счастливо ускользнули от каторги. Сохранят ли они теперь верность России?.. Сейчас князь раскаивался, что торопливо отправил стрелковый полк Белякова из станицы Бакалы и оренбургских казаков атамана Углицкого в Петербург, а можно было бы их задержать – как бы пригодились!..
Успокаивало, что заводила мятежа сотник Азамат Юлтимеров добровольно явился с повинной и заточен в оренбургском каземате.
Азамата усиленно обхаживали оренбургские муллы и правитель губернской канцелярии Ермолаев, уговаривали, чтоб обратился к башкирам с пожеланием – бунтовать грешно, Салават-батыр не возвращался, в годину ратных испытаний надо по долгу чести и по примеру отцов, дедов, по заветам старины честно воевать против врага.
Сперва главарь смуты упирался, бушевал: «На казнь пойду, а не отрекусь от Салавата!», но постепенно смирился, сказал:
– Аллах наказал меня за отступничество, лишив жены и детей! Принимаю эту кару Всевышнего – виноват, сам заслужил.
И подписал обращение к народу.
Алексей Терентьевич Ермолаев сбился с ног – то мчался на тройке в тюрьму, то в кафедральную мечеть к оренбургскому имаму, то к переводчикам канцелярии, которые строчили под его диктовку сразу по-башкирски обращение, то к заболевшему от волнения князю.
Григорий Семенович хоть и прихворнул, но выползал на утренние прогулки, ковылял, опираясь на палку, по заснеженным тихим улочкам, а вернувшись в губернаторский дом, молился коленопреклоненно, со слезами о даровании скорейшей победы и над французами, и над мятежниками.
Намолившись, наплакавшись, старик опускался в глубокое кресло и дремал, а очнувшись, тянулся к колокольчику, приказывал лакею или служке послать курьера за Ермолаевым.
Правитель канцелярии старался успокоить и порадовать князя:
– Ваше сиятельство, какая счастливая весть из Петербурга! – И он взмахнул пакетом, как стягом. – По рапорту управляющего военным министерством Горчакова император Александр Павлович выразил высочайшее удовлетворение тем, что башкирские кантоны добровольно, от щедрот сердца послали в действующую армию четыре тысячи лошадей.
– Рад, что их величество знают о таком богатом даре башкирского народа, – улыбнулся князь. – Сообщите генералу Горчакову для сведения государя императора, что башкиры и мишари собрали русской армии восемьсот девяносто пять тысяч рублей.
– Слушаю.
– Все это очень приятно, но как обстоит дело с рассылкой обращения к башкирам сотника Азамата? – с плохо скрываемым раздражением спросил Волконский.
– Ваша светлость, переводчики переписывают без устали текст по-башкирски, курьеры увозят обращение начальникам кантонов.
Через день правитель канцелярии, едва ступил в кабинет князя, выпалил с порога, показывая пакет:
– Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, Ваше сиятельство, выразили вам благодарность за помощь башкирскими лошадьми армии.
– Что вы меня ублажаете всякими письмами? – вспылил старик. – Наступило успокоение в крае?
– Ваше сиятельство, – терпеливо заговорил Ермолаев, – Оренбургский край равен всей Франции! Посудите сами, когда прискачут курьеры в пермские кантоны? И ведь открытого мятежа нет – так, разговоры, незначительное дезертирство со сборных пунктов. На границе – тихо. Подождем еще с недельку.
Наконец настал день, когда правитель канцелярии с радушной улыбкой потряс перед князем пачкой рапортов начальников кантонов – полное и окончательное спокойствие на сборных пунктах и в аулах.
– Оренбургский имам тоже меня порадовал. Ваше сиятельство, муллы пишут, что их проповеди и обращение Азамата проняли верующих до слез – башкиры молитвенно желают скорейшей победы русской армии над французами.
Волконский перекрестился.
– Слава Богу, что смута закончилась.
– А что делать с заправилами смуты, ваше сиятельство? – осторожно спросил Ермолаев.
Григорий Семенович был умным, честным, но и он давно уже усвоил правила государственного правления империей, а здесь без изрядной доли ханжества не обойдешься.
– Сами распорядитесь, Алексей Терентьевич, – великодушно разрешил он.
– Я полагаю так, ваше сиятельство, хорунжего Тимербаева и его брата, пятидесятников Биктимерова и Киньягулова бить шомполами, заточить в тюрьму, а после благополучного окончания войны – на вечную ссылку в Сибирь. Рядовых мятежников, сбитых с толку главарями, под конвоем отправить в распоряжение командира корпуса Поволжского ополчения генерала Толстого.
– Быть по сему, – милостиво утвердил князь.
– А как поступить с Азаматом Юлтимеровым?
– Этот лихой башкир нам еще пригодится, – поразмыслив, сказал Волконский. – Наказать шпицрутенами! Сам пойду полюбоваться, как станет извиваться и выть под ударами. Если не подохнет, то выпустите из темницы.
– Слушаюсь.
7Кахым послал в Главную квартиру генералу Коновницыну рапорт: зачинщики мятежа по его личному приказу наказаны. В башкирских полках восстановлена дисциплина. Идут регулярные занятия со стрельбами и рубкой. Положение с питанием конников и с кормами для лошадей налаживается, но с великими трудностями и, к сожалению, весьма медленно.
Через неделю курьер привез вызов от Коновницына.
Прискакав в Тарутино, Кахым бросил поводья ординарцу и поспешил к генералу, но там теснились офицеры.
Коновницын бегло взглянул на усталое лицо Кахыма, кивнул и безучастно сказал:
– Утомились? Идите отдыхайте, в баню сходите. От имени главнокомандующего за наведение порядка в башкирских полках объявляю вам благодарность.
Кахым звякнул шпорами.
– Уставать мне в мои годы преступно, ваше превосходительство! Отпустите скорее в Муром. Меня там ждут.
Коновницын поморщился:
– Вопрос о создании башкирского корпуса не решен. Собственно, это дело не срочное… – И обратился к дежурному адъютанту: – Устройте их благородие Ильмурзина на постой и на довольствие.
Адъютант вызвал вестового, и тот повел Кахыма на все тот же постоялый двор – там было еще грязнее, чем до отъезда Кахыма, а постояльцев – офицеров резерва заметно прибавилось, да еще появились клопы… Через день-другой Кахым не выдержал и переселился в утепленную палатку с железной печуркой, стоящую тут же во дворе.
Каждый день он наведывался к Коновницыну, но генерал приветливо улыбался и утешительно говорил:
– Да вы отдыхайте, отдыхайте…
«Ничего не понимаю!.. Или мне не доверяют? Настрочил какой-то подлец донос, что я сам посматривал на Урал, за Волгу, и ждал вести от великого Салавата?!» – размышлял бессонными ночами Кахым, шагая по улице и поглядывая на крупные, хрустально чистые звезды.
Денно и нощно по улице скрипели колеса военных фур, визжали полозья саней, разъезжали на исхлестанных лошадях курьеры, перекликались часовые, пылали костры, и все это напоминало Кахыму башкирское кочевье на яйляу.
Как-то прибежал вестовой и позвал их благородие Кахыма к их превосходительству генералу Коновницыну.
На этот раз Коновницын был один в избе, лицо его от недосыпа пожелтело, щеки ввалились. Без предисловия он указал Кахыму на табуретку и сухо сказал:
– Вы, Ильмурзин, остаетесь здесь, у нас, офицером связи Главной квартиры с башкирскими полками.
– Позвольте…
– Приказы не обсуждаются, а выполняются, – строже напомнил генерал.
– Виноват, ваше превосходительство, но имею же я право спросить, будет ли сформирован Отдельный башкирский казачий корпус?
– Нет.
– Из-за событий в Муроме?
– Вы, ваше благородие, имеете право задавать мне такие вопросы? – скривив плоские губы, спросил Коновницын.
– Виноват.
– Да, виноваты. Покамест делаю вам замечание… Обойдусь без выговора. Запомните, что в Муроме ничего не произошло. Ни-че-го не случилось. И раз и навсегда забудьте о Муроме. А Восьмой полк получил пополнение и приступил к нормальным учебным занятиям. Признано целесообразным оставить башкирские полки из Муромского лагеря в составе ополчения Третьего округа генерала Толстого.
«Понимаю… Доверие потерять легко, а вернуть трудно! Две сотни Азамата кое-кого перепугали, а если в Отдельном башкирском корпусе вспыхнет мятеж?! Сколоченный, сплоченный корпус! Вот и побаиваются… Но я решительно против любой неурядицы. Пока Наполеон в Москве, пока французы на русской земле, башкирский джигит должен служить верно и сражаться бесстрашно! Я завтра, если придется, лично беспощадно расправлюсь с мятежниками!..» – говорил себе Кахым, возвращаясь в свою палатку.
Настроение у него было отчаянное. Коновницын не давал пощады ни себе, ни подчиненным – работал и днем и ночью. Это, конечно, похвально, Кахым не лентяй, но ведь обязанности офицера связи неопределенные, а быть мальчиком на побегушках Кахыму не хотелось. То ли дело в полку – все яснее, проще. И – по уставу!
Вечером к нему зашел полковник Толь с молодыми штабными офицерами Сашей Голицыным и Пашей Развоем.
Потолковали о разных новостях Главной квартиры и далекого Петербурга, юноши рассказали несколько соленых анекдотов.
Посмеялись.
– Разведчики князя Бадбольского взяли у Вереи в плен французского капитана, – сказал Толь. – По словам французика, положение Наполеона во всех отношениях плачевное. Зима. Подвоза продуктов нет. Едят конину.
– А что ж тут такого? Молодое конское мясо – сладкое, – заметил Кахым.
– Разве башкиры едят конину?
– Да. И очень любят. Степная кобылица, не изведавшая упряжки, отменного вкуса! – воскликнул Кахым.
– Откуда же у французов степные молодые кони? – разумно возразил Голицын. – Режут обозных и кавалерийских лошадей, тощих, костлявых.
– А что Беннигсен? – спросил Паша Развой.
– Да что Беннигсен!.. – выразительно пожал плечами Толь. – Строчит доносы на фельдмаршала. До сих пор не понял гениального маневра Михаила Илларионовича, отрезавшего Наполеону путь в хлебные южные губернии. А время-то идет!.. Французы в Москве слабеют, а мы в Тарутино крепнем.
– Что же все-таки произошло в Пензе? – поинтересовался Кахым.
– Ратник ополчения объявил себя полковником Емельяном Пугачевым!.. – засмеялся Толь. – Но дело-то не в нем, а в том, кто его подучил!.. Не иначе французский агент. Искра упала в сухое сено, вспыхнул пожар. Слава Пугачева не забылась.
«И Салавата не забылась, – подумал Кахым. – Но относительно французского агента-подстрекателя полковник Толь прав!»
– Ратники ополчения в городке Инсар взбунтовались, арестовали офицеров, – продолжал Толь, – но перепились, разнесли магазины и лавки… Так что генералу Крайнову в тот же день удалось подавить мятеж. Уральские казаки действовали лихо. Кстати, полусотня башкирских казаков из Пензы тоже сохранила дисциплину и крепко расправилась с бунтовщиками, – полуобернулся он к Кахыму.
«Я бы тоже расправился!» – сказал себе Кахым.
– А как же поступили с новоявленным самозванцем? – спросил Голицын.
– Да как поступили… Повесили! – вяло сказал Толь. – Многих бунтовщиков повесили.
– От пензенской искры, значит, полыхнуло и в Муроме, – сказал Кахым.
Толь кивнул:
– Да, и в Саранске, Чембаре…
8Через день Кахыма вызвал фельдмаршал.
С волнением Кахым смотрел на рыхлое, отечное лицо Михаила Илларионовича с доброй, всепонимающей улыбкой; на толстом, неповоротливом Кутузове был походный длинный, до колен, сюртук.
– Благодарю, голубчик, за образцовое выполнение приказа – по-старчески добродушно произнес фельдмаршал. – Григорий Семенович тебя аттестовал похвально, и вижу теперь – не ошибся! Из Мурома пишут, что там порядок и спокойствие. Молодец! А сегодня поезжай-ка в корпус князя Кудашева. Там и ваш Первый башкирский полк. Надо проверить ход обучения новобранцев из пополнения. Ну и прочие дела… Петр Петрович Коновницын тебя, голубчик, проинструктирует. Ну, с Богом! – И старик опустил голову с копною белых волос, погружаясь в дремоту.
После обеда, получив пакеты от Коновницына, Кахым в сопровождении донского казака и ординарца на своем иноходце, нагулявшем за эти дни в Тарутино стати, выехал в корпус Кудашева.
Ему казалось, что едва он минует околицу, то очутится среди снежного покоя, безлюдья, но вскоре он признался в наивности – окружающие Тарутино перелески, овраги, лощины были плотно набиты артиллерийскими, интендантскими складами, батареями, стрелковыми полками, эскадронами гусар и драгун, полками казаков. Всюду проходили учения, отрывисто слышались команды, скакали и по дорогам и по тропкам связные.
На утоптанной поляне шли строевые занятия пехотинцев. Новобранцы то и дело путали шаг, наступали друг другу на пятки, роняли тяжелые ружья, спотыкались, а унтер – из старослужащих, с медалями – метался перед ними и неистово кричал:
– В ногу! Ать-два, ать-два, так-то вас растак! – и сыпалась дикая ругань.
Дальше проходили учебные стрельбы – ружья, видно, обледенели, жгли руки, а ветерок задувал в слезящиеся глаза – разгляди-ка мишень в снегу, ухитрись врезать пулю в яблочко… И тут надрывался унтер, сулил новобранцам всякие беды и страхи, не скупясь на брань.
«Слава Аллаху, что у нас подростки учатся метко стрелять из лука, ходят с отцами и старшими братьями на охоту!.. – подумал Кахым. – Джигит приходит в армию, по сути, обученным – он и ездит верхом в седле и без седла, он и стреляет с коня. Русскому крестьянину труднее… А в Тарутино мне говорили, что наши пули тяжелее французских, а значит, и убойная сила выше!..»
Через версту Кахым остановил жеребца, чтобы полюбоваться, как артиллеристы сноровисто, ловко выкатывают пушки на позицию, насыпают порох в ствол, забивают пыж, кладут чугунное ядро, миг – и гулко бьет выстрел, дым встает завесой, а пушка вздрагивает, подпрыгивает, откатывается…
«Вот она где, новая армия, кутузовская! – с восторгом думал Кахым. – Старик дремлет в кресле, но все замечает, всем распоряжается!.. И чувствуется твердая рука Петра Петровича Коновницына. Эх, горе, нет с нами Багратиона! Скончался от ран еще в сентябре, а какие победы он бы одержал с этой новой могучей армией!..»
Чем ближе приближался Кахым к лагерю корпуса Кудашева, тем чаще его останавливали казачьи пикеты, спрашивали, кто таков, да откуда, да куда следует. И это нравилось Кахыму: без строгого порядка армия расползется по швам, превратится в табор, в кочевье.
Князь Кудашев незамедлительно принял Кахыма, приказал поместить его в офицерском доме, а казака и ординарца в комендантском взводе, на полном довольствии. Бумаги, письма из Главной квартиры князь отложил: ознакомится вечером.
– Первый башкирский полк? Сейчас вас туда проведут, а ночевать возвращайтесь – поужинаем вместе… И побеседуйте дружески с джигитами, взбодрите их – вот-вот грянут зимние решающие битвы!
Темнело, в лагере Первого полка жарко пылали костры, стреляя в низкое мутное небо искрами; джигиты беседовали, хлебали салму, на Кахыма никто и не оглянулся.
Перекликались часовые.
Но поднялся, отошел от костра степенный воин, вгляделся в подошедшего Кахыма, козырнул на всякий случай, еще раз всмотрелся и вдруг ликующе воскликнул, широко раскрывая объятия:
– Кого вижу! Кахым? Кахым-турэ? Ну, здравствуй, господин начальник!
И Кахым не сразу признал его, но, убедившись, что перед ним сиявший Янтурэ, тоже обрадовался:
– Агай!
Они обнялись.
– А старшина Буранбай?
– И он в полку, не беспокойся – жив-здоров, побывал в кровавых схватках, любимец джигитов!
– Еще бы не любить воина-поэта! – порывисто произнес Кахым.
Услышав имя Кахыма, башкиры вскочили, кто по-военному отдавал честь, а кто и, улыбаясь до ушей, тряс ему руку, хлопал по плечу.
Наконец Кахым их успокоил, с каждым дружески поздоровался, усадил к костру и сам присел рядом с ними на войлочную кошму.
– О чем беседовали, земляки?
Все промолчали.
– О чем, спрашиваю, говорили?
Башкиры взглянули на Янтурэ – на старшего, если не по воинскому чину, то по годам, и тот хмуро, нехотя признался:
– Да вот срамили парня, оплошал, оробел в первой схватке!
Он кивнул вправо, и Кахым заметил в пляшущих языках огня бледного, с трясущимися губами юношу, безусого, почти подростка.
– Полюбуйся-ка на него, Кахым-турэ! – кивнул Янтурэ, и парень вздрогнул, словно от удара. – Опозорил славное башкирское войско!
Со всех сторон посыпались попреки:
– Одна гадливая корова все стадо испортит!
– Хорошая слава лежит, а дурная молва бежит! Кто да что?! И скажут люди – э-э, джигит Первого башкирского полка!..
– Нам такой горе-вояка не нужен!
– Гнать его в шею!
А парень все глубже и глубже втягивал шею в плечи от стыда:
– Простите меня!.. Верьте, теперь не струшу! Аллахом клянусь!
– Не поминай имя божье понапрасну! – строго оборвал Янтурэ, но дальше заговорил иначе, не так, как ждал Кахым: – Башкиры, Зулькарная тоже можно понять – он ведь убежал на сборный пункт кантона, прибавил себе лет, по призыву бы его не взяли – недомерок. Что он знал о войне? По песням о Салавате, по рассказам и побывальщине старых казаков, воевавших с турками… А тут пушки загрохотали, ружья затрещали, дым, крики, стоны раненых! Вот и растерялся. Надо его пожалеть. – И он вопрошающе покосился на сидевшего рядом Кахыма.
– Вполне с тобою согласен, агай! – кивнул Кахым. – Осторожно согнешь молодой ствол, и получится тугой лук. А переломишь на колене, то получишь две палки!.. Лаской покори необъезженного жеребчика, и выйдет из него тебе верный боевой конь. А ударишь молодую лошадь со зла кулаком в зубы или плетью по брюху опояшешь, и выдастся конь злым шайтаном, сбросит тебя в бою… Так что не губите Зулькарная. Он не трус, он совсем еще юный!
С минуту все молчали, пристально разглядывая бушующее пламя.
– Молод Кахым-турэ, а мудрый, – плавно повел ладонью в сторону Кахыма Янтурэ.
– Нет, агай, нет, – чистосердечно не согласился тот. – Это ты научил меня сейчас не горячиться, не торопиться! А я бы действительно с пылу с жару разломал бы ствол для лука на мелкие палки.
Джигиты с облегчением вздохнули – свалилась с плеч ноша… Верно рассудили Янтурэ-агай и молодой турэ. А Зулькарнай бросил на Кахыма благодарный взгляд, всхлипнул и убежал, чтобы выплакаться тайком и поверить, что беда миновала.
И весь следующий день, на учениях, он издали смотрел на Кахыма с благоговением, но подойти, заговорить не отважился.
Видимо, кто-то из джигитов сбегал в штаб полка, сообщил начальству о прибытии Кахыма.
И вскоре к костру подошли, выступили из тьмы майор Лачин, войсковой старшина Буранбай, полковой мулла Карагош.
– Вы – представитель Главной квартиры, а так неофициально… – с укоризной сказал майор.
– Ну извините, сразу вот попал в объятия земляка и забыл о служебном распорядке, – улыбнулся Кахым, указав на Янтурэ.
– Да мне-то что… – Лачин тоже заулыбался, крепко пожимая руку гостю полка.
– А ты где сейчас? В Муромском лагере? – спросил Буранбай. – Что там стряслось?
– Нет, я в Главной квартире, – быстро остановил его Кахым: совсем, дескать, не требуется заводить разговор о той смуте при джигитах. – Офицер связи у генерала Коновницына Петра Петровича.
Заслышав о приезде земляка Кахыма-турэ, со всех сторон лагеря торопились башкиры, сгрудились, жадно разглядывали его мундир, и эполеты, и саблю на портупее – каждому не терпелось пробиться сквозь толпу поближе, чтобы потолковать, порасспросить о родичах в Муромском лагере, о новостях с Урала.
– А главного начальника русской армии Кутуса видел? – спросил кто-то из джигитов, выговаривая на башкирский манер фамилию Кутузова.
– Видел. И даже разговаривал с фельдмаршалом.
– О-о-о! О-о-о! – пронесся в толпе восторженный гул.
– Высокая честь служить при самом Кутусе!
– Князь Михаил Илларионович хвалил ваш полк – храбро, умело бьете французов! – продолжал весело Кахым.
– О-о-о!..
– А Кутус не приезжал к нам, – заметил недоверчивый хмурый рыжебородый всадник, опираясь на копье.
На него напустились со всех сторон:
– Не может самый главный начальник побывать в каждом полку!..
– Старик!
– Ему докладывают офицеры, такие, как наш Кахым!
– А князь Кудашев – зять Кутуса, значит, шлет ему письма!
– Фельдмаршал просит меня передать вам благодарность! – сказал Кахым.
– О-о-о!..
Кураист Ишмулла попросил:
– Ты скажи нам, как по-русски говорил начальник Кутус?
– А разве тебе мало похвалы на башкирском языке? – удивился Буранбай.
– Конечно, мало, агай! Мне надо слышать, как это звучит по-русски.
Кахым обронил улыбку в бороду:
– Фельдмаршал сказал: «Благодарю любезных башкирских казаков – славно рубились с французами!»
– О-о-о!..
Даже те джигиты, которые плохо понимали по-русски, радостно хохотали, обнимались с соседями.
– Ура турэ Кутузову! – провозгласил майор Лачин, и джигиты в упоении загремели крепкими голосами:
– Ура-а-а!..
– Знаешь, Кахым-турэ, на душе посветлело, как услышал похвалу Кутуса, – сказал восторженно Ишмулла. – Сочинить бы песню о Кутусе!
– А ты сочини, – сказал Кахым. – Ты же не только кураист, но и певец, сам слагаешь песни, бывальщины! Пригласим тебя в Главную квартиру, и ты исполнишь свою песню перед Кутузовым и его генералами.
Ишмулла заулыбался сперва недоверчиво, а через мгновение – от всего сердца.
Майор пригласил Кахыма поужинать, отдохнуть.
– Мы живем в селе Молиди, это недалеко. А делами займемся завтра.
У невысокого бревенчатого дома стояли джигиты, держа в поводу дымящихся парком лошадей, возбужденно переговаривались, то и дело смеясь.
– В чем дело? – спросил Буранбай. – Кого ждете?
– Тебя ждем! Их благородие майора ждем!.. – бойко ответил низкорослый джигит с зажившим, но еще багровым шрамом на щеке. – Да как же, агай! Пошли в разведку и на дороге захватили двадцать «хрансузских» солдат и двух ихних офицеров. И не отстреливались – руки подняли! Вот мы и грохочем, жилки трясутся у горе-вояк, едва увидели семерых джигитов – и амана просят. Привели в лагерь, ведем мимо котла с салмой – так на колени пали, плачут – значит, наголодались. Ну, конечно, мы хлеба дали и салмой угостили.
– И офицеры не отстреливались? – спросил Кахым.
– Какое! Первыми в плен запросились, а у котла так плечами солдат отбрасывают прочь. И какие-то дикие: ни по-русски, ни по-башкирски не понимают, лишь балакают: «амур! амур!»
– Это они нас, башкирских казаков, называют «амурами», «северными амурами», – объяснил Кахым, а Лачину и Буранбаю добавил со вздохом облегчения: – Плохи дела у Наполеона, если офицеры начали сдаваться…
– А где пленные? – спросил Буранбай.
– В сарае.
– Приведите. Я по-французски немного понимаю – поднаторел в Петербурге, – сказал Кахым.
Французский майор, видимо, был до похода в Россию с брюшком, а сейчас отощал – мундир висел мешком. После салмы его клонило в сон, он ронял голову на грудь, затем встряхивался, бодрился. А лейтенант был и помоложе, и покрепче – щурился, высокомерно ронял слова… Оба офицера сначала наотрез отказались отвечать на вопросы, но Кахым им пригрозил: «Расстрел!», и они сникли, залепетали, что в Москве голод, среди солдат – французов, немцев, австрияков, итальянцев – начались раздоры, драки, мародерство. И своих генералов, случается, обворовывают!.. От дисциплины не осталось и следа.
– Утром отправить в Главную квартиру, – распорядился Кахым. – Фельдмаршала обрадуют такие вести. – Когда пленных увели, он взволнованно сказал: – План великого Кутузова полностью осуществился. Близок день нашего торжества! Вскоре страна будет освобождена от захватчиков.
Мулла Карагош вступил в разговор.
– Верные твои слова, турэ! И я в проповедях каждодневно внушаю джигитам: святое это дело – биться с врагами. Аллах благословил нас на ратный подвиг.
– Пошли в дом, поужинаем, – предложил Лачин.
На широкой лавке у окна спал сидя, прислонившись к стенке, Зулькарнай.
– А он-то как сюда попал? – удивился Кахым.
Буранбай, растроганно улыбаясь, поднял его, перенес за печку, опустил на кошму – паренек и не очнулся, лишь, как теленок, зачмокал губами.
– Сирота! Сбежал на войну. Мать от горя померла – как же, единственный!.. Пожалел я его и усыновил. Ему едва пятнадцать стукнуло. И нарекли его Зулькарнаем Буранбаевым. Ему сегодня сильно досталось от старослужащих воинов.
– Да, я слышал, как его стыдили.
– Что поделаешь, закалки нету. А привыкнет – и станет смелым воином, мы ведь тоже робели в первой схватке!.. Нет, стреляет он метко, а для сабли рука еще слабовата.
– Ишь, хитрец, не женился, а уже заимел такого большого сына-казака! – необдуманно пошутил Кахым.
По обветренному лицу Буранбая скользнула тяжелая тень, но он заставил себя улыбнуться, правда, улыбка получилась тоскливой.
– Ты, вероятно, слышал, как мне сильно не повезло… А я однолюб! И сейчас война, – значит, думай о войне и ни о чем ином. Вернусь живым – женюсь, может, по разуму, а не по любви. Пусть моя суженая станет матерью Зулькарнаю. Я его выращу, обучу уму-разуму, найду невесту. А впрочем, чего толковать о будущем, на войне надо жить сегодняшним днем. Давайте спать укладываться.
Утром Кахым с майором Лачиным и Буранбаем присутствовал на занятиях полка. Старослужащие, побывавшие в боях конники блеснули отменной выучкой, сноровкой в рубке лозы, метко стреляли с седла. Лошади за эти недели отдыха поправились, нагуляли и жирка, и силы, так и рвались с места в карьер.
Кахым чистосердечно заверил Лачина и Буранбая, что передаст фельдмаршалу Кутузову и генералу Коновницыну самые наилучшие отзывы о боеготовности Первого башкирского полка.
– Такие всадники как ударят по французам, как пойдут на запад, так не остановятся до Парижа! – воскликнул он, вовсе не подозревая, что его слова окажутся пророческими.
– Передай и князю Кутусу, что башкиры не оплошают! – засмеялся Буранбай.
– Так и передам.
Вечером Кахым пришел к землякам, отыскал у костров и Янтурэ, и Ишмуллу. Джигиты уже управились с ужином и занялись песнями. Ни мотив, ни слова Кахыму не были знакомы, и он остановился в темноте, за шалашами, с интересом прислушался.
Запевавший сиплым от зимних ветров голосом Янтурэ часто сбивался, и тогда Ишмулла подсказывал ему нужное слово и снова прикладывал к губам свой певучий, полнозвучный курай.
Урал-отец вручил сынам
Сабли и коней.
Благословил на битву
Со злыми французами.
Любезники, любизар,
Маладис, маладис.
Припев Янтурэ и джигиты дружным хором исполнили по-русски:
Мы и молодцы,
Мы и любезные!
От самого Кутуса
Получили рахмат.
Любезники, любизар,
Маладис, маладис.
Выйдя к костру, Кахым сказал громко, с восхищением:
– Ну вы и шустрые! И когда же успели сочинить?
– Да все вместе… Слово к слову подбирали, – объяснил Янтурэ. – А у нашего музыканта, – он указал на Ишмуллу, – курай волшебный, словно все мотивы в нем хранятся до поры до времени. Да и о тебе, Кахым-турэ, песню складывать начали.
– Обо мне-то с чего?
– Ну не скажи… – И Янтурэ подал знак, курай зажурчал, зазвенел родниково-чистой струею; джигиты, подбадриваемые и голосом, и жестами запевалы, грянули:
– Рахмат, земляки, но все же больше обо мне таких песен не слагайте, – попросил растроганный Кахым. – Не заслужил!.. Расскажите-ка лучше, как несете караульную службу по дорогам, как перехватываете французские обозы, пикеты, как партизаните? Казаки атамана Платова и башкирские джигиты рождены для партизанской борьбы – вылететь вихрем из засады, ошеломить, перестрелять стрелами, порубить, захватить пленных, трофеи. Фельдмаршал интересуется этой «малой войною».
Джигиты, воодушевленные вниманием посланца фельдмаршала Кахыма, с жаром рассказывали о самых удачных стычках, торжествующе говорили, что уже под Смоленском французы не выдерживали конной лавы с градом смертоносных стрел, пускались наутек. «Партизанить» – слово было и непонятным, и не выговаривалось башкирами, но суть-то «малой войны» они отлично усвоили и законно гордились, что сейчас воюют малой кровью, почти без потерь, – все решают внезапность и натиск.
В Тарутинский лагерь Кахым вернулся глубоко удовлетворенным: Первый полк был действительно готов к наступательным боям в самых суровых зимних условиях.
Коновницын внимательно выслушал Кахыма, велел написать подробное донесение фельдмаршалу, выделив наиболее успешные, оправдавшие себя приемы «малой войны».








