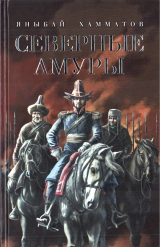
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
На пятый день после родов Сафию повели в жарко натопленную баню, вымыли и пропарили березовым веником, одели в белые чистые одежды.
А в дом тем временем входили гости, теперь мужчины; самым последним, как и подобает по сану, неспешно, солидно вступил мулла Асфандияр.
Когда гостей рассадили по подушкам на нарах, согласно рангу, возрасту и богатству, Ильмурза первым обратился к ним с проникновенной речью, но не как старшина юрта и не как хозяин, а как дед новорожденного.
– Святой хэзрэт, добродетельные аксакалы, почтенные земляки, дорогие мои родственники! – плавно начал он, то и дело поглаживая усы и бороду. – Вы знаете, почему я пригласил вас… Да, у моего сына Кахыма родился сын. Аллах осчастливил меня рождением сына моего сына. Жаль, что сына Кахыма нет дома. Он, как вы знаете, учится в Петербурге!.. – Всем это было известно, но Ильмурза не упустил случая еще разок похвастаться. – От имени сына Кахыма прошу вас – пожелайте моему внуку, а его сыну здоровья, счастья, богатства, знатности.
Гости поднесли ладони к лицу, пробормотали молитву и хором, но нестройно пожелали внучонку всего, чего хотел дед, и даже сверх того.
После этого горделивая бабушка Сажида, так и светясь радостью, внесла внука. Дабы уберечь младенца от сглазу, на ручку ему повязали ленточки, на шею повесили талисман.
Мулла Асфандияр взял ребенка на руки, покачал, как будто ему надо было узнать, сколько новорожденный весит, спросил деда:
– Каким именем хочешь ты наречь сына своего сына?
– Мустафой.
Мулла прошептал соответствующую молитву и трижды сказал в ушко младенцу: «Отныне будешь Мустафа! Запомни свое имя: Мустафа, Мустафа, Мустафа!..»
Наречение ребенка завершилось, как и водится, продолжительной и обильной трапезой с чаепитием и преподнесением подарков.
На следующее утро, едва вернувшись из мечети после намаза, Ильмурза приказал Сажиде:
– Мать, быстренько ставь самовар и приготовь угощение.
– Опять? Это с чего же? – заохала задерганная суетой событий Сажида.
– По пути из мечети встретил Хафиза и пригласил его свершить суннэт[30]30
Суннэт – обрезание мальчика; суннэтсе-бабай – старик, совершающий обряд обрезания.
[Закрыть] внуку.
Старшая жена так и обмерла: ведь с Хафизом тайно встречалась младшая жена Шамсинур. И впустить в дом такого ухажера, наглого соблазнителя?..
– Отец, – заныла она, – ой, говорят в ауле, у него рука тяжелая. Подождем, когда вернется из гостей добродетельный суннэтсе-бабай.
– Нет, все его хвалят, – хоть и молодой, а умелый.
– Так ведь внучок наш совсем еще крошечный. Зачем торопиться, атахы? Вот годик исполнится…
– О-о-о!.. Женщина, вдумайся, в какую ересь ты меня тянешь?! Грех, страшный грех до года держать мальчика без суннэта! Когда Мустафе год стукнет, я ему уже невесту сосватаю, с благословения Аллаха.
Но Сажида не уступала:
– Дождемся приезда его отца. Не вечно же будет Кахым учиться в том Петербурге.
– Не морочь мне голову! – прикрикнул Ильмурза.
То ли сама Сафия услышала разговор, то ли ей доложила Танзиля, но невестка решительно воспротивилась:
– Не подпущу Хафиза к моему сынку!
«Дочь богача! Вот себя и показывает! Из бедной семьи покорилась бы молча!» – подумала Сажида и, решив поддержать мужа, принялась ласково уговаривать:
– Не спорь, килен, с дедом, от волнения еще, не дай бог, молоко пропадет. Всем же мальчикам обрезают. Это все по вере, по велению Аллаха.
Сафия смирилась и отдала младенца в руки бабушки.
Когда обряд закончился и наплакавшийся, усталый младенец уснул, Сажида с утомленным, но довольным видом сказала Танзиле:
– Отец велел угостить суннэтсе Хафиза, ступай в горницу.
– Еще чего! – расфырчалась Танзиля. – Пускай свою молоденькую жену заставит прислуживать. От безделья дурью мается: все наряжается да прихорашивается, целыми днями валяется на перинах.
Сажида взялась за виски.
– Молодой женщине не пристало быть рядом с посторонним мужчиной.
– Так ведь и я не старая! – дерзко возразила языкастая Танзиля. – Не пойду!.. – И уселась на нарах рядышком с Сафией.
Клокоча от возмущения, Сажида удалилась.
– Видела Хафиза? – полюбопытствовала Сафия.
– Э, так, краем глаза.
– Какой он из себя?
– Э, вроде ничего, с носом!.. Да я его и раньше видела, на огороде, у плетня, когда шептался с Шамсинур. Она в него по уши влюблена!
– Нельзя молодым парням разрешать заниматься таким обрядом, – заметила Сафия.
– Это доходное дело переходит от деда и отца к сыну, к внуку.
Снова вошла Сажида, и снохи, переглянувшись, прекратили чесать языки.
28Кахым приехал из Петербурга лишь в марте следующего года, когда его сын стал уже резвым мальчуганом. Кахым возмужал, отрастил усы и округлую бородку и в казачьем офицерском мундире производил впечатление уверенного в себе мужчины.
Спрыгнув с седла у ворот родного дома, он передал поводья сопровождающему его джигиту-ординарцу. Подъехала, гремя колокольцами, тройка с тарантасом, следом – арба с вещами.
– Как поживаете, сородичи?
– Твоими молитвами!.. Как сам-то?
– Слава Аллаху! – Кахым с каждым стоявшим у ворот земляком здоровался за руку.
Собравшиеся поодаль женщины из соседних домов, прикрывая платками рты, любовались красивым стройным офицером.
Подоспел смелый Азамат и, по обыкновению, не церемонясь, потряс Кахыма за плечо.
– Да, теперь ты, друг, настоящий военный! Ниса-уа!.. В городе и не узнал бы – так переменился.
– Времени-то сколько прошло, – напомнил Кахым.
– Да, порядочно, – вздохнул Азамат.
В доме Ильмурзы уже все знали о приезде Кахыма, и зарумянившаяся, пополневшая и похорошевшая от материнства Сафия с гулко бьющимся сердцем выбежала было во двор, но тут же оробела, замерла и лишь издалека, прячась за служанок, разглядывала мужа. А ведь как тосковала, ждала, плакала от горя, сколько раз представляла себе встречу, но теперь он показался ей чужим. То ли отвыкла за эти годы, то ли помнила Кахыма тоненьким юношей, совсем молоденьким джигитом. Вон он улыбается, разговаривает с земляками, и плечами в эполетах поводит иначе, не так, как, бывало, в Оренбурге, в доме ее отчима Бурангула.
– Иди поздоровайся с мужем! – подтолкнула ее Танзиля.
– Неловко при всем народе, – смущенно промолвила Сафия. – Он еще с отцом-матерью не здоровался.
– Это верно, – согласилась старшая сноха.
А родители еще не вышли на крыльцо, ибо Ильмурза решил, что встретить сына – блестящего казачьего офицера – он, старшина, должен в военном мундире. Наконец, запыхавшись, выпятив обширное чрево, он вышел на крыльцо, горделиво осмотрелся, вздыбил бороду, за ним, на полшага сзади стояла бледная от переживаний Сажида.
Кахым поднялся по ступенькам, звеня шпорами, поклонился отцу, затем матери. Ни объятий, ни поцелуев – все чинно, по обычаю.
– Проходи в дом, – позвал отец.
Сафия вовсе потерялась, не знала, то ли смеяться, то ли расплакаться от радости, и убежала через кухню в свою горницу.
Земляки – и по приглашению, и без приглашения – повалили в дом за Кахымом с громкими возгласами, с веселым смехом. Танзиля, Шамсинур, молоденькие служанки за последние месяцы и мужского духа не чуяли, а ворчливый Ильмурза им до смерти надоел, и теперь они, возбужденные наплывом бравых джигитов, приездом Кахыма, офицера не местного, не оренбургского, а столичного, проворно бегали с самоварами, мисками, тарелками, кувшинами, раскидывали на нарах парадную скатерть.
Кахым подошел к матери, спросил шепотом:
– А где твоя килен?
– Где ж ей быть? В горнице. Трясется от нетерпения тебя увидеть, а идти в мужскую компанию ей не положено. Тебя ждут вдвоем!..
– Вдвоем? – не понял сын.
– Да, с твоим сынком Мустафой! – рассмеялась с наслаждением, с гордостью бабушка.
«Сын!»
Материнские слова словно подтолкнули Кахыма, и он не прошагал, а пробежал до дальней горницы. Сафия, бледная, с кривящейся улыбкой, сначала попятилась, затем вскрикнула и повисла у мужа на шее:
– Мой долгожданный!
Черноглазый красивый мальчик безмятежно играл на нарах, но увидев, что родимую матушку сжал в объятиях незнакомый человек, испугался и за нее и за себя, сел, вытянул ножки и залился во весь голос.
Кахым, разумеется, давно знал по отцовским письмам, что сын родился, что нарекли мальчика Мустафой, но представить себе ребенка зримо, во плоти не мог и тоже поначалу растерялся, затем подхватил его, поднял:
– Так вот ты какой джигит! Ну, здравствуй, здравствуй, сынок!
Малыш заколотил ногами по мундиру, заорал, потянувшись к матери.
– Ты на него не сердись, привыкнет! – сказала виновато Сафия, ослабевшая, будто пьяная. И обратилась нежно к сынку: – Это твой атай, милый! Не бойся отца, глупенький!
Кахым притащил сундучок с игрушками, гостинцами, высыпал подарки на нары, на пол, и Мустафа постепенно успокоился, с сияющими глазенками хватал то деревянного, ярко раскрашенного коня, то саблю в кожаных ножнах.
– Расти, улым, расти, а вырастешь, куплю лук с калеными стрелами, пойдем вместе на охоту! – приговаривал Кахым.
А Сафия, опьяненная счастьем созерцания мужа вместе с сыном, заливалась смехом, но внезапно каменела в отчуждении: Кахым был и свой, желанный, любимый, родной, и чужой, не из-за мундира, а по взгляду, по манере говорить, слушать.
Предупредив стуком башмаков о своем приближении, дверь осторожно открыла Сажида, увидела улыбавшихся сына и невестку, притихнувшего внучонка, с облегчением вздохнула: «Слава Аллаху, все у молодых по чести, по любви». Но тотчас ее доброе морщинистое лицо приобрело строгое выражение.
– Улым, надо выйти к гостям, отец велит.
Кахым с разочарованным видом передал малыша жене и спросил:
– А что там за шум, крики?
– Да как же! Буранбаю сообщили из Оренбурга о твоем приезде, вот он и примчался с кордона, тебя ждет.
Миловидное личико Сафии омрачилось, губки плаксиво надулись: «Мужчины пируют и долго и лихо, пристанет муж к их скатерти и не вернется до утра!..»
Бросив взгляд сперва на сына, потом на приунывшую жену, Кахым сказал:
– Скоро вернусь!
И ушел, мелодично звякнув шпорами.
Праздничная горница бурлила весельем. Гости лакомились и кумысом, и мясом, и бишбармаком, и казы. Буранбай поднялся с почетного места, протянул руки Кахыму:
– Ай-хай, какой батыр! И в плечах раздался, и осанка, и солидность по чину.
Кахым опустился рядом с ним на подушку.
Гости, бросая на него одобрительные и восхищенные взгляды, продолжали усердно жевать, чмокать, вытирая полотенцами масленые пальцы и вспотевшие от старания лица. Кто-то поинтересовался:
– А царский дворец видел?
– Конечно!
– А царь тебя в гости не приглашал?
– Не приглашал.
Буранбай рассердился на наивного и дотошного гостя:
– Будто царю есть дело до каждого башкира, прибывшего в Петербург учиться! – И обратился к Кахыму: – Кустым, расскажи, начнется ли опять война, когда начнется и с кем – с французами или с турками?
Ильмурза хотел урезонить Буранбая: дескать, не ты, а я здесь хозяин, значит, не наводи порядок, но гости зашумели, едва есаул упомянул о войне, а потом притихли в ожидании ответа Кахыма.
– Положение, я бы сказал, как в облачный день, – подумав, сказал Кахым, – то тучи соберутся и все помрачнеет, то солнце выглянет, и люди повеселеют. Мир русский царь с французским заключил, а все военные в столице не верят, что этот мир надолго. Ждут от императора Наполеона новых диверсий.
Непонятное слово заставило гостей вздрогнуть: дело, похоже, нешуточное, если Кахым так изъясняется.
– А здешняя жизнь после столицы какой тебе показалась? – поинтересовался Буранбай.
– Сонная тишина, – быстро сказал давно уже продуманное, выстраданное Кахым. – В столице, да и в Москве люди задумываются не только о войне, но и о мирной своей жизни, о просвещении народа, о развитии искусства, а здесь по-прежнему тихо-тихо, дремотно, как на болоте.
– Мы своей жизнью довольны, – внушительно заявил мулла Асфандияр, и гости согласно закачали бородами. – Лишь бы Аллах был нами доволен!.. В Петербурге своя жизнь, а у нас своя. А кто пожелал учиться, иди в медресе.
– Аминь, – подтвердил Ильмурза.
Но Кахым, как видно, в Петербурге сильно переменился и от спора с муллой и отцом не уклонился.
– Что пользы человеку в жизни, если в медресе научат арабским письменам: альеп, бей, тей, сей? Ну зазубрит наизусть молитвенные суры! Пора открывать государственные школы – четырехклассные мектебы.
– Сын, ты бездумно повторяешь слова неверных! – покраснев от гнева, сказал Ильмурза.
– В Коране вся мудрость мира, – добавил мулла.
– О Коране не спорю, хэзрэт, – сказал Кахым, – но ведь теперь надо еще знать математику, физику, химию, географию, историю.
Мулла вонзил в него колючий, осуждающий взгляд:
– Грешно даже повторять такие богомерзкие слова! Вижу, учиться в Петербурге опасно. И сам набрался бесовских заблуждений, и земляков теперь сбиваешь с пути праведного, божеского.
Буранбай не согласился с Асфандияром:
– Новое время – новые песни, хэзрэт!
Мулла зафырчал, как кипящий самовар:
– И новые песни следует слагать в честь всемогущего Аллаха!.. Да ты сам портишь Кахыма.
Опасаясь, что стычка превратится в прямую перебранку, Ильмурза повернулся к сыну и осведомился:
– Встречался в столице с князем Сергеем?
– Да чуть ли не каждый день, – просто, как будто это само собой разумеется, ответил Кахым.
Ильмурза спесиво надулся: его сын дружески общается с молодым князем Волконским…
– Князь Сергей – душевный, – сказал Буранбай, – не кичится княжеским саном и положением отца.
– Молодой, а в высоких военных чинах! – с завистливой похвалой заметил Ильмурза. – Салават совсем молодым был, когда его произвели в полковники. Наверно, и ты, окончив ученье, получишь чин полковника?
Кахым пожал плечами: дескать, откуда ему знать.
– А жив ли Салават-батыр? – спросил кто-то из аксакалов.
Буранбай, прищурившись, закинул голову и начал прикидывать вслух:
– Пять лет прошло… В тысяча семьсот семьдесят пятом был Салавату всего двадцать один год. Сейчас у нас восемьсот десятый. Значит, Салавату всего пятьдесят шесть годков. Полдень жизни для мужчины!..
Ильмурза добавил с таинственным видом:
– Я ведь отца Салавата, Юлай-агая, в юности встречал. Величественный был джигит!.. Все мужчины его рода долголетние. И Салават вполне проживет лет восемьдесят – девяносто, не меньше!..
– Может, царь отпустит его из заточения по сроку давности, – робко предположил какой-то аксакал. Кахым заявил решительно:
– Никогда Салавата с каторги не отпустят!
Все гости тяжело завздыхали, но Ильмурза не хотел терять надежду:
– С чего так решил, сынок? Помыслы Аллаха неисповедимы.
Мулла усиленно затряс бородою: мол, милосердие Аллаха безгранично.
– Все генералы в столице считают батыра Салавата, Емельяна Пугачева, Степана Разина, батыра Кинью Арсланова самыми опасными бунтарями. Их они проклинают и по сей день!.. Как-то я неосторожно заступился за Салавата, так на меня напустились: «Ты, видно, такой же мятежник, как твой земляк!..» А потом предупредили, будто пошли разговоры: «Сколько волка ни корми, все в лес смотрит. Зря князь Волконский прислал сюда учиться этого волчонка».
У Ильмурзы затряслись руки.
– Каким же чудом ты уцелел?
– Не чудом, а дружбой с молодым князем Сергеем, – светло улыбнулся Кахым.
– Ты, сынок, не подводи и себя, и меня, – горячо зашептал отец. – Ежели начальник что сказал, соглашайся с ним, поддакивай. Станешь начальникам угождать, в большие люди выйдешь!
– Аминь! – скрепил это отцовское поучение мулла, а старики погладили бороды и этим выразили согласие со старшиной юрта.
У Буранбая было свое на уме:
– Каждый человек должен оставаться самим собою.
Ильмурза и мулла переглянулись, но промолчали.
Сидевший на самом углу скатерти Азамат обиделся:
– Назвать волчонком Кахыма!.. Башкира каждый может унизить.
– Они боятся обучать башкира военному делу, – примирительно сказал Буранбай. – Вдруг да возглавит бунт.
– Ты, брат, говори, да не заговаривайся! – разозлился Ильмурза. – С чего это мой сын начнет бунтовать?
– Аминь, – буркнул мулла. – Однако нельзя нам спускать глаз с молодых. Встречаются среди них дерзкие, неуступчивые. Усы, глядишь, не отрасли, а норовит жить по-своему. Мнят себя умнее отца-матери. – Асфандияр поднял глаза к потолку и возгласил: – Вразуми их, Аллах!
Двери распахнулись, служка внес самовар, то ли шестой по порядку, то ли восьмой, и чаепитие возобновилось к обоюдному удовольствию гостей и хозяина.
29Мужчины пировали, спорили, сердились, а Сафия металась в своей горнице около безмятежно спящего Мустафы. Едва сынок задремал, она спешно начала переодеваться, чтобы муж увидел ее в полном праздничном наряде. Выбрала самое пестрое платье с широкими оборками по подолу, прикрепила нагрудник с крупными серебряными монетами. На голову надела меховую ушанку, всю в арабских, турецких и бухарских серебряных монетах. Тугие щеки, и без того-то румяные, покрасила, подвела глаза и брови. В маленьких ушках засияли серьги с драгоценными камушками, на руках зазвенели золотые браслеты. Перстни с алмазами были с трудом натянуты на беленькие пальчики.
Долго-долго любовалась она собой перед зеркалом. Красива и молода… Холеная и нежная… От неуемной радости Сафия вдруг пустилась в пляс, перебирая на месте мягкими суконными сапожками, расшитыми разноцветными шелками, а монеты мелодично отзывались на каждое ее грациозное движение.
Кахыма же все нет и нет. «Нас, женщин, считают болтливыми, а сами часами разговаривают Аллах знает о чем… Шумят, кричат. Может, кумысом упились?» Она беспомощно опустилась на нары, уронила руки на колени. Терпи, терпи, женщина, смирись с затворничеством, с одиночеством – такова твоя горькая доля по шариату, по обычаю, по всему укладу семейной жизни… И как мужу не стыдно – засиделся! Мог бы под благовидным предлогом встать и уйти. Видно, не соскучился по жене, не обрадовался первенцу. Поди, завел себе в столице красотку, вот и не истосковался по молодой жене, а она, неразумная, слезы льет… Так и еще два года пройдет в разлуке, и еще два, глядишь, Сафия состарится, огрузнеет. Ему-то что! – приведет в дом младшую жену, как привел его отец Ильмурза. А ей, старшей жене, он вручит ключи от кладовки, от амбаров, от сундуков, взвалит на плечи груз хозяйства, заставит следить за конюхами, за работниками.
В дальней праздничной горнице заиграл курай. Буранбай!.. Это его душа поэта и музыканта воплотилась в пленительной мелодии. Красивый полнозвучный голос Кахыма присоединился к мотиву и словно обогатил песню и вещим словом, и пронзительной удалью. Наслаждаются музыкой да песнями!.. Стало быть, не скоро соизволит облагодетельствовать Кахым свою благоверную.
Сафия расплакалась, разделась, привычно аккуратно уложила наряды и украшения в сундук и легла на перину.
«Пускай развлекается! Заявится, а я и не приголублю, ляжет, а я и не обернусь к нему, не раскрою объятий. И разговаривать не стану. Прикинусь, что устала, крепко уснула. Пока молодая, надо погордиться, повеличаться. Вон как Шамсинур выламывается, жучит своего старичка Ильмурзу!»
Легко мечтается, да с трудом сбывается… Едва дверь скрипнула и в темную горницу ступил муж, как Сафия ласточкой взлетела с нар, бросилась ему на шею, расцеловала… Молодость не злопамятна, а горячая кровь вскипела от прикосновения крепкого, словно выкованного тела Кахыма, рук его и губ.
Она была счастлива безмерно, головокружаще, но на следующий день нагрянули гости из соседнего аула, и опять полился в чаши из кувшинов пенистый кумыс, и опять захлопотали кухарки у очага, выпекая, поджаривая беляши, отваривая мясо. А как не принять хлебосольно гостей? Осудят!.. Прибывшие требовали от Кахыма подробных рассказов о Петербурге, о военной учебе, захотели услышать, как дивно он играет на курае, на скрипке, как сладкоголосно распевает и башкирские, и русские песни.
Приходилось подчиняться.
Наконец-то гости схлынули, и Кахым смог проводить все дни с женой и сыном.
Однажды днем, когда малыш заснул, он отправился вместе с Сафией покататься верхом на застоявшихся, раскормленных лошадях старшины юрта. Дочь начальника кантона была лихой наездницей, а конь, видимо, чувствовал ее доброту – подчинялся не кнуту, не окрику, а поглаживанию по шее нежной ручкой. Кахым и в столице постоянно занимался верховой ездой. И вот всадники на резвых скакунах стремительно помчались в гору, в рощу. Весна еще не осилила зиму, и в низинах, в лощинах лежал потемневший ноздреватый снег, но на вербах, на ивах уже набухли почки, и казалось, что деревья вздохнули раскованно, с упоением вбирая, втягивая родниково чистый воздух, радуясь синеве высокого неба и жарким лучам солнца.
Они углубились в лесную чащу. Деревья стояли здесь еще с прозрачными вершинами, черные от влаги, но березки уже красовались пушистыми сережками.
– Кахым, весна! – воскликнула Сафия, любуясь властной посадкой мужа, его молодцеватой осанкой, офицерской статью. – Хотя, с тобой мне и ненастье показалось бы светлым, безоблачным праздником.
– Весна всему живому в радость, – сказал Кахым и указал на извилистые следы на снегу: – Гляди, зайцы плясали! Весну почуяли! Начались звериные свадьбы.
– Фи, разве можно равнять человека с животным! – поморщилась Сафия. – Ты еще про собак вспомни…
– Ничего скверного тут нет, – пожал плечами муж. – Ты горожанка, а мы в деревне привыкли и к лошадиным, и к волчьим, и к собачьим хороводам-свадьбам. Все живое плодится, размножается.
– Да, конечно, – подумав, согласилась Сафия, – но хочется, чтобы у людей жизнь была почище, не такой звериной, как порой бывает.
Кахым пустил коня крупной рысью и крикнул задорно:
– А ну-ка, догони!
Сафия шепнула, пригнувшись, в ухо лошади: «Милый мой Ветерок, не подведи!», и конь понял, откликнулся, пустился вскачь, взвихривая снег и разбрызгивая лужи на солнцепеке.
Через минуту Сафия обогнала мужа, обернулась и захохотала, сверкнув зубками:
– Теперь ты догоняй!
Кахым орудовал и шпорами, и плетью, но его тяжелый жеребец уже притомился, потемнел от пота, а смелая всадница так и мелькала среди деревьев все дальше и дальше.
– Погоди! – смирился и попросил муж, а когда его жеребец догнал совсем свежего коня Сафии, сказал с восторгом: – До чего же ты, женушка, ловкая в седле! Ты красивее всех женщин и нашего аула, и Оренбурга, и всего мира.
Какая женщина устоит перед пылкими признаниями любящего мужа! Сафия вспыхнула, одарив Кахыма благодарным взглядом, и вдруг задумалась, вздохнула глубоко, с печалью:
– Даже представить себе не могу, как еще раз расстанусь с тобой.
– Не навсегда же, – беззаботно сказал Кахым.
«Да-а, ты уедешь, жизнь у тебя вольная, а я снова останусь в заточении, в опостылевшей горнице!.. Нет, видно, все мужья черствые».
Уж как не хотелось ей унывать при муже, но прикидываться беспечной она не хотела и не умела.
Позади раздался протяжный крик: «Ау-у-уу!..», Кахым и Сафия невольно вздрогнули, а лошади их приблизились друг к другу, прижались мокрыми боками.
– Кто это там? – свел брови Кахым, привстав на стременах.
На полянку вылетел Азамат на взмыленном, с ошалевшими глазами коне, замахал рукой:
– Вон вы где! А я обыскался, аж охрип от криков.
– Да что стряслось? Несешься, будто на пожар.
– Буранбай-агай тебя дожидается. Он в армию уезжает. Приехал, говорит, с братом Кахымом попрощаться!..
– В какую армию? – удивился Кахым. – Он и сейчас в армии, на границе, начальник дистанции.
– Сам его спросишь, а я не знаю. Откуда мне знать. Ильмурза-агай велел тебя разыскать.
– Ну, скакун, трогай! – сказал Кахым, и гнедой послушно, с места перешел в тяжелый карьер, широко разбрасывая ошметки влажной земли.
Сафию задело, что муж даже не оглянулся, не позвал с собою. Она вздохнула: «Привыкай, женщина!» – и похлопала ласково коня по шее, но догнать гнедого скакуна ей не удалось – жеребец Кахыма летел, почти не касаясь копытами дороги, грива и хвост полоскались по ветру.
У ворот отцовского дома Кахым легко спрыгнул с седла – работник подбежал, принял коня – и быстро взбежал на крыльцо, крикнул громко, перепугав отца с матерью и других домочадцев:
– Что случилось-то? Война, что ли?..
Ильмурза, не сползая с нар, зашипел:
– Тихо, тихо ты, Мустафу разбудишь! Какая война?
– А почему Буранбай в армию уезжает?
– А-а-а, вон ты о чем!.. Разве можно так кричать? Никакой войны, слава Аллаху, нет, а пришел из Петербурга приказ-фарман: сформировать два башкирских казачьих полка и отправить на западную границу. Первым полком, в тысячу джигитов, назначен командовать Буранбай, а вторым – сын нашего свата Бурангула – Кахарман.
– Где же Буранбай-агай? Спит?
– Да где там! Заехал накоротке, торопился в канцелярию генерал-губернатора, я разослал гонцов искать тебя, но лишь Азамат догадался поскакать на гору и в рощу. Буранбай успел попить чаю и поскакал в Оренбург с ординарцами.
– Давно? Я его догоню.
– Погоди, улым, не горячись. В Оренбурге он задержится, ведь ему надо собрать полк. Лучше бы тебе прихватить с собой жену и повезти ее попрощаться с братом. Ты поедешь на коне, а Сафия со служанкой – в тарантасе.
В Кахыме проснулось отцовское чувство тревоги:
– А как же Мустафа?
– Внук останется у нас, у бабушки. Зачем мучить дорогой ребенка? – рассудил дед. – Тебя твоя мать вырастила, значит, можешь доверить ей и своего сына.
Согласившись с разумными доводами отца, Кахым с легким сердцем оставил первенца на попечение бабушки. Сафия, наскучавшаяся долгим затворничеством, была рада случаю вновь побывать в отчем доме, повидаться с родителями и братом, побродить по улицам шумного, кипучего города, где полки в лавках ломятся от кип атласов, бархатов, шелков, а на восточном базаре торгуют бухарскими и самаркандскими пряностями, притираниями, благовониями, поболтать и посплетничать с подружками – да это же просто счастье для восемнадцатилетней женщины!
* * *
Кахым все же не утерпел и, велев жене срочно собираться, ускакал один на свежем коне.
Только в Оренбурге он Буранбая не застал – тот уже уехал в расположение своего полка.
А в доме тестя, начальника кантона Бурангула, царило благодушное настроение: Кахармана в полк не назначили, оставили в резерве, – значит, лелей старость отца-матери…
– Разве я виноват? – оправдывался он. – В самую последнюю минуту назначили командиром поручика Айсуака. Благо, я болею всю зиму.
Фатима зафырчала, как разъяренная кошка:
– Это он-то больной?! Ой, не могу!
– Хватит! – затопал ногами на языкастую женушку Кахарман. – Не встревай в мужской разговор! Чем трепать языком, прикажи самовар поставить, приготовить для зятя угощенье. – А когда Фатима, тыча во все стороны локтями, вышла, сказал, понизив голос: – От тебя, зятек, тайны нет: войною пахнет!.. Француз того и гляди пойдет на Россию. Вот почему велено двинуть к границе башкирские и калмыцкие полки. А вообще-то ух-ух, – он покрутил мясистым носом, – дело даже не в этом, а в том, что в полк хотели назначить тебя.
– Меня?! – Новость была до того невероятной, что Кахым лишь боязливо улыбнулся.
– Да, да, зятек, именно тебя! Подполковник Ермолаев ходатайствовал, но князь ограничился присвоением тебе чина поручика. Этим все и закончилось.
– Час от часу не легче!.. – Чего греха таить, Кахым был тщеславным, как и любой молодой офицер, и звание поручика по его годам – высокое, но командовать полком, тысячей джигитов, – это же головокружительная удача! – Что же произошло?
– А то, что мой отец поехал к князю Волконскому и выпросил разрешение закончить тебе учение в Петербурге.
…Кахым был взволнован, долго раздумывал, посоветовался с тестем и решил в Оренбурге не задерживаться, а быстренько съездил в деревню, попрощался с отцом и матерью, горячо поцеловал сына, жену – бегло, на ходу, и помчался на перекладных в столицу.








