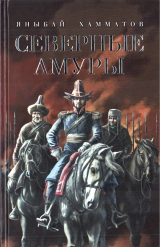
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
После окончания суда начальник губернской канцелярии Ермолаев явился с докладом к князю.
Старик чувствовал себя скверно, сидел в глубоком кресле, рыхлый, с безвольно опущенными плечами, но поднял глаза на вошедшего с живейшим вниманием:
– Слушаю, Алексей Терентьевич.
– Суд полностью оправдал есаула Буранбая Кутусова. И при расследовании, и в ходе судебного заседания установлено, что деньги присвоили помещик Соколов и бывший начальник Шестого кантона Биктимеров.
– Ну и слава Богу, – Григорий Семенович перекрестился. – Справедливость восторжествовала. Укрепи, Господи, мои силы, чтобы в последние годы моего губернаторства не осудили ни единого безвинного и не отпустили ни одного преступника.
Ермолаев слушал с благоговейным выражением смуглого от степных загаров и ветров лица, но, видимо, думал, что всех преступников не перехватаешь и не накажешь, а безвинные как томились, так и будут гибнуть в казематах и на каторге.
– А командир Четырнадцатого полка?
– Да, Юлбарыс Бикбулатов собрал с каждого из подвластных ему пятисот всадников по шесть рублей, чтобы за взятки освободить от похода тех, кто особо пострадал от засухи тысяча восемьсот одиннадцатого года, – это полностью доказано на суде. Но замыслы не удались, деньги были присвоены им и старшиной юрта Айсуаковым Ибрагимом, а джигиты ушли в поход.
– Какое святотатство! – возмутился князь. – Нарушить присягу, воинский долг!..
– Да, ваше сиятельство, – согласился Ермолаев. – Деньги с преступников взысканы и будут возвращены башкирским казакам или… или их вдовам.
Морщинистое отечное лицо князя болезненно дрогнуло:
– …вдовам…
«А вернут ли деньги? Не разворуют ли по второму разу?» – проницательно подумал Ермолаев, глубоко знавший местных судебных чиновников и их повадки.
– Алексей Терентьевич, – охая, кряхтя, князь возился в кресле, – ну что там еще?
– Губернский прокурор господин Веригин настаивает на привлечении есаула Буранбая Кутусова к суду за бунтарские песни, восхваляющие Пугачева и Салавата, призывающие к неповиновению властям.
– Ай-ай-ай, – заныл князь.
– У прокурора есть донос башкирского казака Остырова…
– Голубчик, но неприлично же вторично таскать по судам героя Отечественной войны, награжденного именной саблей. Сделайте есаулу внушение от моего имени, попросите… воздержаться от рискованных высказываний. А саблю ему вернули?
– Сейчас проверю, ваше сиятельство.
– И, Алексей Терентьевич, остальные дела решайте в эти дни с вице-губернатором, я неважно себя чувствую.
– Слушаюсь.
Вымытого в бане, переодетого из арестантского халата в парадный чекмень, с торжеством гремящего саблей Буранбая привели к Ермолаеву, и начальник канцелярии поздравил его с благополучным завершением затянувшейся кляузы, но пригрозил, чтоб впредь жил в ауле тише воды ниже травы, иначе вторичного оправдания не будет.
Буранбай, не чуя земли под ногами, вышел от Ермолаева и в тот же день уехал в аул.
Весть о том, что он оправдан, неслась по аулам быстрее ветра, все радовались, что их любимый сэсэн и кураист на свободе, со всех сторон спешили к Буранбаю почитатели с поздравлениями и подарками. Некоторое время он крепился, жил молчаливо, замкнуто, но затем хмель музыки и стиха опьянил его, и он взял в руки курай, домбру и запел о легендарных героях былого, приводя слушателей в восторг.
А тем временем князя Григория Семеновича Волконского отозвали в Петербург, вместо него генерал-губернатором назначили Петра Кирилловича Эссена.
Ермолаева тотчас же отправили в отставку.
Над Буранбаем сгустились грозовые тучи, да он и сам понял, что теперь ему несдобровать, и едва услышал, что губернский прокурор требует пересмотра дела, поскакал в Оренбург, надеясь, что Эссен его выслушает, но губернатор есаула не принял, а в губернской канцелярии ответили, что следует вернуться в аул и терпеливо ждать.
Он ждал-ждал и дождался…
Третьего мая 1820 года вышел указ сената, утвержденный царем Александром, и фельдъегери, колотя ямщиков по затылку, не щадя почтовых лошадей, привезли указ в Оренбург.
В конце июня Буранбая вызвали вестовым в центр Шестого кантона, аул Сибай. Из соседних деревень приехали старшины юртов, есаулы. Встречали Буранбая начальник кантона Абдрахман Биктимеров, сын Аккула Биктимерова, и дворянский заседатель из Верхнеуральска Андреев.
– Если все в сборе, то начнем, – сказал Биктимеров.
– Да, начнем, – строго произнес Андреев и, запрокинув голову, глядя куда-то под потолок, выше Буранбая, провозгласил протяжно: – Есаул Кутусов, верните нам грамоту на чин и медаль старшины юрта.
– Это с какой стати? – Буранбай сразу завел гневный запев: – Не вы мне их выдали, не вам и отбирать.
– Не заставляйте прибегать к силе, – не повышая голоса, предупредил заседатель.
Буранбай посмотрел по сторонам – всюду конвойные казаки, значит, и силой возьмут… И он пожал плечами:
– Медаль сами снимайте, а грамота у меня дома, в ауле.
– Поймите, я выполняю приказ генерал-губернатора, – словно оправдываясь, сказал Андреев, – не мне же это надо.
Ибрагим Айсуаков, Аккул Биктимеров и Юлбарыс Бикбулатов отдали по очереди свои старшинские медали, видя, что добром все это не кончится.
И действительно, дворянский заседатель зачитал слегка дрожащим от волнения голосом указ сената, а затем добавил уже от себя по-деловому:
– Ссылка в отдаленные места Сибири… Восьмидесятилетний Биктимеров Аккул по возрасту и ввиду болезни от наказания освобождается – такова воля всемилостивого императора Александра.
– Что за несправедливость! – закричал Буранбай в диком ожесточении. – Невинных людей в Сибирь, а Биктимеров и Соколов вышли сухими из воды!
– Указ сената утвержден императором, следовательно, возражать бесполезно, – сказал заседатель буднично, словно речь шла о покупке пуда овса для его лошадей. – Урядник, отведите арестантов в «темную».
«Вот ты и арестант, есаул!» – сказал себе Буранбай и запел во весь голос:
В тысяча да восемьсот
Двадцатом году
Не ждал не гадал,
А попал в беду!
На улице собралась толпа, все жители и приезжие уже знали о суровом приговоре и смотрели на опального сэсэна с жалостью, но молчали, опасаясь нагаек конвойных казаков.
Вдруг Юлбарыс Бикбулатов, с силой оттолкнув казака, спрыгнул с высокого крыльца и забежал за угол, нырнул сквозь стоявших у коновязей лошадей и скрылся в закоулках.
Толпа ахнула, а затем взорвалась криками:
– Эй, сбежал!
– Хай-хай, какой шустрый!
Урядник заколотил нагайкой по голенищу сапога:
– Немедленно поймать!
Конные казаки понеслись в проулок, но беглеца и след простыл.
На крыльце показался заседатель Андреев, безучастно окинул взглядом площадь, плотную толпу и сказал Буранбаю:
– Это ты помог ему скрыться.
– Да он же шел позади меня! – воскликнул Буранбай. – Если б я догадался, сам бы убежал! – И плутовски подмигнул стоявшему рядом Ибрагиму Айсуакову.
А у того был обреченный вид, руки висели, как ветви засохшего дерева, в глазах – беспросветная тоска: где уж тут бежать, лишь бы выжить…
– Россия, конечно, просторная, но куда 6 ни убежал, все равно поймают, – невозмутимо произнес заседатель.
– А Юлбарыс оставил вас все-таки с носом, ваше благородие, – засмеялся Буранбай. – Хай-хай, молодец! – И вызывающе запел:
Круты берега Хакмара,
Ни кустика, чтоб зацепиться.
Буранбаю, Ибрагиму
От судей не откупиться.
– Ну и язык у тебя, бывший старшина, – хмыкнул заседатель.
– Надо же повеселиться напоследок!
– Да мне-то что, – зевнул заседатель.
В конце июля Буранбая и Ибрагима под охраной четырех оренбургских казаков пешими, по этапу привели в Верхнеуральск, поместили почему-то не в «темную», а на частной квартире мещанина Глазунова, правда, под неусыпным надзором.
Внезапно у Буранбая сильно разболелась нога, он лежал, охал, стонал, говорил, что шага ступить не может. Положили его на телегу, отвезли к лекарю, тот, дыша перегаром и табаком, мял, жал, щупал ногу поминутно вскрикивающего арестанта:
– Жилы вспухли, не привык пешком-то шагать… Надо бы в бане пропарить.
Сводили арестанта в баню. Казаки зароптали, мол: пускай стражники охрану несут, это дело им привычнее. Комендант отрядил двух стражников. Сначала те дежурили исправно, поигрывая в картишки, затем разленились и с вечера заваливались в сенях дрыхнуть.
Буранбай и Ибрагим выломали двойные рамы окна и убежали. Они укрылись в заливной у реме Хакмара.
– Летом каждое дерево дом, а что зимой станем делать? – спросил Ибрагим, признавая в Буранбае старшого.
– В казахские степи подадимся.
– Нет, так далеко не пойду, перезимую в Девятом кантоне на заимках у родни.
Буранбай его не удерживал – обнялись неуклюже, но крепко, так, что ребра затрещали, и разошлись в разные стороны.
Буранбай ушел в степь, два года прожил в Шомском и Чиклинском родах, кочевал с ними, играл на курае и домбре на праздниках и свадьбах. Кормили обильно мясом и молоком, но без хлеба. Пришлось ему привыкать обходиться без печеного хлеба. А хуже всего было то, что сердце грызла тоска, доводившая его буквально до умопомрачения. «Башкир должен либо жить в родном ауле, либо воевать на коне, с луком и стрелами, с булатной саблей», – повторял Буранбай себе.
Как-то позвали его на пиршество к султану Чиклинского рода Абдельфаизу Юлбарисову увеселять знатных гостей песнями и мелодиями курая. Султан был в восторге от искусства башкирского сэсэна, обнимал его и миловал, уговаривал остаться навсегда в его роду, сулил отдать в жены сразу двух четырнадцатилетних девочек.
– А как ты к нам в степи попал, башкирский певец?
Буранбай не таился и рассказал султану откровенно о своих злоключениях.
– Ты, сэсэн, напиши прошение Эссену, объясни подробно, как тебя из невинного превратили в виноватого. У меня переводчик из беглых русских солдат, очень грамотный, все тебе напишет в наилучшем виде. Сошлись и на князя Волконского, и на начальника канцелярии Ермолаева.
– А где они? Их в Оренбурге давно уже нет, – вздохнул Буранбай. – Ясно, что при них меня бы не тронули.
Писарь из русских беглых давно уже превратился в казаха, имел четырех жен по шариату, нарастил отвислое брюхо, но отличался бойким пером и настрочил прошение убедительное, со слезными мольбами.
– У меня и паспорта нет.
– Я тебе напишу проходное через границу свидетельство от имени хана, с приложением его печати. Едешь, мол, в Оренбург по торговым делам.
Буранбай поблагодарил доброго человека, тоже скитальца не по своей охоте, сказал «рахмат» султану за милости, за совет, за коня в подарок и отправился в родные башкирские края.
Чем ближе подъезжал он к границе, тем нетерпеливее билось его истосковавшееся сердце. Осенью казахские степи уныло рыжие, выжженные летним знойным солнцем; северный, остро режущий лицо путника ветер гонит клубки травы перекати-поля, из оврагов высовываются хищные морды волков, а здесь, в Оренбуржье, леса стоят в праздничном наряде, щедро украшены розовыми, желтыми, оранжевыми, золотистыми красками разноцветной, колкой от первых заморозков листвы. А липы, осины уже сбросили листья, и они в ложбинах лежат коричневыми ворохами, резко пахнущими перегноем и спиртом. Но ветки рябины, калины гнутся под тяжестью коралловых гроздей ягод, которым бы красоваться в кольцах и сережках девушек, подобно драгоценным камушкам, а они рдеют напрасно.
– Эй, стой, стой! – раздались грубые крики, и Буранбай оглянуться не успел, как был окружен конными казаками.
Стараясь быть спокойным, он поздоровался:
– Салям!
– Салям! – Рябой казак с висячими, сильно подбитыми сединой усами неторопливо всматривался в странника. – Где-то я тебя видел, приятель. А где, не помню. Может, ты меня вспомнишь, я Греков Григорий. Узнаешь?
– Нет, не узнаю, – сказал Буранбай, – может, где и встречались на войне, я ведь служил в башкирских полках, а сейчас приказчик султана Абдельфаиза Юлбарисова, еду по его торговым делам в Оренбург, могу и грамоту показать.
И он, не задерживаясь, тронул коня, резвой рысью поехал по твердо утоптанной дороге.
Пограничники не двинулись с места, проводили его, казалось бы, равнодушными взглядами, но едва он сказал себе: «Слава Аллаху, беда миновала», как позади загремели копыта, – лошади у казаков свежие, застоявшиеся, а конь Буранбая притомился, отощал, – и через минуту он оказался в кольце разгоряченных скачкой лошадей и наставивших на него ружья и пики казаков.
– Ты Буранбай, беглый, я тебя признал, ты из Верхнеуральска скрылся, на тебя объявлен розыск! – кричал Греков.
У Буранбая вырвали саблю, скрутили руки за спиной, крепко перетянули кожаным ремешком. Начальник дистанции и слушать оправданий не захотел, отобрал письмо губернатору Эссену и путевой лист от хана и под сильным конвоем препроводил беглеца в оренбургскую тюрьму.
Из тюрьмы в ссылку его отправлять не спешили, то ли собирали большую партию арестованных, то ли забыли, и потянулись однообразные, серые, как затяжные осенние дожди, дни и ночи в каземате, где на полу – охапка соломы, на окне – кружка с водой и кусок ноздреватого хлеба, а по углам – шуршание мышей.
14Зулькарная, приемного сына Буранбая, назначили старшиной юрта, – видимо, решили, что он ветеран Отечественной войны, был смелым разведчиком, что ему уже 26 лет, что он не прямой потомок бунтаря-певца, словом, кто-то в Оренбурге, судя по всему, махнул рукой на эти досадные обстоятельства и вручил ему медаль старшины.
Работал Зулькарнай исправно, жил скромно, все его почитали, не забывая, что сироту усыновил всеобщий любимец, башкирский соловей Буранбай, но при этом нахваливая и личные достоинства молодого старшины.
Узнав, что его отец опять очутился в оренбургской тюрьме, Зулькарнай поскакал в Оренбург, стал обивать пороги во дворце губернатора с прошением отпустить Буранбая к нему на поруки, но и прошение у него не приняли, и разговаривать не захотели, а друзья-приятели шепнули: «Сиди в ауле и помалкивай, если не хочешь расстаться с медалью старшины».
Злой, измученный вернулся Зулькарнай из города. Улица еще пустая, но из труб подымаются серые колеблющиеся дымки, хозяйки носятся из избы в амбар, в хлев, хозяева выводят лошадей из конюшен. Старики ползут в мечеть к намазу, с ними Зулькарнай здоровался уважительно, и они в ответ трясли бородами.
Вдруг в доме Азамата послышались крики, захлебывающиеся рыдания, из калитки выбежала растрепанная плачущая Танзиля.
Зулькарнай круто остановил коня:
– Енгэй, что случилось?
– Азамат!.. Азамат умер! – запинаясь, произнесла Танзиля и закусила зубами край головного платка, чтобы не завопить, не завыть.
– Да когда? Ведь был здоров эти дни.
– Был здоров, а сейчас умер, только что… Проснулся, потянулся, смотрю – не дышит. Не болел нисколечко. Ох, осталась я одна-одинешенька, у-у-у!..
Старшина спрыгнул с седла, вбежал в дом – на нарах, разбросавшись, лежал Азамат с известково-белым лицом. Зулькарнай потрогал его лоб – верно, ледяной, приподнял руку – упала на кошму с сухим стуком, приложил ухо к груди, к сердцу – биение жизни сковано смертью.
– Сейчас пошлю соседского мальчишку к мулле, – сказал Зулькарнай, не зная, как вести себя с милой Танзилей: то ли утешать, то ли молчать. И решил молчать…
Вскоре явился мулла Асфандияр в сопровождении аксакалов, среди них шагал и старик Ильмурза.
Деревенские старцы привыкли к извечному круговороту жизни и смерти и потому равнодушно отнеслись к вести, что Азамат покинул сей бренный мир. Перед смертью все равны: и цари, и нищие, и богачи, и дервиши. Каждый человек смертен и обречен на исчезновение в срок, начертанный ангелом Газраилом. Азамат, по правде говоря, был смутьяном и горлопаном, но искупил свои прегрешения тем, что поднял джигитов Восьмого полка на мятеж во славу великого Салавата. И после этого очищения претерпел страдания – побои, голод, тюрьму, но встал на ноги, зажил мирно с Танзилей, и народ относился к нему хорошо.
– Ведь только вчера с ним встречался, – в полнейшем недоумении сказал Ильмурза. – Такой батыр! Кровь с молоком.
– Мир праху, мир праху, – бормотали аксакалы в бороды.
После первых обрядов все разошлись, Ильмурза пошел домой к трапезе и дневному сну, а затем опять пришел к телу покойного; за занавеской шептались женщины, утешали всхлипывающую Танзилю.
Коснувшись рук Азамата, сложенных на груди, Ильмурза отшатнулся в испуге, позвал Танзилю:
– Его тело не затвердело. Впервые такое встретил. И кожа теплая. Да умер ли он? Бегите за муллой!
Хэзрэт явился разгневанным: поспать сладко не удалось, стучал посохом по половицам, говорил внушительно, беспрекословно:
– Азамат при жизни был своевольным, значит, и после кончины не похож на прочих мертвецов. Да, он умер, но душа его еще не покинула тела и согревает руки-ноги, мышцы, жилы. Бывает, что и после похорон душа не покидает тела, чтобы ангелы могли допросить, выяснить и добрые деяния, и грехи, и лишь после этого решать, куда его отправить – в рай или ад. Случается и такое: душа умершего живет среди людей – днем в образе старика или старухи, а ночью оборачивается летучей мышью.
При этих словах за занавеской раздались испуганные взвизгивания и стоны перепугавшихся женщин.
Воодушевленный произведенным эффектом, мулла продолжал громче:
– А душа плохого человека превращается после его смерти в колдуна или в ведьму. Клубком огня летает в ночи!..
– Ай-ай-ай!.. Ох-ох!.. И-и-и! – донеслись из-за занавески жалобные женские причитания.
– Этот злой колдун или эта ведьма посылает на людей лютые болезни. От них надо избавляться молебнами в мечети и на дому.
– Я видела, как ночью над кладбищем летал огненный шар, – сказала за занавеской какая-то старуха, и опять женщины в ужасе зарыдали, и громче всех плакала Танзиля, которую ждала одинокая старость…
Вечером в доме собрались мулла, аксакалы, Зулькарнай, мужчины. После очередного обряда началась беседа, благостная, степенная.
– Почему не хоронят покойника сразу, а караулят его прах три дня и три ночи? – спросил Зулькарнай.
– Коран так велит, – ответил мулла. – А указания Корана – воля самого Аллаха.
– Святой хэзрэт, а как оценить ныне покойного Азамата? Добропорядочным он был или грешным? Куда душа его переселится – в ад или в рай? Иные в ауле его ругают, а другие нахвалиться не могут. Ведь это благое, божье дело – увести джигитов на Урал, чтобы поддержать великого Салавата!
Мулла Асфандияр бросил боязливый взгляд на сидящего рядом Зулькарная и вздохнул:
– Сынок, ты же старшина юрта, вот сам и решай – божье это дело или дьявольское!
А Ильмурзе, живущему теперь на покое, бояться некого, и он решительно заявил, вскинув бороденку:
– Да, это святое дело, что Азамат прискакал с джигитами на помощь батыру Салавату. А был бы Азамат зловредным, разве посетили бы мы с хэзрэтом сегодня его дом?
Аксакалы согласились:
– Справедливо сказано!
– Люди, поднимавшиеся за свободу, издавна почитались святыми!
– Мы похороним Азамата с высокими почестями!
И старики три дня и три ночи охраняли тело Азамата, как полагалось по шариату, бормотали нараспев молитвы.
На четвертый день вырыли могилу с нишей, обложили ее досками.
Покойника завернули в белоснежный саван, возложили на длинную арбу и повезли на кладбище. За траурной колесницей плелись, шаркая ногами, аксакалы. Жену Танзилю не взяли, ибо женщинам, по старинным обычаям, вход на зыярат был запрещен.
Почерневшая, исхудавшая от горя Танзиля осталась дома и с соседями готовила поминальный стол, а Ильмурза вызвался раздавать из своих запасов милостыню нищим и странникам.
Когда тело выносили, Ильмурза коснулся руки Азамата и снова встревожился:
– Да он же не остыл, не окоченел!
Но мулла властно прервал его:
– И такие своеобычные уходят к Аллаху!..
Старик пожал плечами и замолчал.
У врат кладбища, увенчанных мусульманским полумесяцем, арба остановилась, молодые мужчины и работник Ильмурзы на руках понесли покойника к могиле, один из могильщиков спрыгнул вниз, чтобы удобнее, правильнее устроить усопшего в нише, головою к священной Мекке, и вдруг раздался его дикий, неистовый вопль:
– Живой! Живо-о-ой! – Джигит выпрыгнул из могилы и, не помня себя от ужаса, побежал к аулу.
Тотчас над могилой появилась голова Азамата, пытавшегося выпутаться из савана. Старики в страхе засеменили с кладбища, отталкивая с дорожки друг друга, завывая: «Сгинь, сатана, сгинь, нечистый!..»
Но Азамат уже вылез из ямы и закричал им вслед:
– Не бойтесь меня, не бо-о-ойтесь! Я живой!
Заслышав его полнозвучный могучий голос, старики припустили еще быстрее, мулла Асфандияр задохнулся, упал и пополз на карачках, а Ильмурза сел на землю, закрыл лицо трясущимися руками и приготовился к смерти.
На счастье, у ворот зыярата Азамата остановил не растерявшийся Зулькарнай, изо всех сил встряхнул его, и тот с искривленным до неузнаваемости лицом – в глазах безумие, губы сине-фиолетовые – замер как вкопанный, повис на плече старшины.
– Жив! Жи-ив!.. – пробормотал он и засмеялся.
– Да, да, ты живой, – успокоил его Зулькарнай и крикнул: – Эй, люди! Святой отец! Аксакалы! Азамат ожил!..
Мулла с трудом поднялся и мгновенно принял прежний величественный вид, мужчины помогли встать плачущему от страха Ильмурзе. Старики уже добежали до околицы и там, чувствуя себя в безопасности, остановились, посмотрели друг на друга, затем на кладбище, на Зулькарная и Азамата у святых врат.
Хэзрэт Асфандияр привычно овладел вниманием людей и подчинил их своему духовному сану:
– Азамат побывал на том свете – значит, он преобразился в праведника, – сказал он рассудительно.
– Да, Азамат – святой! – согласились единодушно аксакалы.
И с радостными восклицаниями, с просветленными улыбками старики повели Азамата домой.
Мальчишки издалека следили за событиями и, увидев ожившего Азамата, с ликующими криками рассыпались по улице, стучали в калитки, в окна:
– Азамат-агай пробудился от вечного сна!
– Азамат-агай ожил. Вернулся с того света.
Танзиля, заслышав крики на улице, вышла из дома, увидела волшебно воскресшего мужа и уцепилась за калитку – земля уплыла из-под ног. Да не дьявольское ли это искушение? Но Азамат шагал в окружении старцев, рядом чинно шествовали мулла и Ильмурза, а замыкал процессию молодой старшина Зулькарнай.
Танзиля еле стояла на ногах. Мулла, успокоив ее, благолепно рассказал о чуде: «Аллах всесильный, он вправе свершить любое чудо, и надо благодарить его за столь великие милости».
Поминальные скатерти на нарах превратились в праздничные – странник вернулся из паломничества в потусторонний мир.
Умытого, переодевшегося в чистое Азамата усадили на самое почетное место, старцы, джигиты накинулись на угощенья, а мулла Асфандияр, строго кашлянув, спросил:
– Ну, Азамат-кустым, расскажи нам, что видел на том свете? Не мучили тебя в аду?
Старик Ильмурза подхватил:
– Да, да, парень, говори откровенно, не таись!
Азамат то смущенно улыбался, то хмурился, не понимая, чего от него ждут. Три дня и три ночи лежал он на этих же нарах, в беспробудном мучительном сне – слышал, как мулла и аксакалы читают над ним заупокойные молитвы, но не имел силы пошевелиться, вымолвить ни единого слова. Прежде ему приходилось слышать о людях, как бы умерших и побывавших на том свете, но он не верил в такие божьи чудеса и посмеивался над этими бабьими сказками. Как же ему сейчас рассказать Танзиле и собравшимся о рае и аде, если он туда и глазком не заглянул? А если отмолчится, то старики снова станут его чураться, богохульником назовут.
Мулла благоразумно пришел на помощь:
– Не будем мучить Азамат-кустыма. Ему надо отдохнуть. Придет в себя и все нам поведает, что видел, что испытал.
Старцы согласились потерпеть.
Азамат возблагодарил святого хэзрэта за доброту, ушел за занавеску и лег на постель.
Гости, обильно потея, осушали чашку за чашкой – чай был настоящий, китайский, Ильмурза расщедрился и отсыпал Танзиле на заварку добрую горсть, – вели душеспасительные беседы. Посещение зыярата, погребение Азамата, его пробуждение настроили всех на мрачный лад, и начались россказни о нечистой силе, о шайтанах, о наговорах и заклинаниях.
Шамкая беззубым ртом, тощий старец заявил:
– В том мире злые духи живут, как и мы, люди, в богосотворенном мире – имеют стада скота, лошадиные табуны, жен и даже наложниц. Зимой, когда пировать соберутся, на нашей земле поднимаются бураны. Часто духи похищают приглянувшихся им юных девиц и уносят в свой мир. Я сам видел своими глазами, как шайтан на рассвете подхватил девушку, идущую на реку за водою, и улетел с нею за облака… Добавлю, что род шайтан-кудейских башкир – это племя ненадежное, темное, и начался от смешения шайтанов с похищенными девицами.
Азамат слушал за занавеской эти небылицы и злился: «Совсем заврался старикашка!»
– Если женщина поленилась сказать на ночь «бисмилла», то к ней обязательно прилепится шайтан. Намедни меня навестила женщина из соседнего аула и покаялась, что шайтан совершил с нею грех. И ведь как ухитрился нечистый – превратился в молодого джигита, ждет ее на коне за огородом, и она, оставив мужа, в полном беспамятстве идет к нему. Дальше – больше, женщина остыла к мужу, прикинулась больной, а с шайтаном встречалась, уезжала в его седле за аул, в рощу. Подарками ее осыпал, проклятый, – золотые кольца, браслеты с камушками подносил!.. Наконец-то грешница опомнилась и сейчас просит заступничества у Аллаха, молит научить, как ей избавиться от дьявола.
– И какой же ты, святой отец, дал совет блуднице? – спросил Ильмурза.
– Сказал, что от шайтана уже не отвязаться! – Мулла со свистом хлебнул чай из блюдца и добавил: – Нельзя было подарки брать. Грех я бы именем Аллаха ей отпустил, да чистосердечное покаяние и отпущение грехов, но подарки…
– А что теперь будет с той женщиной?
– Высохнет, пожелтеет вся и помрет, – беспощадно напророчил мулла.
Старцы сочувственно почмокали губами, но защитить грешницу не осмелились:
– Ай-ай! Несчастная!
– Прелюбодеяние к добру не приводит.
– Из-за развратных жен мужья и страдают.
– Лучше бы ей, растленной, не родиться, если смогла променять мужа на шайтана.
Мулла Асфандияр счел необходимым продолжить назидательную беседу:
– Всякие бабы попадаются, воли женам не надо давать, следить, чтоб ходили по струнке!.. Но я чего хочу сказать, – девушек надо оберегать от шайтанов, девушек. Нас, священнослужителей, муфтий собирал на поучение в кафедральную мечеть, и там мулла из Первого кантона рассказал историю, я прямо диву дался, да если подумать, каждому отцу урок: четырнадцатилетняя девочка родила тройню от шайтана. И оказывается, иблиса – отца своих трех детей – только она видит, а прочие люди его и не замечают. И детей никто не различает, лишь слышат, как она раздает еду за скатеркой и приговаривает: «Это – тебе, это – тебе, а это – тебе». Мулла все не верил, но услышал своими ушами, как она деток кормила, ласково так воркуя: «Это – тебе…» – и поверил. Все мясо, пироги, беляши с тарелок, к слову, тут же исчезали, значит, кто-то невидимый их поглощал… Мулла выдал родителям особые молитвы на пергаменте, а на ночь мать и отец девочки – наложницы шайтана – наклеили их на дверях, на окнах, произнося в смирении сердца «бисмилла». Всю ночь на дворе бушевал ураган, вышли утром хозяева и ахнули: телеги перевернуты, бочки расколоты, калитка сорвана с петель, лошади в мыле, словно их гоняли без устали, коровы выдоены – это шайтан, наткнувшись на божье заклятие, бесчинствовал. – Хэзрэт Асфандияр передохнул, потребовал еще чайку погорячее, чтобы погреть горло, и завершил речь так: – Думаю, все это к концу света! Иначе люди с шайтанами бы не водились. Да, вскоре нельзя будет отличить богобоязненного мусульманина от шайтана и его отпрысков.
– И хворают люди чаще, вымирают, особенно зимой, целыми аулами. Не от шайтана ли такие напасти? – спросил Зулькарнай.
– Болезни насылает сам Аллах, дабы испытать сердца верующих, – сразу же разъяснил мулла. – И грех, страшный грех приглашать русского доктора. Это шайтан и приезжает в образе доктора, чтобы морить людей. И болеем мы, и голодаем мы от того, что поддаемся уговорам смутьянов, бунтарей, возмутителей спокойствия!
– Справедливо! – громко сказал Азамат из-за занавески, сел, спустил ноги на пол. – Твоими устами, святой отец, глаголет истина. На том свете ангелы мне читали эту же проповедь.
За чаепитием, трапезой и чесанием языков гости и позабыли о воскрешении хозяина дома, вскочили, толкаясь, в страхе разглядывали друг друга, шепча:
– Ля-илляхи-илляллах!
– Иншалла!
– Тэубэ-тэубэ, избави от искушения!
И на этот раз первым очнулся от испуга мулла и возгласил зычно, уверенно, словно с амвона:
– Мы ждем тебя, святой человек. Выходи, расскажи, что видел, что пережил на том свете!
Азамат вышел вразвалку, сел на табуретку и начал по-обычному самоуверенно, нагло, не сомневаясь, что его выдумке поверят:
– Едва душа моя отделилась от бренного тела, ко мне подлетели ангелы на белоснежных, словно у гусей, крыльях, учинили мне допрос, я не таился, их же не обманешь! – выложил все начистоту. Взвесили они мои грешные и добрые поступки на весах. И повели меня к мосту Сират, там толпились свеженькие, точь-в-точь такие, как и я, упокойники, упирались, боялись ступить на мост, а я решил: что будет, то и будет, растолкал всех, шагнул… А мост тоньше волоса, острее лезвия меча. Иду, вниз смотреть боюсь, а там, в ущелье, адские жаровни пылают, в котлах смола кипит, – от жара, чада, смрада голова кружится, чуть не упал, но вытерпел. А внизу стонут, корчатся в пламени, тонут в смоле грешники… И кто меня спас, если бы вы знали? Мой жертвенный баран, мой кускар, которого я по велению муллы принес весной на горе в дар Аллаху.
При этих словах Асфандияр-хэзрэт самодовольно усмехнулся и плавно обвел сидевших у скатерти рукою, словно благословляя их на праведную жизнь.
– Да, передо мною появился мой кускар, я запустил руки в его пушистую шерсть, и шаг за шагом он привел меня на тот берег, в рай!
Старцы одобрительно заохали, застонали:
– Все по Корану, как по писаному!
– Такова великая сила Корбана[47]47
Жертвоприношение барана, агнца.
[Закрыть].
Наиболее смекалистый из стариков осведомился деловым тоном:
– А кому ты отдал шкуру барана, кустым, после весеннего жертвоприношения?
– Конечно святому отцу Асфандияру.
– Значит, святой хэзрэт молился за тебя неустанно.
– Да, и в молитвах просил я Аллаха помочь в беде Азамату, – сказал с приятной улыбкой мулла.
– И по твоей молитве баран снова очутился в своей же шкуре и провел меня в рай, – воскликнул Азамат, отлично знавший, что кашу маслом не испортишь.
Мулла горделиво улыбался, принимая со всех сторон благодарности и возгласы восхищения аксакалов.
– Жизнь на том свете хоть чем-то похожа на нашу, земную? – поинтересовался старик Ильмурза, чувствуя, что и ему вскоре предстоит совершить путь в тот мир.








