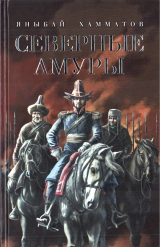
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Жил Кахым неподалеку от лагеря полка в маленьком скромном отеле. Комнатка маленькая, но чистенькая, уютная. Часто вечерами он подолгу сидел у открытого окна, слушал, как на бульварах веселится, горланит песни, танцует парижская молодежь, размышлял о волшебной судьбе своей и джигитов.
Из степей и лесов далекого-предалекого Урала пришли они, кому русские цари даже не доверяли огнестрельного оружия, в сердце Европы, с боями, с атаками, на низеньких выносливых лошадках, со стрелами крылатыми и прославились здесь как «северные амуры». Агидель, Хакмар, Яик, Дема, Авзян, Кургашты, Инзер и – Луара, Сена!.. Именно здесь жили и творили французские энциклопедисты, боролись бессмертные якобинцы, которых так ненавидел и истребил до единого Наполеон!..
«Отрадно, что среди молодых есть и такие, как Лану, – сказал себе Кахым. – Повзрослеет, перестанет бездельничать и, глядишь, образумится и начнет когда-нибудь борьбу за идеалы Великой революции!..»
Кахым видел, что Отечественная война окончена, и он уже представлял, как начнут писать ее историю, каких героев прославлять, а кого замалчивать. А вот вспомнят ли о башкирских казаках? Вместе с русскими они пришли в Европу не завоевателями, как полчища Наполеона в Россию, а освободителями народов от тирании. Крестьян не грабили, городов и деревень не жгли, кремлевские храмы не взрывали. Вот и судите сами после этого, кто дикари – европейцы с пушками, ружьями или башкиры со стрелами и копьями?..
Если за мемуары возьмутся такие благородные люди, как Коновницын, Сеславин, Волконский, то они непременно отметят доблесть, геройство, подвиги башкирского воинства. А официальные историографы, авторы учебников военной истории? А устроители военноисторических музеев?.. Дело не в кичливости, не в тщеславии, а в том, чтобы не забыли батыров, не щадящих крови и жизни в священной войне за Российское государство.
Если у народа нет истории, то нет и будущего…
Постепенно огромный город затихал, засыпал; изредка лишь гремели колеса кареты по камням мостовой, в окно тянуло прохладной прелестью рассвета.
Кахым потянулся: пора спать… Сколько событий произошло за эти два года! Он чувствовал себя даже не повзрослевшим, а постаревшим и одновременно с наслаждением ощущал силу и крепость своего молодого тела. Рана на плече окончательно зарубцевалась. Скорее бы горнисты протрубили поход и башкирские казачьи полки тронулись бы к дому.
…Утром Кахым проходил мимо парка Тюильри. За пышными деревьями со свежей, еще не запылившейся листвой сияли белопенные стены дворца.
Внезапно его окликнули. Кахым остановился: князь Сергей Волконский.
– Здравствуйте, Сергей Григорьевич!
– Здравствуйте, Кахым Ильмурзинович, – с той пленительной простотою, какая придавала такое очарование старому князю Волконскому и, конечно, от отца перешла к сыну, сказал молодой Волконский, подходя и протягивая руку.
С ним было несколько русских гвардейских офицеров.
– Рад нашей встрече. Вот и мы дошли до последней остановки, до финиша войны. Ваш поход был труднее моего, – улыбнулся князь, – но и мне досталось.
Он познакомил Кахыма со своими спутниками и пригласил его к себе вечером.
Жил Сергей Григорьевич в двухэтажном доме по Дантеньскому шоссе. Кахыма почтительно встретил, распахнув дверь, швейцар, передал лакею в ливрее, и тот провел офицера в светлую просторную гостиную, обставленную низкими, обитыми золотистым шелком креслами и диванами. Здесь было уже много военных: генералы, такие же молодые, как Волконский, держались непринужденно, приняли Кахыма радушно, офицеры и в полковничьих чинах и помладше улыбались командиру славного Первого башкирского казачьего полка дружески.
Здесь был и Муравьев-Апостол, с которым Кахым не раз беседовал в Тарутинском лагере, – он потряс руку Кахыма с особым приятельским расположением, как бы показав присутствующим, что у них давние откровенные отношения.
Кахым вспомнил разговоры в лейб-гвардии Семеновском полковом офицерском собрании о необходимости скорейшего освобождения крепостных от помещичьего гнета, о судебных реформах, о земском самоуправлении и подумал, что действительно между ними возникли какие-то масонские связи, если не бунтарские, то и не верноподданнические, и ему, Кахыму, следует дорожить доверием и Волконского, и Муравьева-Апостола и многое из давних бесед хранить в тайне.
Дворецкий пригласил гостей к столу.
Водку пили у закусочного стола стоя, а за столом была предложена французская кухня и французские вина: к рыбе – белые, к мясным кушаньям – красные, подогретые.
Разговоры начались позднее, когда гости насытились и принесли шампанское в серебряных ведерках со льдом. Кахым был потрясен, что и сам Сергей Григорьевич, и гости с увлечением говорили о том, о чем так страстно спорили в петербургских салонах, в Тарутинском лагере, словно и перерыва-то не было между встречами закадычных друзей. Кто-то из генералов заикнулся, что французы с невиданно величественными почестями встретили императора Александра, но Муравьев-Апостол встал с бокалом ледяного, игравшего пузырьками шампанского и провозгласил:
– За творца победы Михаила Илларионовича Кутузова, сохранившего русскую армию от разгрома, умножившего ее мощь и славу, избавившего не только Россию, но и все народы Европы от беды. Ура!
Все вскочили и закричали «ура» с таким воодушевлением, что Кахым снова почувствовал себя среди единомышленников, которые собрались у молодого Волконского не ради лакомых французских кушаний, не для того чтобы посмаковать вина из старых погребов Парижа, а ради сплочения, укрепления веры в справедливость их замысла.
Париж, колыбель Великой французской революции, якобинства, обострил и споры, и рассуждения, видимо, кое-кого и пугал террором, казнями, но буйные головы, наоборот, пьянил головокружащим хмелем смелого решения.
Хозяин дома, Сергей Григорьевич, поднялся и предложил тост за присутствующего здесь героя Бородинского сражения, попавшего там в плен к французам и только сейчас освобожденного от унижений, от издевательства, вступившими в Париж русскими войсками.
– Я говорю о Василии Алексеевиче Перовском!
Муравьев-Апостол показал на сидевшего напротив него молодого офицера с густыми вьющимися волосами и темными усиками, изможденного, с болезненно-белой кожей лица.
Перовский смущенно раскланивался улыбаясь, а вокруг него кричали «ура», чокались, звеня бокалами, желали ему спокойствия и здоровья.
– Что, худо пришлось? – спросил сосед.
– Да, они и без Бастилии умели превратить при Наполеоне в Бастилию каждую темницу, – невесело рассмеялся Перовский. – Дело даже не в заточении впроголодь, не в грязи, а в непрерывном оскорблении: мы, французы, – повелители народов, мы выселим вас, русских, в Сибирь и среднеазиатские пески! И – воспевание Наполеона! Он и великий, он и гениальный…
После обеда Кахым подошел к Перовскому.
– Василий Алексеевич, а ведь я слышал о вас после Бородинского сражения. Помните башкирского казака, спасшего вас от смерти?
Перовский запрокинул голову, силясь вспомнить, затем воскликнул:
– Ба! Есаул башкирского полка! Как же, как же, отлично помню!.. Встретить бы его, поблагодарить.
– Заезжайте в мой Первый полк на Елисейские поля, – сказал Кахым. – Есаул Буранбай Кутусов – мой первый заместитель, войсковой старшина.
– Обязательно приеду, – обещал Перовский. – А до того дня благоволите передать есаулу Кутусову мое почтение и наилучшие пожелания.
Кахым поблагодарил Перовского за добрые слова, добавил, что и сам хотел потолковать с ним:
– Меня интересуют парижане. Кого же они любят на самом деле – Наполеона или Бурбонов?
– Они любят самих себя! – с осуждением промолвил Перовский.
Кахым остался ночевать у Сергея Григорьевича, а утром они поехали в Версаль.
Ежевечерние театры, рестораны быстро наскучили Кахыму. В своем полку он чувствовал себя проще и уютнее. И тянуло домой, к жене, к сыну. Завернул к Буранбаю, поселившемуся с муллой, приемным сыном Зулькарнаем и музыкантом Ишмуллой в соседнем домике с маленьким, поросшим курчавой травою двориком.
Старшина упрекнул Кахыма:
– Да можно ли забыть так своих? Прилепился к князьям да графам!
– Ну зачем же так? Сергей Григорьевич умный и добрый. И друзья его образованные, честные.
– Да я шучу, – засмеялся Буранбай. – Вот отведай моего кумыса! – Он повел Кахыма в тень, где лежал на траве палас, усадил, преподнес чашу пенящегося напитка.
– А как жеребенок?
– Потом посмотрим, днем с кобылицей, пока жарко, в конюшне. Славный скакун получится! Ноги крепкие, хвост трубой.
Кахым хлебнул, посмаковал, чмокнул, с удовольствием покачал головою и осушил до дна.
– Нектар! Но, агай, знаешь, чего не хватает твоему кумысу?
– Знаю! – тут же ответил Буранбай. – Не хватает уральского степного ковыля. Весь настой, аромат, благоуханье, вкус башкирского кумыса от башкирских лугов! И вообще у нас на Урале все лучше, вкуснее, честнее, чем здесь! – отрубил, да еще и взмахнул рукой старшина.
– Мне вчера сказали, будто некоторые молочные торговцы кумыс из коровьего молока начали делать.
– Видишь! Им бы только деньги зашибать! – возмутился Буранбай. – Ох и шустрые! Услышали, что башкирский кумыс всем понравился, и сразу начали подделывать… – Он замолчал на минуту и вдруг спохватился: – Да, Перовский утром заезжал с визитом.
– О чем говорили?
– Недолго разговаривали, у меня сотники были, ждали распоряжений. Ну, поблагодарил, рассказал, как на допросах его избивали… Ты слышал, чтобы наши джигиты били пленного безоружного француза?
– Не слышал и слышать не мог, ибо этого не было и быть не могло! – сказал Кахым.
– Вот именно! – бурно вскрикнул Буранбай; как видно, и без башкирского разнотравья кумыс веселил его душу и развязал язык. – Кто же дикари? Разбойники? Мы или французы? – И, не ожидая ответа от командира, сообщил: – Вчера заезжали твой тесть Бурангул с шурином Кахарманом. Тесть обижается, что ты к нему не едешь. Спрашивал, были ли письма от Сафии. Они ждут не дождутся, когда разрешат отправляться домой.
– Да уж, и меня тоска одолела, – вздохнул Кахым. – Сафия, сын Мустафа… Ы-иих!..
– Ты с генералами якшаешься, узнай, когда нас отпустят? Хоть бы к сенокосу успеть! – мечтательно произнес Буранбай.
– К сенокосу мы, агай, никак не успеем, – смеясь, охладил его пыл Кахым. – Ты представляешь, где мы сейчас расквартированы? Да мы что, примчимся на облаках на родной Урал? Поплетемся на своих же лошадках через Германию, Польшу, через всю Россию, к Волге, а затем Урал…
Буранбай при этих словах застонал, взявшись за голову, раскачиваясь.
– К тестю сегодня же вечером поеду. А вообще-то, агай, еще состоится парад русской армии-освободительницы. И принимать парад будет сам Александр-батша.
27Целую неделю армия, от генерала до рядового солдата, казака, чистилась, одевалась, наряжалась, прихорашивалась. Гвардейцам сшили новые мундиры, остальным пехотинцам кое-что подновили, казакам – и донским платовцам, и башкирским – выдали новые сапоги. Лошадей было велено откармливать овсом и не гонять без крайней надобности.
И ясным солнечным днем по улицам, бульварам потянулись полки, эскадроны, сотни, батареи. Гордо, величественно развевались боевые знамена. Солдаты чеканили шаг, остро сверкали штыки. Духовые оркестры бодро играли походные марши. Кавалеристы красовались на отдохнувших, нагулявших стати конях. Из всех окон многоэтажных домов выглядывали парижанки, ахали, восхищались красивыми мундирами, строили глазки и улыбались усатым гусарам в киверах. Казаки и башкирские джигиты ехали на неказистых, но выносливых степняках, все в синих чекменях, все с бородами.
Линейные с флажками на штыках заняли места на размеченной заранее топографами черте, за которой строились части. Генералы и офицеры при орденах и медалях, все выглядят празднично, глаза так и сияют благородным счастьем победы. Солдаты скинули с плеч усталость битв, выпрямились, расправили грудь, молодцы из молодцов.
Кахым в новом казачьем чекмене, эполеты с золотой бахромой, шапка круглая, приплюснутая, сапоги со шпорами. Усы браво закручены, бородка округло подстрижена. Серый иноходец так и рвется в намет, играет жилками, прядет ушами. Кахым доволен, горд земляками, не запятнавшими чести в бесчисленных стычках, схватках, битвах. Степные орлы!
На небе ни облачка, солнце сияет тоже победно – так, во всяком случае, кажется Кахыму. Легкие порывы ветра колеблют тяжелые знамена, не шелками по бархату вышитые, а незримыми письменами кровавых ратных испытаний.
Вдалеке запел горн, послышались шелестящие восклицания: «Едут! Едут!..» Духовые оркестры заиграли «Встречу» торжественно, неторопливо. И без того стоявшие навытяжку солдаты выпрямились еще старательнее. Лошади окаменели. Загремели холостые залпы пушек, возвещавшие о приезде императора Александра, короля Франции, королей, владетельных герцогов и князей Европы. Солдаты взяли ружья «на караул», офицеры вынули из ножен сабли. Гремели барабаны. Окруженные свитой в расшитых золотом мундирах монархи держались величественно, спесиво, видимо, убежденные, что им от Бога суждено вершить судьбами народов, а царь Александр Павлович, не скрывая своей гордости, сказал подчеркнуто хвастливо:
– Русская армия – самая мощная в мире. Ей все по силам!
Никто не осмелился возразить, но никто и не поддакнул, а рыхлый Людовик XVIII, сидевший в седле, как в мягком кресле, заискивающе спросил:
– Ваше величество, а сколько русских войск собрано на параде?
За царя ответил начальник личного штаба императора князь Волконский:
– Сто пятьдесят тысяч пятьсот человек, Ваше величество.
Людовик, всем обязанный русскому царю – и престолом, и почетом, красноречиво, в знак восхищения покачал головой.
А Кахым с сожалением думал, что не дожил до сегодняшнего парада, не вкусил радости победы великий Кутузов, что нет с победителями героя Багратиона, генералов Кудашева, Кутайсова, Неверовского, Фигнера и многих-многих ушедших в небытие.
Александр на сером коне, подаренном ему когда-то французским послом Коленкуром, спустился с возвышенности Моншем, за ним, теснясь, следовали остальные монархи со свитой, адъютантами. От золота и серебра на эполетах, расшивки мундиров, орденов и медалей рябило в глазах, как от игры солнечных бликов на воде пруда.
Когда кавалькада приблизилась к правофланговому гвардейскому полку, грянуло «ура» и теперь уже не стихало до завершения парада, словно сама солдатская слава гремела так оглушительно, так полнозвучно: «Ура!.. Ура!..» И непрерывно оркестры полков играли «генерал-марш», традиционный в русской армии, плавный, грациозный, почти танцевальный.
Царь в мундире конного гвардейца, в высоких ботфортах, с лентой через плечо, в треугольной шляпе останавливал коня перед каждым полком, внятно, отчетливо, твердо произносил приветствие, и снова волною взмывало «ура», а в следующем полку уже оркестр подхватывал мотив марша, и солдаты изо всех сил горланили: «Ура!.. Ура!..»
Кахым смотрел на царя с верностью и обожанием. Он, командир Первого полка, был частицей этой могущественной армии, действительно самой сильной, закаленной в непрерывных войнах армии мира. Кахым испытывал чистое счастье воина, джигита, с осени двенадцатого года с отвагой выполнявшего свой долг. В Петербурге, когда Кахым учился, царь был недосягаемо далеко от него, да и поговаривали об Александре Павловиче друзья Сергея Григорьевича Волконского чаще всего неодобрительно. Сейчас, вблизи, царь был и правда верховным вождем армии, удивительно добрым, с кроткой улыбкой.
Едва император Александр остановил коня перед строем Первого башкирского полка, Кахым салютовал саблей, оркестры играли все упоительнее, все певучее, джигиты, кавалеристы и казаки Платова кричали «ура» все звонче и крепче.
Кахым слышал, как переговаривались в свите царя и монархов:
– Это и есть «северные амуры»?
– Да, да, это башкиры с уральских гор и степей, занимаются скотоводством, охотой, зимой живут в аулах, летом выезжают на летние пастбища. Местами пашут и сеют.
– Их стрелы, говорят, насквозь пробивают коня!..
Кахыму казалось, что улыбающееся лицо Александра, когда он поравнялся с Первым полком, с Кахымом стало еще просветленнее, еще милостивее, и вдруг он решился просить императора о возвращении башкирскому народу исконных вольностей и земель – самый подходящий момент, такая возможность никогда уже не повторится, но царь кивнул, глядя как бы сквозь Кахыма, все так же улыбаясь, заученно и фальшиво, бросил флигель-адъютанту Орлову какую-то фразу по-французски, Кахым не успел разобрать слова, и поскакал дальше.
«Все испортил, поспешил, не рассчитал!.. Теперь и обращаться к царю, когда вернемся в Россию, невозможно. Быть беде, быть беде!»
Армия шла церемониальным маршем мимо Александра, Людовика, мимо монархов, первыми печатали шаг гренадеры под командой великого князя Николая Павловича, младшего брата царя, за ними гвардейцы, кавалеристы, казаки, и оркестры не умолкали, а на устах царя держалась, как приклеенная, все та же кроткая и коварная улыбка.
Первый башкирский полк Кахыма понравился молодцеватой выправкой конников, бойкой рысью лошадей, чувствовавших и линию строя, и ритм оркестра.
Всадники размахивали клинками, в левой руке держали копья и пики, горланили уже родное им всем «ура», и Александр Павлович кивал благосклонно, и улыбка все так же цвела на его пухлом лице.
После парада всем офицерам, солдатам, казакам, джигитам вручали от имени царя медали «За взятие Парижа 19 марта 1814 года».
…В следующие дни русские и башкирские казачьи полки начали уходить по заранее намеченным маршрутам через Германию на восток, в Россию.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1Башкирские казаки до того истомились по семьям, по родным аулам, что упросили командиров сокращать дневки, привалы, следовать домой форсированным маршем. Кахым вынужден был согласиться, он и сам тосковал по Сафие, по сыну, а лошади во время пребывания в Париже отдохнули, да и трофейных коней в полку было сейчас немало.
Началась жара, сотни, тысячи копыт взбивали, взвихривали горячую пыль, и она не успевала развеяться, густо порошила лица, прилипала к вспотевшим щекам, набивалась в бороды и в уши.
Мокрые от зноя и непрерывного рысистого бега лошади как бы окрасились в одинаковую масть – коричневую, с красноватым оттенком. Трава по обочинам, придорожные деревья были уже не зелеными, а серыми, листья висели, отяжелев от пыли, неподвижно.
Всадники ехали в клубах пыли, как в тумане. Но жаловаться не приходилось – сами торопились, не щадя себя и лошадей.
Кахым вел полк с гордым чувством удовлетворения: война закончена, скоро-скоро начнутся русские проселки, тоже пыльные, ухабистые, но все же родные, и каждый джигит воевал честно, и сам командир полка не ударил лицом в грязь.
Переполнявшие его чувства Кахым изливал в песне, благо рядом был и строгий судья, и ценитель, и чуткий слушатель – Буранбай.
Судьба милостива,
Возвращаемся невредимыми
В родные башкирские края.
Буранбай иногда вторил Кахыму на курае, но чаще слушал, зачарованный и словами и мотивом, – певец пел о самом заветном и для Буранбая, и для любого джигита: о любимой женщине, о детях, о родном Башкортостане, о кручах седого Урала.
И тяготы минувшей войны, похода забывались…
«С чем можно сравнить песню? – думал Буранбай. – С колыбельной, какой мать баюкает первенца. С лучезарной улыбкой девушки, спешащей на свидание. С горным родником, бьющим из расщелины сильной, хрустально чистой струей. С песней самозабвенного соловья. С плавным течением Агидели. С полетом гордого беркута в вышине неба. Песня таинственно зарождается в душе народа, а певец лишь подслушал ее в безмолвии, перенял, запомнил, развил и вернул вдохновенно обратно народу!..»
Буранбай был мастером и ценил в Кахыме своеобразие мотива, глубину переживания, прелесть выразительного слова-образа.
Сколько Салавату лет?
Молод, силен батыр.
Ишмулла продолжил складно, плавно:
Был бригадиром Салават
В свои двадцать и два года.
К Первому полку пристал начальник Девятого кантона, тесть Кахыма Бурангул с сыном Кахарманом.
На привольных кормах в Оренбурге Бурангул раздобрел, обленился, но в походах похудел, подтянулся и построжал. Зятем он был доволен – умен, отважен и на хорошем счету у начальства. Командиры башкирских полков поговаривали, что Кахыма назначат начальником Шестого кантона. Должность почетная и весьма доходная… Что ж, старый князь Волконский благоволит к Кахыму, а молодой князь с ним дружит. Да, зять далеко пойдет, надо порадоваться за счастье Сафии и проказливого, смышленого внука Мустафы. Лишь бы угождал начальству. А в Кахыме проглядывает дерзость. И на язык излишне остер!.. Нельзя вольничать, следует жить тихо, скромно, в семейном кругу, добро наживать, рубли копить. Вон какие были батыры – Алдар, Кусим, Карахакал, Батырша, Кинья, Салават, а не смогли же изменить жизнь своего народа к лучшему. Нет, Бурангул чтит их священную память, но все же старается не бунтарить.
Джигиты пели негромко, но слитно, звучно:
Крепки у французов засовы.
Гремят крепостные пушки.
Узнали, что идут башкирские казаки,
Запросили сразу пощады.
За Геттингеном потянулись бесконечные сосновые леса, деревья стояли прочно, растопырив мощные ветви, на стволах янтарно золотились капельки смолы. Здесь было прохладно и легче дышалось людям и лошадям, смолистый воздух бодрил.
Кахым велел устроить дневку и вымыться всем джигитам в лесных ручьях, выстирать исподнее и дорожные бешметы. Привалу радовались жены казаков – и пеленочки выстирать, и младенцев отмыть от коросты, пыли.
«Нет, эти семейные повозки – недоразумение башкирского воинства, – снова сердился Кахым. – Кадровая армия – подвижная, мобильная, маневренная. Ох, Янтурэ, надо было разлучить тебя с твоей Сахибой еще у Тарутинского лагеря!»
Но таких, с женами, с младенцами, было в полку не один десяток джигитов. С Янтурэ Кахым бы справился, а с остальными? И он молчал.








