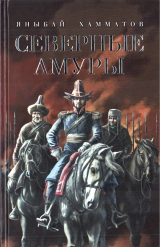
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц)
Яныбай Хамматов
СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ


КНИГА ПЕРВАЯ

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно.
А. С. Пушкин
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1Ильмурза сидел на возу с дровами, лениво понукая уставшую лошадь. Дорога была ухабистая, выбитая. Вдали золотились кресты церквей, темнели минареты мечетей Оренбурга.
– Стой! Сто-о-ой!
Оглянувшись, Ильмурза невольно потянул вожжи. К подводе шагал грузный старик в сером кафтане, изрядно заношенном, в старой шапчонке, надвинутой на глаза.
– Чего тебе, знакум[1]1
«Знакум» тогда в обращении значил не только «знакомый», но и «приятель».
[Закрыть]? – буркнул Ильмурза не очень любезно.
– Подвези до города, устал.
– Ишь какой хитрый, знакум! – рассмеялся Ильмурза. – Значит, ты устал, а моя лошадь не устала! Значит, ты влезешь на телегу, а я пойду пешком? Ишь умный, знакум!
– Вдвоем и поедем, – сказал прохожий, берясь за край телеги.
– Двоих лошадь не довезет, знакум, – измаялась.
– Иди ты пешком! – с привычной, в кровь, видимо, впитавшейся властностью сказал старик.
– Ишь смекалистый! – Ильмурза начал злиться. – Я зауряд-хорунжий[2]2
Зауряд-хорунжий – низший офицерский чин.
[Закрыть], медаль за турецкую воину имею и, значит, стану ковылять по рытвинам, а ты, знакум, развалишься в арбе как старшина юрта?
– А ты в каком году воевал с турками? – заинтересовался старик, на ходу взбираясь на телегу.
– Давно, ой давно, знакум! – вздохнул Ильмурза. – Не смогу выговорить по-русски, как эти годы называются. А медаль у меня за взятие Измаила!
Ильмурза говорил о войне тысяча семьсот шестьдесят восьмого – семьдесят четвертого годов.
– Выходит, мы вместе воевали! – обрадовался старик. – Тебе медаль фельдмаршал Румянцев вручил?
– Именно господин фельдмаршал Румянцев!.. – воскликнул Ильмурза, с умилением погружаясь в воспоминания.
– И я у Румянцева служил, а ты меня сажать не хотел! – упрекнул старик.
– Лошадь, лошадь уморилась, какой непонятливый знакум, тьфу! – с досадой воскликнул Ильмурза. – Да разве я не уважил сразу бы однополчанина?
Старик улыбался все довольнее, все светлее, – настроение, как видно, у него улучшилось.
– Да-а-а, молодые были!.. – завздыхал он.
Телега въехала в ворота, именуемые «Хакмар», выложенные из темно-красного дикого камня. Главный колокол на колокольне Преображенского собора гулко прогремел, каждый удар плыл над улицами могучей плотной волною. Старик перекрестился трижды, неуклюже слезая с телеги.
К нему подскочил с тротуара бравый молоденький офицер.
– Разрешите, ваше превосходительство, помогу!
У Ильмурзы от испуга затряслись поджилки, и он прислонился к телеге: «Пре-вос-ходи-тельство!.. У-у-у, пропал!..»
Старик отстранил руку офицера, сполз, выпрямился с трудом и, бросив повелительное Ильмурзе: «Подожди!», зашагал к дверям двухэтажного кирпичного дома.
Ильмурза соскочил с телеги и с отчаянной смелостью спросил у офицера:
– Знакум!.. Кто это превосходительство-о?..
– Будто не знаешь? – рассмеялся от удовольствия тот. – Генерал-губернатор князь Волконский. Григорий Семенович Волконский!..
Ильмурза решил, что настал последний час его жизни. Гнал чуть не в шею с телеги самого царского уполномоченного, губернатора! За долгую свою жизнь он слышал о многих губернаторах, а иных и повидал издалека. Тайный советник Иван Иванович Неплюев, генерал от инфантерии барон Осип Андреевич Игельстром, Николай Николаевич Бахметьев – они в золотом шитых мундирах мчались в карете шестериком, на лихих, самых лютых конях, в окружении конвойных казаков. Люди – и башкиры, и русские – в страхе шарахались с дороги, забивались в кусты. А у этого и одежонки-то нету приличествующей его княжескому достоинству. Может, самозванец?
Но у крыльца собралось тем временем много военных, и они почтительно выпрямились, едва из дома вышел все в том же поношенном кафтане Волконский.
– Ваше пре-вос-ходи-тельство… Знакум! Прости, что тебя не признал. И на арбу не пускал. Ваше… – забормотал Ильмурза, стаскивая с головы черную, из козьей шкуры старенькую папаху.
– И правильно делал, что не пускал, – лошадь не семижильная! А мне, старику, наука – не уходить далеко от города, если силенок не хватает, – весело сказал Волконский. – Алексей Терентьевич, – обратился он к плотному низкорослому подполковнику, – распорядитесь, чтобы каптенармус купил дрова у моего… знакума! – При этих словах все дружно засмеялись. – И заплатил бы подороже!.. Так ты, зауряд-хорунжий, говоришь, – перевел благосклонный взгляд на Ильмурзу губернатор, – что тебе медаль сам Румянцев вручил?
– Так точно, ваше превосходительство, – бойчее отрапортовал Ильмурза. – Господин фельдмаршал! За взятие Измаила. А так-то я пять лет был на турецкой войне. Наш род – доблестный, у-у-у! Мой старший брат Абдрахман отважным воякой был, в башкирском полку участвовал в Северном походе царя Петра! – увереннее, громче говорил Ильмурза. – Там и погиб смертью храбрых.
– А кроме Румянцева какие генералы вами командовали? – поднимая светлые кустистые брови, продолжал расспрашивать Волконский.
– Всех уже не помню, ваше превосходительство! Давно ведь война была, у-у-у как давно. Наши башкирские полки подчинялись генералу Мусину-Пушкину.
– Верно! – обрадовался Волконский.
– Офицера помню, Кутуза.
– Кутузова?
– Во-во, Кутузова, – подтвердил Ильмурза.
– А обо мне на войне не слыхал?
– Не слыхал! – Тотчас Ильмурза поправился: – Может, и слыхал, да забыл – много воды утекло с тех пор.
– Верно, – кивнул Волконский, – я же молодым тогда был; как теперь узнаешь?.. И я начинаю многих ветеранов турецкой войны забывать!.. – Он устало опустил веки. – А где твоя медаль за Измаил?
– Дома. Не поеду же я торговать на базаре дровами с боевой медалью! – Ильмурза говорил с оттенком обиды. – Конечно, в мечеть или по праздникам иду с медалью, при полном параде.
– Молодец что свято хранишь столь высокую награду. Ну, за дрова с тобою разочтутся сполна. Будь здоров, зауряд-хорунжий!
И, уходя в губернаторский дом, Волконский сказал себе: «Бывалый солдат. Смышленый. Расторопный. Такие башкиры нам крайне нужны».
2Вечером Волконский долго сидел один в кабинете, свеча лепестком огня освещала широкий письменный стол, ковер на полу, а углы комнаты тонули во мраке. Встреча с Ильмурзой разбудила воспоминания о военной молодости. Сейчас Григорий Семенович увенчан всеми орденами Российской империи, член Государственного совета, любим и почитаем дворянством и высшими сановниками, но молодость ушла безвозвратно. Тут уж ничего не поделаешь – ушла… В ту далекую пору мечтал о славе, о чинах, о наградах! Отец, князь Семен Федорович, был в Петербурге большим человеком, с ним считались. Не потому ли юный Волконский всего три месяца пробыл командиром полка карабинеров в сибирском захолустье, как его перевели в Первую армию, и в том же 1769 году он был удостоен за отличие в боях с турками Георгиевского креста – награды для русских офицеров наиславнейшей!..
Война с крымскими татарами – и генерал-лейтенант, и кавалер орденов Святой Анны и Святого Александра Невского. В Мачинском походе лично ввязался – генерал! – в рукопашную схватку, был ранен вражеским штыком в голову и получил звание генерал-аншефа. Генерал был умным и действительно смелым не по чину, а по присяге!
Фельдмаршал Александр Васильевич Суворов любил его, баловал и называл «неугомонным Волконским».
А годы, десятилетия шли, менялись в столице цари и министры, и стареющего Григория Семеновича постепенно оттирали наглые «баловни судьбы». И нету Суворова. И нету фельдмаршала Репнина, тестя Григория Семеновича.
Царь Александр – крестник Волконского – быстр на высочайшие повеления, вот и назначил князя военным генерал-губернатором в далекий Оренбург, за тысячи-тысячи верст от Петербурга, в зауральские дикие степи.
И крестный отец царя смирился – уехал.
В столице ходили сплетни: дескать, из-за давнего ранения в голову штыком разум князя потемнел, а в Оренбурге служба тихая, великого ума от губернатора не требуется… Услышав такое, младший сын, любимец Сережа, вознегодовал: «Выходите в отставку, отец, иначе станете посмешищем!..» И старшие, Николай и Никита, отговаривали отца принять назначение.
Супруга князя, Александра Николаевна, не согласилась:
– Император относится к Григорию Семеновичу, вашему отцу, благосклонно. Стоит ли обращать внимание на сплетни? Воля императора – нерушима.
И князь подчинился.
Скоро два года, как он управляет обширным Оренбургским краем. Упрекать себя, право же, не за что: царит порядок, в башкирских кантонах – спокойствие. Но закат жизни Григория Семеновича безрадостный: донимают головные боли, а еще сильнее мучает одиночество. Сыновья на военной службе, Сереже еще семнадцать, а уже получил поручика. Старшие, Николай и Никита, в действующей армии. А супруга Александра Николаевна страшится расстаться с Петербургом…
«Зауряд-хорунжий, судя по всему, умный. И к дисциплине привык. Не забыть бы – отметить!..»
Рассвет занимался нехотя, смутно, и тяжелые тени пересекали улицы, когда князь вышел на обычную свою прогулку. Куда направить шаги – к воротам Хакмарским, или Орским, или Чернореченским, или Водяным? Князь вынул из-за пазухи образок, перекрестился, пошептал молитву и пошел к Водяным воротам. Часовой у казармы засуетился, хотел было вызвать караул, чтобы чествовать генерал-губернатора почетным строем с барабанным боем, но Григорий Семенович отмахнулся: не заводи, мол, суеты…
И поднялся на земляной вал, опоясывающий город. Пятиугольные бастионы, башни, эскарпы и контрэскарпы построены прочно, навечно. На бастионах – пушки. Крепость надежная, но маневры по обороне города с боевыми стрельбами эти годы не проводились, и, признаться, князь о них не думал. В башкирских кантонах о былых бунтах и думать позабыли: тишь, гладь и божья благодать. Да, сейчас спокойно, а завтра? Наша опора – такие, как зауряд-хорунжий: разумные, в годах, привыкшие к воинской дисциплине и к русским командирам.
Князь медленно спустился с насыпи, устало присел на придорожный камень. Нет, в степь он не пойдет, рискованны дальние прогулки… Он остановил прохожего, попросил помочь снять сапоги, перемотал портянки, опять обулся и поблагодарил доброго человека за помощь.
– Помилуйте, ваше сиятельство, – забормотал прохожий, – да мы всегда готовы…
Князь уже, видно, забыл о нем, смотрел безучастно в степь.
Горожанин быстро, на цыпочках, отошел от странного губернатора, но его остановил часовой у заставы:
– Эй, слышь, сколько он тебе дал за услугу?
– Ни копейки.
– Врешь!
– Святой крест!
Григорий Семенович услышал, усмехнулся в усы и крикнул: «Подожди!» А когда прохожий и часовой застыли в ожидании и в испуге, по-старчески мелкой походкой приблизился к ним и швырнул в пыль горсть серебряных и медных монет.
…В этот день был обнародован указ генерал-губернатора о назначении зауряд-хорунжего Ильмурзы Абдрахманова старшиной юрта в ауле Бардегул Девятого кантона.
3Ильмурзу вызвали срочно нарочным в кантон, вернулся он вечером пьяным не от вина – от радости, вломился в избу, швырнул папаху на нары, затопал сапогами, словно плясать задумал, гаркнул жене Сажиде:
– Сам себе голова!.. Боевой офицер, с медалью, зауряд-хорунжий, сын Абдрахмана! Зря, что ли, я боевой офицер, зауряд-хорунжий?! Теперь все земляки станут передо мною шапки ломать! У-у-у…
Сажи да перепугалась, застонала:
– Отец, не заболел ли ты? Эстагафирулла тэубе! С оренбургского базара вернулся, сказал, что лично знаком с губернатором! Ну ладно, перепил, с кем не бывало…
– Что мне базар? Базар – тьфу!.. Начальник кантона стоя читал указ губернатора. У князя глаз острый, знает, кого возвысить. Придворным так и сказал: – Этот зауряд-хорунжий мой друг, вместе против турецкой орды сражались. Теперь буду богатым и знатным. Аллах услышал мои молитвы. Слава Всевышнему!
– Атахы-ы[3]3
Атахы – отец (букв. – отец моих детей).
[Закрыть], – заплакала жена.
В избу вошел легкими шагами стройный подросток, почти юноша, с нежным пушком на верхней губе.
– Что случилось? Почему ты плачешь? – тревожно спросил он мать.
– Улы-ым! – торжественно провозгласил Ильмурза. – Губернатор назначил меня старшиной юрта. Личный указ начальнику кантона Бурангулу.
– Ну и замечательно, – обрадовался Кахым. – И не надо плакать, эсэй.
– А если губернатор обманет?
– Ду-у-ура! Как обманет? Указ с приложением печати.
– Атай правду говорит – указ! – успокоительно сказал матери сын.
– Указ! – подхватил Ильмурза. – Готовь угощенье, зови гостей. Пусть все знают нрав старшины.
– Схожу к Асфандияру-мулле, взаймы попрошу муки, – засуетилась жена.
– Не унижайся! – приказал Ильмурза. – Сами принесут подарки, только мигну! Зарежем козу…
– Не дам резать козу! – заревела в голос Сажида.
– Да я тебя зашибу-у-у! – Ильмурза вспылил и двинулся на жену, закатывая рукава рубахи.
– Отец, пальцем мать не тронешь! – Кахым решительно преградил ему путь к печке, где стояла плачущая Сажида. – Не допущу!
– Осмелел, сопляк! – рявкнул Ильмурза, но спохватился, что услышат соседи и столпятся у ворот и окон, – срам старшине в первый день владычества заводить драку в доме.
Сын снизу вверх пристально смотрел на отца, в прищуренных глазах злые огоньки. Ильмурза сообразил, что кончается его власть над Кахымом, натянуто рассмеялся:
– Ишь петух!.. – И, взяв с нар шапку, вышел из избы. Кахым опустил голову, виновато смотрел на мать, уже раскаиваясь, что открыто выступил против отца.
– Грех, большой грех, сынок, перечить отцу! – упрекнула Сажида, вытирая глаза полотенцем.
– А тебя обижать не грешно?
– Не грешно! Битое мужем или отцом тело и в аду не горит. Власть над женою вручена мужчине самим Аллахом. От судьбы не уйдешь!.. Всякая женщина – раба мужа.
– А Буранбай-агай[4]4
Агай – почтительное обращение к старшему брату.
[Закрыть] говорит, что все люди – и мужчины, и женщины – равны перед Богом.
– Шайтан подсказывает ему такие слова, дитя мое! – Сажида перепугалась пуще прежнего, зашептала молитву, отплевываясь от нечистой силы. – Не в пользу, вижу, тебе дружба с Буранбаем. Научил, видишь ли, читать русские книги, а от них все зло.
– Нет, Буранбай-агай – добрый, – не согласился Кахым. – И умный! Говорит, что в книгах – мудрость мира.
– Не знаю, не знаю, дитя мое, – задумчиво покачала головой Сажида и вдруг спохватилась: – Да чего я стою? Надо же прибраться.
Кахым махнул рукой и, все еще взбудораженный, вышел во двор, чтобы распрячь лошадь, положить ей сена. «Неужели отец и вправду беседовал с губернатором? Может, попросту расхвастался? В городе он так усердно угощался с приятелями, что спустил все деньги, вырученные за дрова, и сам же признался, что храпел в арбе всю обратную дорогу. Да, пожалуй, приснилась ему встреча с князем…»
Через полчаса во двор с горделивым видом вошел Ильмурза, за ним работник нес на спине мешок.
– Неси в дом, выложи на нары, – приказал он, а сам остановился перед сыном, подбоченился: – Видишь, как узнали, что я лично возвышен князем, так и шеи согнули, залебезили – и лавочник, и богатеи.
– Взятки? – поморщился Кахым.
– Подарки! – внушительно поправил его Ильмурза. – Раньше я нес подарки старосте, начальнику кантона, а теперь сам принимаю почести. Колесо жизни, сын, вертится то вперед, то назад. И мне наконец привалило счастье!.. Начальникам всегда и всюду – уваженье.
– Ты же сам говорил, что начальники законов не соблюдают.
– А князь соблюдает. И от указа с собственноручной подписью и приложением печати не откажется. Иди по домам, приглашай соседей в гости.
– И Буранбай-агая позвать?
– И с чего тебе так по душе этот певец? – Ильмурза пожал плечами. – Зови!.. Скажи, чтобы курай принес с собою.
Вышедшая на крыльцо Сажида услышала и, когда сын вышел за ворота, упрекнула мужа:
– К чему тебе этот смутьян? Говорят, что он народ мутит, бунтарские речи против начальников заводит. Русские книги читает. Как бы он нашему Кахыму голову не закрутил.
– А ты не слушай сплетен! – прикрикнул Ильмурза. – Буранбай Кутусов окончил в Омске офицерское училище. Есаул!.. Начальник кантона Бурангул с ним в дружбе. Да разве он станет приваживать к себе сомнительного человека?
– И то правда, – согласилась жена и ушла в дом стряпать.
…Кахым вскоре с помощью всезнающих деревенских мальчишек отыскал своего любимого наставника и покровителя. Буранбай сидел в окружении внимавших ему односельчан. К забору была привязана оседланная лошадь, значит, собрался в путь.
– Проходи, кустым[5]5
Кустым – братишка.
[Закрыть], садись, – мягко пригласил Кахыма Буранбай с доброй улыбкой и продолжал: – По распоряжению губернатора Игельстрома в конце прошлого века башкирские земли были поделены на одиннадцать кантонов. Башкирам запрещено перекочевывать со стадами из кантона в кантон на летние пастбища – на яйляу. После гибели Пугача и Салавата народ в страхе. Начальники обнаглели и душат мужиков поборами. А как война – садись, башкир, на коня с луком, с колчаном стрел да с копьем!
– Верно говоришь! – послышались голоса. – Справедливы твои слова!
«Отца назначили старшиной юрта, теперь Буранбай-агай и против него станет подбивать народ», – невольно подумал Кахым.
– Что же нам делать, агай? – спросил парень из-за чувала.
Буранбай не торопился с ответом, заговорил неспешно, тщательно подбирая слова:
– Когда учился в Омске, то познакомился с некоторыми русскими просвещенными людьми. Сами понимаете, не по своей воле они приехали в далекую Сибирь. Под стражей привезли…
Слушатели понимали, что к чему, ведь после разгрома и пленения Пугачева не только великий Салават, но и многие их сподвижники-башкиры очутились в ссылке.
– Так вот, русские ссыльные открыли мне глаза: нечего надеяться на победу над угнетателями, пока не окрепнет дружба между русскими, башкирами, татарами, чувашами, ну, словом, всеми народами. В единении – сила!
– А Салават-батыр сейчас жив? – взволнованно спросил Кахым.
– Неизвестно… Тридцать лет прошло, срок серьезный. А вообще-то он молодым был, когда воевал с Пугачом против царицы Катерины, – вполне мог уцелеть и в ссылке.
Все собравшиеся помрачнели, завздыхали – Салавата чтили свято.
Скрипнула дверь, заглянул мальчишка, сказал с тревогой:
– Урядник идет!
Буранбай взял курай, приложил к губам, пробежал ловкими пальцами по круглым отверстиям, и в избе запела, затосковала щемящая душу мелодия «Урала», знакомая слушателям и незнакомая, ибо талант музыканта преобразил старинный напев в звучащую по-новому, более бурно, более трепетно, музыку.
– А теперь спою, – Буранбай отложил курай и завел в полный голос, звучно и проникновенно:
Молод, красив Салават
В меховой папахе, лисьей.
Бригадиром назначен Салават
В двадцать и два года.
Тотчас унылые лица слушателей просветлели, вспыхнули в глазах задорные искорки, и они дружно подхватили:
Взошел я на высокую гору
В погоне за злым волком.
Храбрый воин Салават
Разгромит царские полки.
В избу, как бы крадучись, вошел урядник, присел на нары, отдуваясь, вытирая ладонью усы и бороду.
Урядник хрипло покашлял, призывая к вниманию, и сказал укоризненно:
– Ваше благородие, господин есаул, не следовало бы распевать похвалу бунтовщикам!
– Песню сложили в народе, господин урядник, тридцать лет назад. Какой же от нее теперь вред?
– Ну не скажите, этих атаманов не забыли, а молодые даже к ним привержены, особенно к Салавату!
Не ответив, Буранбай провел ладонями по усам и бороде, зашептал благодарственную молитву:
– Аллаху акбар! Слава Всевышнему!.. Да дарует Аллах народу мир и счастье! – А затем добавил деловым тоном: – Начальник кантона Бурангул-агай гонца прислал, – вызывают меня в Оренбург, к генерал-губернатору.
Услышав «генерал-губернатору», урядник раболепно вытянулся, буркнул с почтеньем:
– Счастливого пути, господин есаул! Засвидетельствуйте мое почтение нашему кантональному начальнику господину Бурангулу!
И парни, и мужчины в годах высказывали искреннее сожаление, что их любимый сладкоголосый соловей уезжает.
– Рахмат, друзья, спасибо! – сказал Буранбай, прощаясь со всеми за руку. – Служба есть служба…
«Значит, к нам не заедет», – расстроился Кахым, но все же подошел к коновязи, где Буранбай отвязывал уздечку.
– Ну, счастливо оставаться!
– Агай, отец меня прислал, чтоб пригласить в гости.
– Пусть простит меня Ильмурза-агай, но я – человек подневольный.
– А если на часок?
– Не могу. Хуш! Прощай!
– Скорее возвращайтесь к нам, агай!
– Постараюсь.
«Скорее бы мне подрасти и стать похожим на Буранбай-агая! – мечтал Кахым. – Какой же он счастливый – и певец, и кураист, и сэсэн[7]7
Сэсэн – поэт-импровизатор.
[Закрыть], и есаул. И образованный вдобавок! Счастливый!»
Сам же Буранбай счастливым себя вряд ли считал.
Молодая его жизнь была бурной и многотрудной. Юношей он ходил по аулам и призывал молодежь вновь поднять знамя Пугача и Салавата, – злые люди донесли, и Еркей, так его тогда звали, очутился в тюрьме. Его приговорили к ссылке, но на этапе, когда переплывали на пароме реку, он оттолкнул конвойного, спрыгнул, добрался до берега и спрятался в кустарнике. Дошел до родных мест, поселился у приятеля-рыбака на реке Куюргазы и снова начал кураем и свободолюбивыми речами собирать в избушке парней; звался он в ту пору Еркей-Яланом. Соглядатаи и здесь его выследили, сообщили полиции, и Буранбай-Еркей-Ялан зашагал среди ссыльных по сибирскому тракту. Но и тут не смирился – сбежал с ночлега, скитался по хуторам и заимкам, потом нанялся работником к богатому татарскому купцу в селе Каргалы, близ Оренбурга. Вечерами уходил в степь и слагал песни, – рыдал курай тоскою по любимой девушке в песне «Бэдре тал» – «Плакучая ива». Забылся он как-то печалью и музыкой и вздрогнул, когда его окликнули с дороги. В добротном тарантасе, запряженном парой сытых, выхоленных лошадей, сидел мужчина в синем бешмете, с круглой черной бородкой, но безусый, с высоким светлым лбом.
– Эге-гей, подойди! – попросил проезжий.
Кажись, опасности нету, и он пошел к тарантасу.
– Ай-хай, какая музыка! – с неподдельным восхищением сказал седок, дружелюбно глядя на кураиста карими острыми глазами. – Откуда же ты, парень?
– Родом я из Бурзянских аулов, зовут… Еркеем. Работаю здесь батраком у купца.
И спохватился: «Еркеем числюсь в полиции!.. Ну как узнают и опять заметут?»
– Нет, это мое прозвище Еркей, а мулла назвал Буранбаем… Кутусовым Буранбаем.
– А я Бурангул, почти то же имя, – засмеялся проезжий. – Начальник Девятого кантона. У нас ценят талантливых кураистов и певцов. Чем батрачить, поедем ко мне. Не обижу!
И Буранбай-Еркей очутился в хоромах начальника кантона. На всех праздниках он и песнями и мелодиями курая навевал на гостей Бурангула то грусть, то веселье. И в разъезды по кантону Бурангул брал своего музыканта. Нет, он действительно любил и понимал народную музыку, ценил Буранбая искренне и зачастую слезой умиленья награждал певца за любовную печальную песню.
За год жизни в доме начальника кантона Буранбай научился свободно читать по-русски и пристрастился к чтению, буквально глотая книги. Видя это, Бурангул, хоть ему и не хотелось расставаться с любимцем, порекомендовал генерал-губернатору послать юношу в Омское военное училище.
Губернатор согласился: офицеры-башкиры крайне нужны для службы в башкирских полках.
Через три года Буранбай с отличием окончил училище, получил звание есаула. Теперь он получал сравнительно высокое жалованье и мог бы жить беспечно.
Но сердце его кровоточило.
Любимая Салима – далеко, и пути к ней заказаны: приедешь в аул, и тебя тут же схватят урядники. Больную мать не видел столько лет, – конечно, сейчас украдкой, через верных друзей посылал ей денег, но ведь старая лелеет надежду встретиться со взрослым сыном, наглядеться-налюбоваться, побеседовать душевно.
Раньше Еркей скитался из аула в аул, радовал людей сладкоголосым кураем, говорил тайно с парнями, звал их сплотиться на борьбу. Теперь он засомневался – так ли необходимы эти сходки, его призывы к бунту? Но разве житейское благополучие и влияние Бурангул-агая укротили его необузданный нрав? Нет, но в Омске, в общении с ссыльными он понял, что восстание Пугача и Салавата уже не повторится, что надо учить народ – и башкирский, и русский, и татарский, словом, все народы – грамоте, военному делу. Спешить – преступно. Необходимо исподволь создавать русско-башкирскую армию освобождения.
В башкирских кантонах в этом, девятнадцатом, веке произошли серьезные перемены. Начальники кантонов, юртов – военные. Заставы, форпосты, порубежные крепостицы подчиняются начальникам кантонов. Более десяти тысяч башкирских джигитов ежегодно мобилизуют в полки для службы на границе. Там они и по-русски научатся говорить, а многие – и писать, там они станут вымуштрованными солдатами. В 1805 году против французов сражались за границей восемь тысяч башкир, шестьсот калмыков; три башкирских полка ушли в Пруссию на пополнение армии Беннигсена.
«Надо ждать возвращения башкирских джигитов из заграничных походов. До этого нечего и мечтать о восстании!»
А почему Буранбай потребовался губернатору? Недавно он послал ему письмо-жалобу от имени крестьян Шестого кантона с просьбой снять непомерные налоги. Возможно, генерал-губернатор возмутился, что есаул не помогает взыскивать подати, а заступается за мужиков? Или выследили, донесли, что он, Еркей, – беглый, а вовсе не Буранбай?.. Нет, во всех случаях вызов к начальству не сулил есаулу ничего хорошего.
Начальник канцелярии Ермолаев встретил Буранбая приветливо, не чванился, не важничал, а, вставая, протянул руку, показал на стул с высокой, обитой кожей спинкой.
– Прошу. Здоровы?
– Здоров. Благодарю, господин подполковник.
– Первый вопрос, господин есаул: вы знаете, что без особого разрешения вам запрещено ездить из кантона в кантон?
– Так точно.
– Но вы нарушали это строжайшее предписание?
– Исключительно по служебным делам.
– Гм, предположим. Второй вопрос: запрещено категорически устраивать сходки, собрания, сборища жителей без особого разрешения генерал-губернатора, и вы об этом знаете, но все же нарушаете, – почему?
– Закона я, господин подполковник, не преступал, но ведь я певец и кураист, а если приходят в дом или на лужайку слушатели, то ничего крамольного в этом не вижу. А иные парни, кроме того, просят научить их игре на курае.
– Гм, предположим.
«Придется удалить из башкирских кантонов, иного выхода нет, – опасный и умный свободолюбец, – сказал себе Ермолаев. – И курай его зовет к бунту, а не к праздничному столу!»
– Учту ваши разумные предупреждения и стану вести себя осмотрительнее, – заверил подполковника Буранбай.
– Гм, премного меня обяжете! Однако сейчас речь идет о назначении вас на высокий пост, господин есаул, за пределами башкирских кантонов, а не о курае и не о песнях, – Ермолаев спрятал в усах ехидную улыбочку.
«Значит, снова в сибирскую ссылку?!»
– Граница Российской империи, как вы знаете, идет по рекам Тобол и Урал к Каспийскому морю, – подполковник показал на большую карту на стене, – и делится на пять дистанций, а охраняется башкирскими и казачьими отрядами. Догадались, почему я завел разговор о границе, а, есаул?
– Никак нет, господин подполковник.
Буранбай действительно не понял, куда тот клонит.
– Начальником какой из пяти дистанций вы хотели бы стать?
«Я страшился очередной ссылки, а мне предлагают, и верно, высокий пост!»
– Не знаю, – пожал он плечами. – Извините, господин подполковник, но я растерялся.
– Гм, ваша растерянность, есаул, мне понятна и… приятна. Трезво оцениваете свои силы! Но я добавлю, что ходатайствовал о назначении вас на дистанцию начальник кантона Бурангул Куватов, а князь Волконский просьбу его уважил. Судите сами, сколь лестно для вас согласие князя.
«За что мне такая честь?»
– Прошу передать его сиятельству искреннюю благодарность, – овладев собою, сказал Буранбай. – Назначение, следовательно, состоялось… Если мне разрешен выбор, то я бы взял Вторую дистанцию, от Верхнеуральска до Орской крепости.
– Отлично, готовьтесь к переезду. Как только князь подпишет приказ, получите в канцелярии подъемные деньги.
«На границе этот… музыкант не будет баламутить народ, призывать к неповиновению. Но если и там не возьмется за ум, то…»








