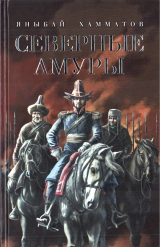
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц)
Одиннадцатого июня 1812 года Наполеон прибыл в Ковно.
Предчувствие новой войны с Россией превратилось в ожидание приказа императора. И Наполеон приказал форсировать Неман. Шестисоттысячная армия вторглась в пределы Российского государства. Следом за корпусом маршала Даву кавалерия Мюрата устремилась к Вильно, корпус Нея пошел на Скорули, корпус Удино – на Яново.
Наполеон торопил маршалов, желая в первом же генеральном сражении сокрушительно разгромить русскую армию. Император мечтал раздробить армию Барклая-де-Толли на мелкие отряды уже около Вильно, перерезать дорогу на Смоленск, а далее – на Москву. Однако по приказу Барклая Первая Западная армия своевременно оставила Вильно и отошла к Свенциянам.
Казаки Платова и Первый башкирский полк впервые столкнулись с противником вблизи Гродно.
Разведчики доложили атаману, что по тракту приближается полк французской пехоты, а левее, по проселку пылит конница. По сигналу Матвея Ивановича Платова горнисты певуче протрубили тревогу. Французские солдаты маршировали в плотном строю, как на параде, мундиры нарядные, с иголочки, на киверах золоченые кокарды. Позади разворачивалась батарея.
«Боюсь ли? – спросил себя Буранбай. – Пожалуй, боюсь. Первое сражение. Мало пожил, счастья не изведал, а только мечтал о счастье!..»
В перелеске вспыхнули темно-сизые клубы дыма, через мгновение ядра взрыли землю, покатились, подпрыгивая. Солдаты противника дали залп из ружей с примкнутыми штыками.
– Марш-марш! – крикнул срывающимся густым баском майор Лачин.
«Бывалый воин, а тоже волнуется!» – подумал Буранбай, а затем понял, что майор торопит джигитов броситься в атаку, чтобы французы не успели перезарядить ружья. И сам, привстав на стременах, вырвал саблю из ножен, за ним подняли сверкнувшие клинки сотники, призывая джигитов к броску на врага.
Если французские ядра не долетели до строя полка, то пули пехотинцев оказались дальнобойнее и метче – дико заржали раненые лошади, попадали с седел пронзенные всадники – первые жертвы нашествия…
«Ура-а-а-а!..» – громоподобно кричали справа казаки, устремившись лавой вперед, и, подзадоренные этими криками, джигиты помчались напропалую, горяча и без того ошалевших коней, протяжно завывая: «Ура-а-а-а!» Французы не успели дать второй залп – в их строй уже врубились лихие наездники Платова, Лачина и Буранбая.
Щедро раздавая направо-налево разящие удары, войсковой старшина пробивался вглубь, радуясь тому, что его джигиты не отстали – кромсают, рубят, закалывают пехотинцев. Вдруг неистово взвизгнул его конь, раненый вражеским штыком, поднялся на дыбы, шарахнулся в сторону, ординарец схватил поводья, осадил назад, вытолкнул жеребца к своим джигитам.
– Где майор?
– Впереди!.. Вон он, в самой рубке!
Увидев, что Лачин отбивается от наседавших на него французов, Буранбай перескочил в седло коня ординарца, отдав тому своего раненого скакуна, собрал вокруг себя пять-шесть самых отчаянных конников.
– Башкиры! Выручим командира! – зычно прокричал он.
И, заслышав его призыв, джигиты с умноженной отвагой обрушили на врагов клинки: да разве это мыслимо оставить в беде своего корбаши!..
Вскоре сомкнувшиеся вокруг майора французы были рассеяны, Лачин очутился в строю полка и начал командовать.
К этому времени противник, предвкушавший легкую победу, начал отходить, но в полном порядке, – пехотинцы смыкали шеренги, ощетинившись штыками.
Когда атаману донесли, что французы отступают, он велел трубить сбор, чтоб не нести излишних потерь. В конце концов, это был первый встречный бой, проба сил… Пусть Наполеон подсчитает потери и поймет, что затеянная им прогулка по русской земле не состоится: за каждую версту придется расплачиваться пудами крови… Корпус устоял: даже новобранцы не оробели, рубились, может, и неумело, но храбро, а старослужащие казаки и башкиры отличились и удалью, и сноровкой, и смертным ударом клинка.
7Вечером Платову был передан приказ вести корпус от Гродно в Свенцияны.
В Новогрудках, Кареличах, Мире вспыхивали короткие, но яростные схватки между французами и казаками Платова. Двадцать седьмого июня 1812 года атаман вызвал к себе в штаб майора Лачина.
– В каком состоянии полк башкирских джигитов? Могу ли я на них рассчитывать?
– Джигиты рвутся в бой! Верю им как самому себе, – горячо заверил майор командира корпуса.
Усталое, пожелтевшее от бессонницы лицо Платова просветлело.
– Хочу поймать кичливых французов в волчий капкан. Заманить их в петлю аркана. В окружение!.. И сделаете это вы, башкиры. У казаков свои боевые задачи.
Он подробно, по карте разъяснил майору свою хитроумную затею.
– Справитесь?
– Убежден.
– С богом!..
Вернувшись в полк, Лачин держал совет с Буранбаем и сотниками. Решили, что первая сотня, самая сплоченная, ввяжется в стычку с аванпостами противника и сразу же отскочит, джигиты прикинутся струсившими и ударятся в поспешное бегство к селу Мир, где основные силы полка ждут в засаде полукольцом.
– Разрешите мне быть с первой сотней? – спросил Буранбай.
– Охотно разрешаю. Сам хотел просить вас возглавить операцию.
Войсковой старшина сначала лично разведал местность, прикинул, где выводить из укрытия сотню, где половчее, пошумнее устроить панику, по какому маршруту мчаться, не жалея лошадей, в глубину полка, в западню. Французы стояли в селе Кареличи, пушки на редутах, пехотинцы в строю, – миг, и затрещат барабаны, загудят трубы, и шеренга за шеренгой солдаты зашагают в атаку. Буранбай нарочно повел сотню по открытому полю, чтобы противник решил, что она сбилась с пути и заплутала. Французский генерал Турно попался на крючок – хвастливо вознамерился пленить опрометчивых конников. Да много ли их? Какая-то сотня!.. Пехота – медлительна, неповоротлива, и генерал бросил с обоих флангов, из-за домов, польских уланов.
Переметнувшиеся к Наполеону, нарядные, в разноцветных мундирчиках, уланы с беспечной самоуверенностью понеслись окружать неказистых, в сереньких кафтанах, на низкорослых лошадках всадников.
Одного не учел генерал Турно – стояли нестерпимо жаркие дни, трава на лугах выгорела, и тяжелые балованные польские скакуны ослабели от бескормицы, а выносливые башкирские лошади остались резвыми и неутомимыми.
Буранбай скакал последним, нарочно показывая уланам, как криками и ударами саблей плашмя подгоняет своих охваченных ужасом всадников.
В самоупоении уланы, вздымая завесы пыли, размахивая стягами на пиках, ворвались на улицу села Мир.
Капкан захлопнулся. Полукольцо засады сомкнулось в нерасторжимое кольцо. Началась битва на уничтожение – стрелы, а затем сабли и копья джигитов безжалостно истребляли поляков. Генерал Турно швырял в преследование эскадрон за эскадроном – все они исчезали в смертной рубке.
Чтобы французская пехота не двинулась на выручку, Платов развернул бригаду Кутайсова.
Но ее помощь не потребовалась: уцелевшие уланы – и солдаты, и офицеры – сдавались в плен.
– Да разве мы знали о ваших стрелах и саблях, – плакали и ругались они.
Радостный Платов отправил победный рапорт князю Багратиону, особо отметив Лачина и Буранбая.
8Медленно, тягуче текли дни в далеком Оренбурге. Пылало знойное солнце, степные ветры несли из-за Хакмара горькие полынные ароматы. Генерал-губернатор Волконский гулял по берегу Хакмара; в ожидании приезда из Петербурга жены Александры Николаевны он то занимался делами, то забывал о них.
И вдруг примчался запыленный, шатающийся от усталости курьер с высочайшим манифестом из столицы. Начальник канцелярии Ермолаев распечатал пакет и побледнел:
– Ваше превосходительство, война!.. Двенадцатого июня Наполеон Бонапарт начал войну против России.
Седовласый, с морщинистым замкнутым лицом Волконский резко приподнялся в кресле, затем справился с растерянностью, спросил:
– Когда вышел манифест императора?
– Шестого июля.
– А сегодня восемнадцатое… Боже мой!.. Война идет да идет, а мы о ней ничего не знали!.. Хотя, признаться, когда приказали отправить на запад Первый и Второй башкирские полки, тептярский и Уфимский стрелковые полки, я почувствовал, что нашествие «узурпатора» вот-вот начнется.
Ермолаев знал, что Волконский именует по примеру петербургских салонов «узурпатором» Наполеона.
– И все же я успокаивал себя: авось да пронесет… Теперь – свершилось! – продолжал с несвойственной ему пылкостью Волконский. – Ну, будем воевать! До полного изгнания из пределов Отечества наглых захватчиков. Алексей Терентьевич, – обратился он к Ермолаеву, – завтра же размножить манифест в губернской типографии и разослать по уездам и церквам, перевести манифест на башкирский язык и тоже послать в кантоны и мечети.
Встав поутру, князь впервые за эти годы приказал камердинеру подать военный мундир при всех орденах, облачился в него и прошел в служебный кабинет твердым шагом. Ермолаев вскочил, руки по швам: в генеральском мундире князь подтянулся, словно помолодел, и стал строже. И тогда все офицеры канцелярии, а чего скрывать – молодые посмеивались тайком, что князь одряхлел, опустился, поняли, что начались суровые времена, что службу они несут в военном штабе.
9Весть о войне, как ветер, быстрее любого ветра, долетела до Ельмердека.
Всполошенные, удрученные страшной бедою люди с криками, со стонами бросились к мечети – к последнему надежному пристанищу: молить Аллаха спасти сыновей, ушедших с полками на войну. Да разве они последние? Начнутся новые наборы джигитов, пойдут ускоренным маршем башкирские полки за Волгу…
Вечерело. Солнце низко висело, закатывалось зловеще багровым шаром, сулящим людям горе, слезы, поминание усопших.
После намаза старшина Ильмурза попросил муллу Асфандияра прочитать громко, внятно царский манифест. Мулла, старательно выговаривая каждое башкирское слово торопливого, а оттого и неуклюжего перевода, прочитал о вторжении иноземных полчищ, а затем призвал всех правоверных мусульман к самоотверженному исполнению своего верноподданнического долга.
– Аллах благословляет джигитов на ратное служение царю-батюшке!
Мулла Асфандияр вознес молитву за здравие и благополучие джигитов Первого и Второго башкирских полков.
Молебен закончился, но люди не расходились, как обычно, по домам, а с женами и детьми зашагали к горе, зубчатая вершина которой была резко очерчена алой каймою угасающего солнца. Мужчины шли молча, а женщины рыдали, причитали, будто заранее оплакивали своих мужей и сыновей, ушедших и тех, кому в ближайшие дни предстояло уйти на войну.
У возвышенного подножия горы развели костер из хвороста, собранного подростками в перелеске и оврагах. Поднялось бушующее пламя и тьма сгустилась, залегла в ущельях, в ложбинах. С телеги сняли связанного по ногам барана. Мулла Асфандияр повернулся в сторону киблы[34]34
Кибла – направление в сторону Мекки, священного города мусульман.
[Закрыть], преклонил колени и, подняв руки, протяжно затянул:
– Прими, Аллах, нашу чистосердечную жертву! Укрепи силой тело, а сердца наших джигитов, борющихся с врагом государства Российского – отвагой! Власть твоя, Всевышний, безгранична, – прикажи, чтоб война скорее закончилась победой и сыновья наши со славой вернулись домой. Мир народу нашему. Аллаху-акбар!..
В толпе раздались почтительные мольбы:
– Аллаху-акбар!.. Услышь, Аллах, наши молитвы!.. Сохрани детей от сиротства!.. Испепели шайтана, накликавшего войну на Расяй!..
Ильмурза в яростном гневе воскликнул:
– Шайтану Наполеону – анафема и смерть!
Толпа подхватила, как заклятье:
– Смерть! Смерть! Смерть!..
Мулла, шепча в бороду «Аминь», протянул Ильмурзе остро отточенный нож.
– Старшина юрта, ты – турэ, тебе по праву и достоинству принести эту жертву Всевышнему и пророку его!
Ильмурза набожно произнес: «Бисмилла!..», положил жертвенного барана головой в сторону киблы и единым взмахом перерезал ему горло. Шкуру, как и полагалось, вручили мулле, голову, ноги, требуху – бедным старикам, а мясо поджарили на вертеле, и сочные куски с капельками крови вручили сперва мужчинам, потом женщинам и подросткам: каждому надлежало вкусить это причащение кровью и мясом, чтобы умилостивить Аллаха – защитника всех смертных… Этот обряд переходил из поколения в поколение и соблюдался башкирами неукоснительно, когда начинались войны.
Костер угасал, из аула донеслись первые зычные вскрики петухов, и по благословению муллы верующие, взявшись за руки, пошли домой, то и дело выкрикивая:
– Никто не победит Российское царство!.. У башкир и урусов – одна судьба!..
Женщины молчали, погрузившись в скорбные размышления.
На берегу реки Ельмек кто-то выстрелил из ружья заговоренным порохом, и эхо раскатисто загудело в лесу и в расщелинах горы как напоминание, что война идет каждодневно, что там, далеко-далеко, погибают люди…
В толпе еле-еле плелась ослабевшая от рыданий Сажида, всей душою надеясь на всевышнюю милость Аллаха: «Боже, все в твоей воле – спаси и сохрани моего единственного сына Кахыма!..»
И Сафия плакала навзрыд: оставят ли ее мужа, отца ее первенца Мустафы, в Петербурге или отправят немедленно на войну? Считанные дни побыла она с любимым дома. Военная служба – подневольная и суровая. Унесла быстрая ямская тройка Кахыма в столицу. И обручение Мустафы совершили без него, а ведь так не положено…
Лишь беспечная Шамсинур для приличия изобразила на красивом личике скорбь и даже раза три кряду всхлипнула.
Казалось бы, и Танзиле можно не печалиться. Память о муже давно выветрилась из ее сердца, и все же она была глубоко удручена: не дождется теперь молодая вдова счастья в жизни – война унесла ее последнюю надежду на семью, уйдут с башкирскими казачьими полками на войну молодые джигиты из Ельмердека и соседних аулов. Опустеют деревни… Кусай пальцы в тоске по ночам вдова – не дождешься лепета своего ребенка у набухшей молоком груди. И увянешь в старуху!.. А за старика, младшей женой, Танзиля не пойдет, – лучше в петлю, в омут. Каждый день видит, как мается в неутоленной молодой плоти Шамсинур…
Сажида крепко обняла снох, словно верила, что от их сердец получит успокоение и укрепление надежды: вернется Кахым невредимым и увенчанным ратной славой…
Женщины молчали. В ночной тишине только кротко, мирно журчала, звенела вода в реке. Подняв глаза к небу, женщины ждали, что ангелы возгласят с вышины: «Ваши молитвы услышаны Аллахом! Живите спокойно – война закончилась! Мир! Победа!..» Подождите, что это? Со стороны горы, где было совершено только что жертвоприношение Всевышнему, донеслось легкое дуновение. Ветерок? Или благостное колыхание крыльев ангелов – долгожданных вестников доброты и всепрощения Аллаха?
Но предутренний ветерок прошумел листвою деревьев и умчался в безбрежные дали. День близок!.. И все же измученные горем женщины поверили, что ангелы посетили землю и обещали людям скорый мир.
10Утром в ауле начались хлопоты, суета, сборы – по указанию старшины Ильмурзы женщины – матери, жены и старшие сестры – в тех домах, где были взрослые парни – очередники запасных полков, шили бешметы, варили корот, коптили мясо. Многоопытные старцы шили полушубки, теплые сапоги-бурки, шапки, а бывалые охотники мастерили луки и стрелы.
Старшина Ильмурза досконально осмотрел новые стрелы и решительно забраковал:
– Это не боевые стрелы, а лучинки!
Мастер, в годах, обиделся:
– Позволь, всю жизнь охочусь такими и на дичь, и на зверя!
– Может, против куропаток и диких гусей это оружие верное, но если бы я с такими стрелами вышел в бой, то с войны с Турцией не вернулся бы на коне и с медалью!
– Какими же должны быть боевые стрелы? – спросили парни, завтрашние воины.
– Стрела должна быть ровной и крепкой, как железный стержень. Но и легкокрылой в полете, как молния. Из какого дерева делать стрелу? Я перепробовал и березу, и тополь, и клен – не годятся. Наконец нашел самое лучшее, но держал в тайне, а тут, раз уж война началась, придется открыть вам секрет.
Парни окружили старшину кольцом, жадно слушали, а мастер, подавив обиду, спросил:
– Каков же секрет?
– Ты под каким деревом сидишь? Под липой? – Старшина с торжеством рассмеялся: – Для выделки боевых стрел лучше липы дерева нет.
– Как так? – охнул мастер.
– А вот так! Стрела из липы – самая прямая, самая легкая, самая крепкая в ударе! – Насладившись произведенным на мастера и молодежь впечатлением, выразившимся в почтительном молчании, Ильмурза продолжил: – Делай стрелу только из сердцевины! Разруби дерево пополам, если сердцевина слишком толстая, раздели еще на две части. Не повреди волокна, иначе стрела получится ломкой. Как вырежешь стрелы, обтеши, чистенько отшлифуй и опусти концом в кипяток, через час-другой надрезай, пока древесина мягкая, разбухшая, и вставляй наконечник. Потом другим концом в кипяток, распарил – и тогда склеивай волокна древесным клеем. Стрела подсохнет, сожмется и станет словно отлитая из булатной стали.
– Господин турэ, не везде же липа растет, – заметил кто-то из слушателей.
– Для военной стрелы годится и ясень. Правда он тяжеловат, но зато крепкий. Брать надо ту часть ясеня, которая всегда в тени от соседних деревьев. – Подумав, Ильмурза добавил: – Делают иногда стрелы из дуба, из орехового дерева.
– А наконечник?
– Давно-давно, я еще пареньком был, делали из железа, а после разгрома Пугачева, Салавата и Киньи Арсланова испуганная царица повелела все башкирские кузницы закрыть, – начали вырезать наконечник из рога. Годятся и перья птиц. Из орлиного крыла, к примеру, получается отличный наконечник.
К ним подошел Азамат с луком и стрелами, почтительно поклонился старшине, кивнул знакомым мужчинам и парням.
– Покажи лук, – попросил Ильмурза, глазом знатока осмотрел, потянул тетиву, зазвеневшую как струна. Да-а-а!.. – восхитился старшина, но тотчас для порядка заметил: – Забыли бересту привязать снаружи для крепости изгиба.
– Нет, мы привязываем, агай, обязательно привязываем, – заверил Азамат, – вот сухожилий для тетивы не хватает.
– Прикажу всем, кто зарежет лошадь, отдавать сухожилия для военных луков. – Старшина Ильмурза встал. – Чего это мы все говорим и говорим? Постреляйте в цель новыми стрелами, а я погляжу-проверю.
Выбрали высокий пень, отмерили семьдесят пять шагов.
Старшина любовался статью парней, мощными мускулами, играющими в рукавах холщовых рубах, загорелыми лицами, но когда выяснилось, что из тридцати стрел в цель угодили только восемнадцать, Ильмурза и рассердился, и опечалился.
– Да за такую… мет-ко-ость в башкирском полку сотник с вами бы, недотепами, у-у-у!.. Заниматься до призыва стрельбами каждый вечер! – строго распорядился Ильмурза. – Сам стану приходить и проверять, а с лентяями и раззявами, у-у-у!..
Он велел принести стрелы, попавшие в пень, осмотрел их и окончательно расстроился:
– Видишь, при ударе твоя стрела либо расщепилась, либо согнулась, либо смялась, – показал он мастеру. – Изготовляй стрелы, как я научил, и они после удара станут еще тверже. – Распалившись в гневе, Ильмурза объявил: – Сам попробую пострелять! Неужто от старости утерял былую хватку?..
Он с раздражающей парней медлительностью стал выбирать лук и стрелы, тетиву даже попробовал на зуб, а стрелу раскачивал на ладони, подбрасывал и следил, как падает – плавно или зигзагами…
– Не осудите старика, если промажу!.. Пальцы не гнутся, глаза слезятся. У стрелка левая рука, держащая лук, должна окаменеть, а моя дрожит. Правая рука, натягивающая тетиву, должна быть гибкой, сильной, а мои пальцы словно из пчелиного воска.
Парни из почтения к рангу турэ помалкивали, а в душе посмеивались, зная, как Ильмурза любит жаловаться на немощь. И верно, едва он стал в позицию, сдвинув каблуки, раздвинув носки, глаза старшины сверкнули диким задором, шея, плечи и руки окостенели от напряжения. Стрела полетела с такой скоростью, что зрители мигнуть не успели, и вонзилась в кору пня, затрепетав опереньем. Вторая!.. Третья!.. Вогнав пять стрел в самую середину пня, Ильмурза со счастливой улыбкой опустил лук и вытер рукавом бешмета вспотевший лоб.
– Не разучился еще стрелять ветеран войны с Турцией! – скромно, но с достоинством сказал старшина.
Парни одобрительными возгласами чествовали своего турэ, на этот раз уже чистосердечно – не стареют башкирские джигиты…
– Вот занимайтесь каждодневно стрельбами, глаза ваши молодые – острее, чем мои, а руки сильные, как у легендарных батыров! – посоветовал напоследок старшина и, вскарабкавшись в седло, поехал домой отдохнуть.
В тени у сарая, постелив палас на траве, уютно расположились Танзиля и Шамсинур.
Ильмурза едва не задохнулся от негодования:
– Ах, бессовестные курицы! В такие дни, когда весь аул готовит новобранцев в поход, вы бездельничаете! А ты чего, старая, их распустила? – крикнул он вышедшей на крыльцо Сажиде и погрозил ей плетью.
Танзиля проворно умчалась, Сажи да ушла в летнюю кухню, а балованная Шамсинур потянулась и с отвращением взглянула на старого мужа:
– Ты чего разорался? Не заставишь же ты меня гнуть лук и точить стрелы? Или копья ковать? Если бы, к примеру, тебя или моего брата отправляли бы на войну, так я бы хлопотала!
Ильмурза так и взвился:
– Разве Кахым тебе чужой? А?
Услышав имя сына, из кухни выбежала Сажида, ломая руки, плача:
– И Кахыма отправят на войну?
– А чем же наш сын хуже других джигитов? Может, больной? Может, слабосильный?
– Единственный сын, таким полагается льгота. И к тому же учится.
– Мать, наш сын обязан быть в строю вместе со всеми башкирскими казаками! – убежденно, от души, произнес Ильмурза. – Что суждено джигитам на войне, то и он пройдет с честью.
В доме заголосила Сафия, прижимая к груди Мустафу, называя сынка сиротинкой, – впервые она вдруг отчетливо поняла, что муж ее – офицер, и ему полагается во время войны выполнить с доблестью свой военный долг. Нежно баюкая малыша, она вопила:
– О-о-о! Аллах, спаси отца моего первенца! Закрой в бою своей мантией моего Кахыма! О-о-о!
На Ильмурзу эти женские рыдания никак не действовали, от них старшина отмахнулся, как от комариного писка.
– Я воевал и отмечен за храбрость медалью и воинским чином! – гаркнул он, подбоченившись. – И мой сын не ударит лицом в грязь – прославит и семейство, и все башкирское казачество!
Теперь старшина не знал покоя с утра до вечера – обучал парней, осматривал придирчиво лошадей, безжалостно отмечая бракованных, проверял с наивозможной строгостью луки, копья и стрелы. И даже подумывал, а не отпроситься ли ему у князя Волконского и добровольно отправиться на войну? На что тот непременно ответит: «Ты свое отвоевал, тебя старшиной юрта поставили, значит, теперь твое дело – готовить к походу новобранцев!..» Да, если вдуматься, то какой из него вояка: и одышка замучила, и кости к непогоде ноют, и рыхлое брюхо к подбородку лезет…
…Через несколько дней к Ильмурзе заехал его помощник.
– Гонца встретил на тракте, скачет в кантон, говорит, что генерал-губернатор повелел открывать кузницы, ковать сабли, копья и пики для уходящих на войну полков.
– А где бумага с приказом? – спросил многоопытный старшина.
– На словах велел передать, – пожал плечами помощник.
Ильмурза задумался.
– После восстания Пугача и Салавата царским манифестом были запрещены все кузницы в башкирских аулах.
Да-а… Как же быть? Можно ли верить курьеру без письменного приказа?
– Кому же еще верить!
– Так-то оно так, но все-таки… Да и кузнецов, наверно, не осталось. А какие были мастера! Ковали булатные сабли, изготовляли ружья. Где ж кузнецов найдем?
Утром привезли письменный приказ губернатора. Нашли кузнеца. На окраине аула, временно – под навесом, сложили горн, и звучно ударил молот по наковальне.
Ильмурза облегченно перевел дыхание – новобранцы пойдут в башкирские полки с новеньким отменным оружием собственного изготовления.








