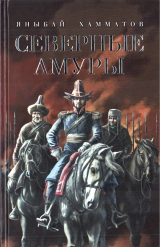
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
Дом Ильмурзы погрузился в тоскливую тишину.
Шаркает туфлями, ползает из горницы в горницу одряхлевшая в одночасье Сажи да, сутками не выходит из своей комнаты Сафия, молча лежит на нарах, глядит в потолок, словно читая на нем летопись своего скоротечного счастья и отныне бесконечного горя.
Мустафу оставили в Оренбурге, у вернувшегося с войны деда Бурангула.
Глава семейства внешне не изменил монотонного распорядка жизни: шел к намазу в мечеть, вершил свои служебные дела старшины юрта. Плелись к нему мулла и аксакалы, он принимал их почтительно, потчевал чаем и мясом, поддерживал учтивую беседу. Однако Ильмурза чувствовал, что треснул в нем становой хребет и возникло отвращение к мирским стремлениям. Вот разбогател, и праведно и неправедно, а Кахыма нет. Да он роздал бы все свое достояние, остался нищим и голым, просил подаяния на базарах, лишь бы Кахым вернулся живым.
Жизненный жребий джигита – роковой. Тень смерти витает над каждым уходящим на войну казаком, что башкирским, что русским. Ильмурза сам воевал и чудом уцелел в кровавой сече с янычарами. Если бы Кахым погиб в бою, то Ильмурзе было бы сейчас, наверное, легче. А в смерти уже после войны было что-то противоестественное, кощунственное, и его посетили подозрения: погубили, выходит, Кахыма черным способом. Но только кому он, собственно, перешел дорогу или причинил зло? Неведомо. Неужто оклеветали? И такое возможно. Нет, уж лучше не думать, не терзать душу мучительными раздумьями. Значит, надо терпеть, так повелел Аллах, к этому призывает в проповедях мулла. Воля Аллаха – непознаваема. Смирись, терпи, не ропщи, правоверный.
А у Сажиды и слез не осталось, сидит на нарах неподвижно, молчит, отсылает кухарку, служанок: «Делайте что хотите!..»
Девятнадцатилетняя вдова Сафия тоже как бы окаменела, но горе вдовье – скоротечное, с годами она утешится и выйдет вторично замуж – такая красотка! – Ильмурза ее не осудит.
А мать потеряла единственного сына навечно.
Как-то Ильмурзе долго не спалось, и он поднялся, накинул кожушок, вдел ноги в просторные сапоги с суконными голенищами и вышел из дома, не скрипнув дверью.
Аул спал. Луна, то выскальзывая из-за туч, то скрываясь, прорисовывала вершины горного хребта в отдалении. И у реки, и в урманах не слышалось ни шорохов, ни стука, ни голосов, ни перелива курая.
Как же это пели в Оренбурге джигиты Первого полка? Ильмурза с трудом припомнил:
У серого иноходца Кахым-турэ, вай,
Пути-дороги от Урала до Парижа.
Узнав о смерти Кахым-турэ, вай.
Мы все загоревали-затужили.
Ильмурза посидел на крыльце, надеясь, что перестанет ныть сердце, потянет в сон, он вернется в натопленную горницу и с облегчением взберется на нары.
Но капли времени падали безостановочно: кап-кап, как морось с крыши дома и сараев, а истома не проходила. Ильмурза зашаркал к воротам, отодвинул засов – собаки даже не зашевелились в конурах, издалека чуя хозяина, – и толкнул калитку.
Улица была укрыта лунными, по весне отбеленными холстами и сейчас, ночью, пустая, казалась безгранично широкой.
Ильмурза бездумно зашагал по улице – при ходьбе и дышится легче, и горе как будто не сосет сердце, словно пиявка. Как это говорил Кахым? «В каждом башкире таится и музыкант, и поэт». Справедливо сказано. На свадьбе Кахыма и Сафии, помнится, пели:
Сабля булатная, ножны серебряные, вай,
У джигита Кахыма на боку.
Сафия-килен в Самарканде рождена, вай,
Самаркандская роза благоуханна.
Кто сочинил? Буранбай? Возможно. А Буранбай – основательный человек, и умный, и с размахом. Аллахом благословенный певец!..
Ильмурза машинально шел и шел бы из аула, но его вдруг остановил, а затем и повернул к дому мелодичный перезвон медного колокольчика. Задорно заржал жеребенок, видно, отбившийся от матки. Значит, на отаве, на выпасах пасли конский табун.
«Лучше бы ангел смерти Газраил взял и унес мою душу, а не молодого сына Кахыма! Старику пора и честь знать, свое отжил, и работал, и воевал, и грешил, как говорится: сколько отпущено, столько и съел, и выпил. Старик в свой срок покинет белый свет, но жизнь народа не прервется, а будет течь своим чередом…»
У калитки своего дома Ильмурза увидел Сажиду в накинутой на плечи шубе, трясущуюся от озноба и страха, и ускорил шаги, побежал мелкими семенящими шажками.
– Эсэхе, ты чего? Зачем вышла?
Сажида упала ему на грудь и не зарыдала, не заплакала, а захныкала беззвучно:
– Тебя потеряла, атахы-ы-ы…
Волна жалости залила его сердце.
– Да что ты, старая? Куда я денусь? Не спалось, вот и вышел промяться, – терпеливо успокаивал он Сажиду. – Ты, эсэхе, поплачь, в голос покричи, оно и полегчает. Придется нам терпеть. Одни мы с тобой остались, совсем одни! Танзиля – отрезанный ломоть. Сафия тоже уйдет – молодая… И у Мустафы своя судьба. А мы с тобой, мать, будем вековать, пока не позовет к себе Аллах.
Он увел ее в дом, уложил, накрыл теплым одеялом и сидел на нарах рядом, пока не услышал ровного дыхания – согрелась, уснула.
Утром Сафия не вышла из своей комнаты, как и вчера, и позавчера. Ильмурза и Сажида сидели у самовара молчаливые, умиротворенные.
Вдруг на дворе залились собаки, загремели твердые быстрые шаги на крыльце, и в прихожей раздался бодрый голос Буранбая:
– Хозяева дома? Ассалямгалейкум, агай!
Ильмурза искренне обрадовался гостю – развеет скуку-тоску и его, и хозяйки Сажиды.
– Вагалейкумассалям! Проходи, кустым. Угодил прямо к самовару, выходит, пришел с добрыми чувствами.
Есаул снял кожаные калоши с ичигов, теплый кафтан, полы чекменя поднял и заткнул за пояс, сполоснул руки водой из кумгана, стоявшего у медного таза, и зашел в горницу, отвешивая поклоны хозяину и хозяйке.
Ильмурза пододвинул гостю подушку – располагайся удобнее, а Сажи да, улыбнувшись, пошла на кухню распорядиться, чтоб принесли кушанья поплотнее, погорячее.
– Начальник кантона, твой сват Бурангул-агай решил послать меня есаулом в аул Имэнлегул, да передумал и назначил есаулом к тебе, агай.
– Да ты, верно, шутишь, кустым? – вскинул бороденку Ильмурза.
– Вот приказ о переводе твоего есаула в Имэнлегул и о назначении меня на его место.
Ильмурзе новость была и внезапная, и по-своему неприятная: нелегко сработаться с горячим, порывистым Буранбаем, у которого на устах то песни о Салавате, то свободолюбивые речи.
Зато вернувшаяся Сажида, узнав о назначении, обрадовалась, так и засияла: закадычный друг ее незабвенного Кахыма будет рядом с ними.
– Спасибо свату за мудрое решение. Будешь опорой дедушки Мустафы. Тебе скакать то в Оренбург, то по аулам легче, чем моему старику.
Хозяин молчал, словно воды в рот набрал, но он заставил себя улыбнуться и произнести радушно:
– До сих пор мы с Буранбаем не ссорились, стало быть, и служить вместе будем разумно.
9Долго сидела Сафия взаперти, в добровольном заточении, горюя о погибшем муже. Допускала к себе лишь свекровь, и то редко. С Сажидой ей становилось легче – единое горе, неизбывное, непреходящее. Иногда они молчали часами, но и молчание вместе оказывалось целебным, словно они беззвучно утешали друг друга: такова воля Аллаха.
Сажида понимала, что молоденькая вдова не останется всю жизнь в доме свекра и свекрови. Найдет ли Сафия себе второго мужа или станет вековать вдовушкой, уедет ли на родину в Самарканд или переберется к отчиму в Оренбург, это уже дело второстепенное, но ясно, что в ауле ее жизнь завершается. И Мустафу у деда-бабки не оставит, а вскоре определит в школу, чтобы стал образованным, как его отец, и, вероятно, офицером, чтобы продолжить судьбу батыра Кахыма Ильмурзина.
Старуха страшилась представить, каково будет им, Ильмурзе и ей, вдвоем в большом, гулком от безлюдья доме.
Терзаясь этими размышлениями, Сажида-енгэй умоляла Сафию:
– Киленкэй, полно мучить и себя, и нас всех, иди на улицу, пойдем на реку, в лес, все же ветерок развеет хоть как-то твою тоску.
– Никуда не пойду, и дневной свет мне темнее ночи, твой сын унес мою молодость вместе с собой в могилу.
– О сыне подумай!
– Сын сам себе проторит дорогу в жизнь – умный, в отца.
«Если сын в отца выдался, а дочь – в мать, то обязательно не изведают счастья – такова народная примета, – думала Сажида. – Поэтому, наверное, и Мустафа так рано осиротел!»
А Сафия вспоминала веселую, шумную свадьбу. И с чего она, наивная, так беспечно радовалась замужеству? Считанные дни совместной жизни с Кахымом, зато годы разлуки, а теперь вот начались десятилетия вдовьего угасания светильника ее жизни.
«Да и было ли семейное счастье? Сон, скоротечный далекий сон…»
Вдруг она дико вскрикнула и метнулась, прильнула дрожа к груди свекрови:
– Ай-ай-ай!.. Спаси!
– Да что с тобою, милая?
– Могилу вижу. Могилу Кахыма. Комья глины. О-о-о!..
– Чудится это тебе, килен, от одиночества, от затворничества!.. – Сажида несколько раз подряд набожно произнесла «бисмилла», отплюнулась от нечистой силы. – На людях всегда легче, милая. Эдак и рехнуться недолго. Аллах, сохрани и помилуй! Нельзя так себя губить. Нет ничего мучительнее сердечных страданий. Выйдем на улицу, и отлетят черные кошмары.
– Никуда не пойду! – наотрез отказалась Сафия, легла на перину, уткнулась лицом в подушку. И не откликнулась на увещеванья свекрови.
Когда Сажида ушла, Сафия перевернулась на спину, подняла глаза к потолку и как бы прочитала, а может, припомнила и пробормотала песню «Ашказар»:
Любимый ушел на охоту
За соболями, на Ашказар.
Ушел на охоту и не вернулся,
Осталась я навеки одна.
Вскочив в седло, поводья взял,
А ружье ему в руки я сама подала.
И взглянул любимый на меня с тоской,
Словно навеки прощаясь…
Она снова как будто воочию увидела осыпающийся холмик земли и камень на могиле. Ум ее помрачился. Раньше Сафия не понимала таинства смерти, а теперь поняла: любому человеку суждено в свой срок исчезнуть с лица земли. Перед этим великим исходом все смертные равны: и цари, и полководцы, и пророки, и женщины-вдовы, значит, и Сафия. Но если это непреложно, то лучше поскорее уйти к Кахыму и познать вечное блаженство. Ей послышался голос Кахыма, он ждет ее, зовет к себе. И не надо откладывать эту встречу. Сафия закрыла глаза и вытянулась в сладостном томлении.
Аллах успокоит ее – так сказано в Коране. Но кто же читает над ее изголовьем Коран? Не Кахым же! Мулла!.. Да, Сафия взглянула: мулла Асфандияр в чалме сидел на нарах и монотонно бубнил суру Корана об успокоении усопших в райских кущах. Но это же грешно – входить в комнату молодой вдовы. Или святому хэзрэту и на посещение Сафии нет запрета? А-а-а, Сафия умерла, и мулла читает поминальную молитву. Избавилась, бедняжка, от душевных мучений.
Асфандияр захлопнул книгу и вышел, отплевываясь по сторонам – злых бесов отгоняя от Сафии, и тотчас Сажида ввела в горницу старушку в темных одеждах.
– Инэй, ты с того света? Тебя отец моего первенца Мустафы прислал за мной?
Старушка и Сажида многозначительно переглянулись, и свекровь, зажав себе ладонью рот, чтобы не вскрикнуть, выбежала, а старушка глубоко вздохнула и сказала ласково, без упрека:
– Милая, разве ты не узнала повивальную бабку твоего сына Мустафы? Я Самсикамар, Самсикамар-абей.
Сафия села на перине, свела круто брови и долго размышляла, затем резко качнула головою:
– Нет, не помню. Не знаю.
Сажи да вошла в комнату и зашептала:
– Ты сама велела пригласить Самсикамар-инэй.
– Не помню. И теперь мне все равно. Голова болит, – сказала Сафия и прилегла.
– Ты же знаешь, как ее лечить, поднять на ноги, – сказала Сажида. – Не первая, не последняя. На тебе, инэй, благодать божья. Скольких женщин ты исцелила!
Знахарка молча взяла медный кумган, ушла, дабы совершить омовение, а вернувшись, засучила рукава и зашептала заклинания, плевала в углы, на стены и под нары, отгоняя нечистую силу, приподняла пальцами веки Сафии, проницательно заглянула в ее опустошенные глаза.
– Все в руках Аллаха, а я всего лишь его благовестница. Ваша килен поправится.
– Внук отца лишился, инэй, пусть же Всевышний сохранит Мустафе любящую мать! – страстно упрашивала Сажида.
– А я о чем толкую!.. – Старуха обиделась. – Тело твоего Кахыма в чужой земле, а душа его вселилась в твою килен.
Сажида аж позеленела от ужаса, попятилась, отмахиваясь:
– Тэубэ, тэубэ, тэубэ!.. Кахым был всегда добрым человеком и набожным мусульманином.
– Так ведь и я об этом толкую! – Старуха обрызгала Сафию святой водицей из фляги, окропила ей лицо, смочила, расстегнув платье, грудь. – Душа башкирского батыра чиста, как облако на закатном небе. Твой сын Кахым-турэ в сонме праведников у Аллаха в раю, а отделившаяся от души частица, самая горестная, скорбная, сейчас и донимает твою невестку. Это от его любви к ней, а не со зла.
– Слава Аллаху! – возвела очи к потолку Сажида, слегка успокоившись.
– Твоя невестка ездила встречать под Оренбургом наших джигитов! – сказала знахарка.
– Да, вместе со мной.
– В каком платье она была в тот день?
Свекровь быстро полезла в сундук, обитый железными полосами, вытащила цветное из самаркандского шелка платье.
Старуха с отвращением вырвала платье из рук Сажиды, обтерла им вспотевшее лицо Сафии, ее грудь, подмышки, ноги, швырнула на пол, растоптала, бормоча заклинания, ногами, как ядовитую змею, а потом завернула в шаль Сафии.
– Вся горесть, тоска, все страдания твоей невестки впитались в это платье. Айда, айда, пошли! Здесь нам делать нечего! – властно скомандовала бабушка и быстро ушла из дома.
Сажида следила за нею от калитки.
Знахарка Самсикамар шла по улице, почти бежала, размахивая узелком, а на окраине, где была свалка мусора, бросила его в яму и засыпала землей, навозом, примяла сапожком, отплевываясь, бормоча ворожбу вперемешку с молитвами.
– О-о-о!.. Здесь твое место, зло! Отсюда не вырвешься! За мной не гонись!
Сажида так и застыла у ворот, продолжая наблюдать, как старушка совсем не со стариковской резвостью носилась по переулкам аула, чтобы запутать следы, а остановившись, отплевывалась, читала молитвы и проклятия злу.
Вернулась Самсикамар-абей в дом Ильмурзы уже в сумерках и спрашивает:
– Очнулась?
– Бредит! – ответила ей Сажида.
– Слава Аллаху, – очищает душу от последних злых бредней и небылиц, от дьявольских заблуждений!
А Сафия в темной горнице каталась по нарам, кричала, хохотала, рвала на себе одежду, звала то Кахыма, то Мустафу.
Ильмурза, махнув рукой на «этих взбалмошных женщин, которых полезнее было бы кнутом отстегать», ушел в мечеть, а затем к мулле Асфандияру, а Сажида со служанками тряслась в самом дальнем чулане, призывая Аллаха к милосердию. Лишь бабушка Самсикамар отправилась домой с сознанием исполненного долга и улеглась спать.
И Сафия понемногу пришла в себя, как в тот раз, перед родами Мустафы, и не дичилась, вышла из затворничества, ластилась и к старому Ильмурзе, и к свекрови.
Аксакалы единодушно говорили, что спасли ее молитвы муллы Асфандияра, а кумушки на всех перекрестках тараторили, что подняла ее на ноги мудрость и волшебная сила Самсикамар-абей.
Однако, вероятнее всего, девятнадцатилетнюю вдову исцелили ее молодые силы, жажда жизни и любовь к сыну.
Пробуждение Сафии от темного дурмана не принесло счастья в дом Ильмурзы и Сажиды. Еще острее почувствовав свое гнетущее одиночество, она отправилась в Оренбург к отчиму и сыну Мустафе.
– Пускай едет, пускай развлечется – все ж таки город, а она ведь совсем еще девочка. И с Мустафой поиграет, – солидно посоветовала Самсикамар-абей, щедро вознагражденная Ильмурзой и печеным, и вареным, и шалью, и полугодовалой телкой.
Ильмурзе вовсе не улыбалось остаться с Сажидой в пустом доме, но и принуждать Сафию стариться в ауле с ними, стариками, он не мог и, скрепя сердце, велел конюху запрягать лошадей.
Сафия обещала вернуться с Мустафой через недельку, а вернулась через месяц, причем одна, и едва вошла в дом, позвала к себе в горницу свекровь и сквозь слезы сказала:
– Кэйнэм, не вини, а пойми!.. Не могу жить в вашем доме. Ты уж согласись по-доброму, а не то убегу ночью, тайно. Уеду к себе на родину, в Самарканд.
Свекровь, похоже, ждала такого ее решения, потому что не заплакала, не вскрикнула испуганно перед полным одиночеством в старости, долго сидела на нарах с лихорадочным блеском в бесслезных, но исплаканных глазах, и наконец вздохнула:
– А зачем так далеко уезжать? Ты молодая, тебе жить и жить, я ведь не осуждаю. Уж если с нами невмоготу оставаться, живи у отчима Бурангула. Все ближе.
– Отрезанный ломоть! – обдуманно сказала Сафия. – В его доме своя жизнь, своя судьба.
– Неужто нам, старикам, не суждено хоть изредка видеться с внуком?
Сафия честно промолчала.
И старики, догадавшись, что их просьбы, мольбы, запреты бесполезны, смирились, поехали вместе с Сафией в город, чтобы проститься с Мустафой, и с опустошенными душами вернулись в свой деревенский дом, приготовились коротать в нем тягучее стариковское время в ожидании зова Аллаха.
10Шел 1816 год. Есаул юрта Буранбай исправно выполнял служебные обязанности, разъезжая по аулам, бывал и в соседних кантонах, и в Оренбурге – всюду неприглядная картина: крестьянские семьи не то чтобы голодали, но и досыта не наедались, мыкались в нужде, а катались как сыр в масле лишь купцы, барышники, муллы. Царь не выполнил своих обещаний вернуть башкирам былые земли и вольности. Да полноте! Разве кто-нибудь давал такое обещание? Может, это были одни пустые разговоры, домыслы?
Буранбай написал письмо с запросом генерал-губернатору Волконскому и в Петербург военному министру – никто не ответил. И он решил поехать в Верхнеуральск, посоветоваться с Петром Михайловичем Кудряшовым, с которым познакомился еще до войны.
Кудряшов встретил есаула с радостью, преподнес стихотворение, сочиненное им в честь башкирских джигитов – героев войны с Наполеоном:
Друзья, гордитесь: целый мир
Узнает, сколь могуч башкир!
В ответ Буранбай прочитал-пропел сложенную им песню:
И французов победили мы,
И в Париже побывали мы,
Казаки Урала!..
– Рад видеть тебя, победитель! – обнял гостя Кудряшов.
– Спасибо, Петр Михайлович, рахмат, – засиял Буранбай. – Да, вернулись невредимыми, слава Аллаху. Только нашего Кахым-турэ нет на божьем свете, вот горе.
– Я слышал об этом, – кивнул Кудряшов. – Большая потеря для башкирского войска, да, видимо, и для народа. Все отзываются о нем уважительно – и умен, и талантлив, и образован.
– Именно так, – помрачнел Буранбай. – Он далеко пошел бы и многое свершил бы… А я, Петр Михайлович, вам не помешал, не обеспокоил? – спохватился гость.
– Нет, чего там! Я ведь до сих пор не женат, а в двадцать четыре года пора бы свить семейное гнездо, – как бы оправдываясь, сказал Кудряшов. – Матушка ведет хозяйство, заботится обо мне, закоренелом холостяке… Да, кстати, слышал я, что ты, есаул, награжден за отвагу в боях именной саблей. Поздравляю!
– Рахмат!
Кабинет Кудряшова был большой, но казалось, что в нем не повернуться – вдоль стен высились набитые книгами шкафы, два стола – письменный и обычный, столовый, – тоже завалены книгами, газетами, журналами, папками с бумагами. И на полу лежали связки книг.
– Все читаешь?
– Да, читаю.
– И все пишешь?
– Пишу, – с застенчивой улыбкой промолвил Кудряшов, пощипывая русые усы. – Да еще служба в штабе казачьей бригады. Совсем дней не замечаю, жизни не вижу. Наверно, потому и не женился!
– А о чем вы пишете, Петр Михайлович? – Он называл Кудряшова то на «вы», то на «ты», но тот не замечал этого. – Сам-то я воевал, – пожал он плечами, – некогда мне было читать.
– Понимаю… Я занимаюсь преимущественно историей Башкирии, а также интересуюсь природой этих мест, народным творчеством, этнографией башкир, как, впрочем, и других народов, живущих в крае. Видишь, какой размах! Голова кругом идет! – посмеялся сам над собой хозяин. Сняв с полки толстую книгу в сером холщовом переплете, сказал: – Мои стихотворения. Здесь и поэма «Пугачев». За эти годы напечатал в петербургских журналах немало произведений: повести «Абдряш», «Искак», песни «Прощанье башкира с милой», «К башкирской девушке», «Абдрахман», «Военные игры башкир» и другие.
Буранбаю стало стыдно: два года после войны прошло, два! Мог бы, кажется, выкроить время, приехать к этому бескорыстному другу башкир. И кому-кому, а именно Буранбаю следовало бы давно ознакомиться с творчеством Петра Михайловича.
Неслышно вошла в мягких туфлях невысокая женщина с добрым лицом; на плечах – оренбургская шаль, на шее – золотой крестик.
Есаул вскочил, щелкнул каблуками, поклонился.
– Здравствуйте, голубчик, – сердечно улыбнулась хозяйка. – Петенька, неси с кухни самовар и зови гостя к столу.
– Спасибо, маменька.
Кудряшов провел Буранбая в узкую, как коридор, столовую, усадил за стол; в тарелках – масло, сыр, ломти холодного мяса, а сам мигом принес бьющий парком медный самоварчик, лихо стукнул ножками о поднос.
Мать, сославшись на дела, сразу же ушла, не желая, по-видимому, мешать беседе. И верно, это помогло Буранбаю без промедления излить перед хозяином душу: пожаловаться на бесправное, бедственное положение башкирского крестьянства.
– Я письма посылал. И Волконскому, и министру. Никакого толка, – с бесшабашным отчаянием сказал он. – А сидеть сложа руки не могу.
– Агай, я вполне понимаю твои огорчения, – подумав, откликнулся Кудряшов. – Кстати, ты же сам видел в годы войны русские, белорусские, польские деревни – разве там мужики с семьями лучше живут? У вас хоть крепостного права нет. «Государственные мужики». Казаки. А крепостных ведь, точно лошадей или коров, с торгов продают. И обидно, что пока нельзя ничего сделать для ощутимого улучшения жизни народа.
– Терпеть?! – Гневные искры засверкали в слегка раскосых глазах Буранбая, он рывком вскочил со стула. – Война вконец обчистила башкирские аулы. Отдавали последнее добро. А зачем? Верили, что после войны наступит послабление, придут долгожданные перемены. А царь ответил злом на добро… Я вот тебе, Петр Михайлович, говорю открыто: терпению придет конец. Одно из двух: мучиться, прозябать или бунтовать. Я – за бунт! – Он воинственно поднял правую руку, словно вскинул знамя восстания.
Кудряшов невозмутимо его остановил: его гость говорил без раздумья, значит, все давно выносил-выстрадал в груди:
– Прольется кровь. Не забывай, агай, что Салават привел башкирских всадников к уже сражавшейся против царицы армии Пугачева. Но сейчас и уральские, и донские казаки осыпаны милостями царя Александра, богатеют. Торопиться нельзя. Агай, я моложе тебя, но предупреждаю: твоя порывистость нанесет урон, беду твоему народу.
Надо спокойно объединяться тайно против бесправия с просвещенными русскими, а ведь их немало и в армии, и среди чиновников.
– Да? – с недоверием спросил есаул.
– Я знаю, о чем говорю. Дворянская молодежь, прошедшая войну, видит, как страдает весь народ, весь!.. И жаждет освобождения. Идеалы Великой французской революции, беспощадно растоптанные узурпатором Наполеоном, не забыты. А ведь был Радищев с его бессмертной книгой «Путешествие из Петербурга в Москву». Царица Екатерина не случайно же сказала, что он бунтовщик почище Пугачева!
И опять Буранбай буркнул, опустив глаза:
– Не читал.
– И немудрено, книга запрещенная. Но ты не сердись, агай, а читать надо больше, – мягко сказал Кудряшов. – Русским языком ты владеешь свободно, вот и читай беспрерывно. Видишь, я живу в захолустье, а выписываю и журналы, и газеты из столицы. Страшно мешает безграмотность и башкирам, и татарам, и чувашам, да и нашим русским мужикам. Я же говорю тебе, агай, революционная книга испугала царицу куда сильнее, чем весть о Пугачеве… Крепостное право – вот наиглавнейшее зло. А военные поселения генерала Аракчеева – это же позор! Мужики переведены на военное положение, ими на полях командуют офицеры.
– Ну у нас тоже не лучше: кантонные кордоны, непрерывные военные поборы!
– А в военных поселениях семилетних мальчишек гоняют строем под надзором унтер-офицеров на полевые работы.
– Выходит, пора подымать народ на восстание!
– А кто ж возглавит бунт? Ты, что ли, агай?
– Нет, это мне не с руки, – честно, без колебаний, признался Буранбай. – Какой из меня вожак… Вот Кахым бы справился. Он был прирожденный турэ. За ним бы пошли, – уверенно произнес он, но тут же нахмурился и, понизив голос, добавил: – Знаешь, Петр Михайлович, сдается мне, что его отравили, чтобы обезглавить нас, башкир.
«Слава богу, что маменька-то ушла», – подумал Кудряшов и строго спросил:
– У тебя есть доказательства? Поймал за руку отравителя? Нет? Ну и молчи. Нельзя так, походя, кидаться обвинениями. И кроме того, Кахыма из могилы не поднимешь.
Буранбай задумался было и вдруг резко вскинул голову:
– А разве среди русских не появится такой предводитель восстания, как Пугачев? – И сам себе ответил: – Думаю, найдется. А за таким великим бунтарем пойдут и сподвижники, равные Салавату и Кинье. Русские и башкиры славно громили французов. Если они поднимутся вместе против угнетателей, то добьются. Народу опостылела нищенская бесправная жизнь. – Он пристально вгляделся в белое лицо Кудряшова: – Петр Михайлович, а ты примкнешь к восстанию, если вспыхнет?
– Да куда уж мне, я человек книжный, – вздохнув, развел руками Кудряшов.
– Но ты ведь знаешь много языков: башкирский, татарский, киргизский, казахский. Уважаешь наши заволжские народы, глубоко проник в их историю. Пойми, ты принесешь огромную пользу борьбе за освобождение. Надо только стронуть народ с места! Это как подтолкнуть первую льдину, и грянет всесокрушающий ледоход!.. – с упоением выкрикивал Буранбай. – Или представь: сорвался со скалы камень, и покатилась, понеслась вниз могучая лавина!..
Кудряшов молча поднялся с табуретки, поплотнее прикрыл дверь из столовой на кухню, постоял, прислонившись к косяку, прищурив голубые добрые глаза, затем медленно произнес:
– Я благодарен тебе за откровенность, за честность, но заявляю прямо: с тобой на бунт не пойду.
– Но почему? Почему? – Буранбай был искренне убежден, что все честные люди, а именно таким он и почитал Петра Михайловича, незамедлительно схватятся за оружие, едва раздастся сигнал.
– Видишь ли, агай, я основательно изучил историю Башкирии. С тысяча семьсот тридцать четвертого года, когда обер-секретарь сената Иван Кириллович Кирилов возглавил экспедицию по освоению Оренбургского края, башкиры примерно семьдесят раз восставали. Самые устрашающие из них – бунты Алдар-Кусима, Батырши, Карасакала, Пугачева и Салавата, Киньи. И все восстания были потоплены в крови. Казни, ссылки. Народ от бунтов страдал еще ужаснее, чем в годы сравнительно мирного существования. Вот отчего я и не поддерживаю тебя в жажде немедленного восстания.
– Значит, покорно жить в рабстве, в мучениях?
Кудряшов повел плечом:
– Грамотность надо насаждать. Школы открывать.
– И тогда крепостное право и царская власть падут сами собой?
– Ну зачем же так… преувеличивать? Жизнь народа неизбежно изменится к лучшему.
Когда? – наседал на него гость.
– Ну, этого я не знаю… Со временем! Найдутся умные, образованные, смелые люди, которым народ вручит свою судьбу.
– Кто они? И где они?
– Со временем узнаешь. А пока не распускай язык, не кричи где попало и не откровенничай с кем попало. До добра это не доведет.
«Мудрено понять этого парня. И чего он темнит, таится? Странные у него рассуждения…»
Есаул встал и попрощался.
Петр Михайлович не удерживал его.








