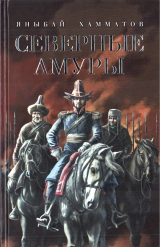
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
– Пойдете в другие башкирские полки с инспекцией, передадите им опыт полка Лачина – Буранбая. Фельдмаршалу читать все донесение некогда, ему напишите выводы коротко, на страничку. Зимою партизанить ведь станут не только платовские и башкирские казаки, но и гусары, драгуны.
Через несколько дней, покончив с докладными, с большой и малой, отдохнув, Кахым поехал в дальние башкирские полки.
9У Янтурэ день ото дня учащались раздоры с женой Сахибой. Он то умолял, то увещевал, то бранился, топая ногами, – ничего не помогало: Сахиба оставалась непреклонной.
– Пойду с тобою в разъезд, – твердила она, – не хочу оставаться здесь без тебя.
– Останься, женушка, потерпи. Глядишь, война скоро окончится.
– Нет, атахы, ни на шаг от тебя не отстану. Что суждено, то и сбудется. Погибнем вместе, и в рай Аллах возьмет неразделенно.
– Да ты рехнулась, эсэхе! – сердился Янтурэ. – Ты же понесла.
– А как же в старину башкирские всадницы рожали в седле, обмывали новорожденного в степном ручье, заворачивали в палас и ехали верхом дальше?
– Так то в старину!..
– А я не слабее их!
И когда джигиты собрались у штаба, рядом с Янтурэ горделиво восседала в седле Сахиба. На Янтурэ поверх кольчуги чекмень, сапоги с суконными голенищами, белая остроконечная шапка, на боку колчан со стрелами, к поясу подвешена сабля. Задорная Сахиба в суконном камзоле, шапка лисья, огненно-рыжая, через плечо переброшен лук и перевязь колчана.
В дальний разъезд Янтурэ взял пятерых джигитов на резвых лошадях.
Всадники, увидев Сахибу, заулыбались в усы, но подсмеиваться над отважной батыршей не рискнули – уважали Янтурэ за справедливость, и, в конце концов, это его личное дело, брать или не брать с собой жену в пикет.
Янтурэ велел джигитам не переговариваться и зорче посматривать по сторонам, а сам поскакал впереди, за ним трусила на смирной кобыле Сахиба. Тропа в лесу была извилистая, но торная – копыта мерно стучали по мерзлой земле.
Справа открылась полянка, светлая, тихая, но вдруг Янтурэ вздрогнул: из зарослей выбежал высокий статный жеребец, заседланный, с оборванным поводом. Сердце закоренелого лошадника Янтурэ дрогнуло, а конь, охорашиваясь: «Вон я каков!», фыркнул, огляделся и остановился словно вкопанный.
– Ждите здесь! – крикнул Янтурэ своим, спрыгнул с седла, пошел к коню, широко раскинув руки, зазывно чмокая губами.
«Седло, кажись, русского фасона, но не казацкое, возможно, гусарское. Неужели французы подстрелили всадника, повели в поводу коня, а он вырвался и ускакал? Значит, неприятель близко, на тракте…»
Жеребец сделал шаг-другой к Янтурэ, но вздрогнул всей кожей, шарахнулся и побежал прочь. Янтурэ, будто опьяненный его красою и статью, уже ни о чем не думал, а быстро пошел за ним, ласково уговаривая:
– Да подожди, глупый, подожди, куда ты?
Сперва Янтурэ увидел, как жеребец метнулся в кусты, и лишь после услышал гулкий выстрел, пуля протянула над самой его головой звонкую струну. Через минуту послышались в лесу хриплые, грубые крики, и Янтурэ скорее кожей напрягшегося тела, чем ушами разобрал, что это на него скачут конные французы.
Он побежал что есть мочи к тропе, оцарапал ветками кустарника лицо и руки, задыхаясь, закричал:
– Эге-ге-ей! Тревога! К бою!
И что-то тяжелое, с хрустом, ударило по голове, он захрипел, из горла хлынула кровь, и Янтурэ упал в черную глубокую яму забвения.
Очнулся он не скоро, от нестерпимой боли череп буквально раскалывался, перед глазами плясали багровые пятна. С трудом поднявшись, он увидел разбросанные по поляне трупы французских драгун, услышал стоны своих джигитов.
«А где жена?..» Но Сахибы нигде не было. «Ведь предупреждал, умолял, не послушалась, вот и захватили в плен!»
Спешившиеся драгуны собирали трупы своих, беспощадно добили трех стонущих джигитов, а двух, видимо, контуженых или оцарапанных в рубке, подняли пинками, связали и повели к дороге. До Янтурэ они еще не дошли, а если 6 заметили, то ясно, что не пощадили бы.
«Сколько ж было французов? Да, пожалуй, полусотня. Мои храбрецы славно рубились, но ведь их было всего пятеро… Сахиба, милая, жива ли ты?..»
С большой дороги громово донеслось «ура», и земля задрожала от мерного рокота скачущей, со свистом, с улюлюканьем, казачьей лавы.
Впереди скакала с развевающимися по ветру косами, выбившимися из-под шапки, женщина с искаженным от горя и ожесточения лицом.
Но Янтурэ этого не видел – через день-другой то ли увидел во сне, то ли представил по рассказу Сахибы.
Атака сотни платовских казаков была стремительной, всесокрушающей, уцелевшие от стрел и сабель джигитов французы и не думали сопротивляться: те, кто побойчее, бросились наутек, но казаки их мигом догнали и пронзили пиками, а благоразумные вскинули руки и сдались на милость победителей.
Сахиба наткнулась на лежавшего навзничь Янтурэ и зарыдала, ломая руки:
– Атахы, не умирай! Атахы!
Янтурэ открыл глаза и сказал слабым, но странно спокойным голосом:
– А с чего мне умирать? Ты-то жива ли, бисэкэй?
И опять потерял сознание, не откликался на голос, на слезы Сахибы.
Казаки снимали с убитых французов оружие, стаскивали их в овраг, чтобы зарыть позднее: похоронить врага – долг чести. Трех убитых джигитов они закопали отдельно, в стороне, и сделали на дереве метку: позднее мулла Карагош приехал и свершил поминальный обряд… Казаки догнали и спасли уведенных в плен двух джигитов.
– И чего ты убиваешься? – укорил Сахибу казачий офицер, плотный, в черном полушубке. – Слышишь, стонет? Значит, оклемается…
Но Сахиба плакала, как маленькая девочка, с придыханием, со всхлипами, со стонами, осыпала лицо мужа поцелуями, баюкала и лелеяла, положив голову Янтурэ на седло.
– Ну баба, герой-баба! – восхищались казаки, глядя на Сахибу.
– Прискакала к нам, говорит: французы, и сама повела сотню за собой в атаку!
– Не зря, выходит, башкиры везут на войну жен!
Офицер велел сделать носилки, привязать их между двумя лошадьми. И Янтурэ поплыл в люльке, плавно покачиваясь, иногда с усилием приподнимая веки, видел серое низкое небо, а затем опять погружался в блаженный сон: жив… и Сахиба жива… И ребенок жив…
Сзади шагали без привязи два коня, Янтурэ и приблудный, из-за которого и загорелся сыр-бор.
…Через неделю командир корпуса князь Кудашев приехал в полк и перед строем вручил Сахибе медаль за отвагу.[42]42
Награждение башкирки боевой медалью в войне 1812 года засвидетельствовано В. Зефировым в «Рассказах башкирца Джантюри» в середине XIX века.
[Закрыть]
Кахым возвращался из партизанского отряда Сеславина, где был два дня по поручению Коновницына. Его сопровождали девять казаков – Сеславин настоял на усилении конвоя: леса так и кишели французскими фуражирами, которых голод гнал на отчаянные поиски продовольствия и кормов для дохнувших лошадей.
Он испытывал блаженную усталость после бурного боевого дня, инспекция уже закончилась, необходимые материалы собраны, и он уже готовился попрощаться с Сеславиным, как примчались разведчики и сообщили, что по тракту движется большая колонна неприятеля: кавалерия, батальон пехоты, батарея легких пушек.
– Видите? Я же вам говорил! – воскликнул Александр Никитич. – Наполеон вынужден посылать за продовольствием не только мелкие отряды, но и крупные силы. Костлявая рука голода сжимает горло французам. – И крикнул горнистам: – Трубить сбор!
Через минуту лесной лагерь заклокотал ржанием коней, звяканьем уздечек и стремян, властными покрикиваниями вахмистров.
Кахым упросил Сеславина взять его с собою в дело.
Александр Никитич Сеславин был артиллеристом, окончил военное училище, служил в гвардии, за героизм и отвагу в Бородинской битве был награжден орденом Георгия, но военный талант его раскрылся с исключительным блеском в партизанской борьбе. После падения Москвы, когда наступило как бы временное затишье и артиллерия безмолвствовала, он создал из своих батарейцев, из казаков, из кавалеристов партизанский отряд и начал изматывать, громить, уничтожать французов со смелостью беспредельной, с тактической хитростью, с изворотливостью в маневре. К нему тянулись добровольцы из кавалерийских и казачьих полков, хотя он был командиром строгим, беспощадно требовательным, но как же радовались партизаны, получив от отца командира доброе слово благодарности!..
Именно Сеславин первым обнаружил, что армия Наполеона покинула Москву и движется к Малоярославцу.
Сейчас он быстро прикинул: надо отсечь батарею от пехоты, а кавалерию атаковать с ходу, из засады, пока еще она не развернулась. Младшие офицеры и вахмистры понимали Сеславина с полуслова, с намека.
Кавалерийскую атаку он возглавил сам, и с ним пошел в бой Кахым – унизительно было бы джигиту отсиживаться в лагере, когда рядом кипит кровавый бой.
На полном разбеге коней партизаны вырвались из леса и врубились в ряды мерно трусивших по дороге на исхудавших лошадях французских драгун. Безмолвие рубки изредка нарушалось предсмертными стонами, ржанием мечущихся без всадников лошадей. Задние ряды французских кавалеристов, не слушая команды, повернули и поскакали назад, смяли пехотинцев.
Кахым яростно рубил саблей, проверяя и свою выучку рукопашного боя, и смелость.
Тем временем партизаны искромсали лихо, стремительно батарейную прислугу, отбили пушки.
Но пехота устояла – ощетинившись штыками, сомкнув ряды, французы мерно, в порыве злого отчаяния, замаршировали по дороге.
– Нет, легкая кавалерия их не осилит! – сказал Сеславин и велел трубить сбор. – Кавалерию мы изрубили, а пехота уплелась без провизии. Пусть щелкают зубами, как голодные волки! А вы, ваше благородие, славно работали саблей, – похвалил он гостя.
Кахым вспыхнул от радости: Сеславин был скуп на похвалы, это все в армии знали.
– Знал бы, лук и стрелы с собою захватил, – сказал он. – У башкирского казака своя сноровка – на карьере вонзить одну-две метких стрелы, а затем крошить врага булатом!
Сеславин, собрав отряд, отправив раненых партизан в Тарутинский лагерь, сразу же перекочевал на новое место. «Незыблемое правило партизанской войны – не оседать в постоянном лагере, непрерывно менять место расквартирования», – объяснил он Кахыму, и тот отметил это в памяти, чтобы доложить Коновницыну – опыт пригодится и башкирским полкам, и другим партизанским отрядам.
К Сеславину подъезжали изможденные, с потными от боевой страды, но сияющими лицами офицеры и вахмистры, докладывали о трофеях, о числе убитых французов.
Кахым знал, что партизаны Сеславина пленных не брали. Положим, французы их тоже в плен не брали. «Око за око, зуб за зуб! – всегда внушал подчиненным Сеславин. – Прикиньте, сколько городов, деревень сожгли эти наполеоновские орды, скольких детей осиротили!»
За ужином в небольшой деревушке, затерявшейся в лесной чаще, Сеславин с упоением рассказывал Кахыму о командирах партизанских отрядов Дорохове и Фигнере:
– Я-то что – из середняков.
«Мне бы стать таким середняком на войне», – подумал Кахым.
– Но Дорохов, Дорохов! У-у-у!.. – Александр Никитич аж зажмурился: – Нет такого подвига, на который бы он не рискнул. И все удавалось! Завороженный! Ни пуля, ни клинок не берут… А Фигнер?! Беннигсен его недолюбливает за непочтительность. Да и кого, собственно, их превосходительство жалует? – ядовито спросил Сеславин. – Хе-хе! Шаркунов, блюдолизов! Холуев!.. Фигнер – талантливый разведчик. В мундире французского офицера он едет в лагерь противника, чувствует себя там как рыба в воде, со всеми мил, приветлив, но все запомнил, намотал на ус. Драгоценные разведывательные данные.
– Я обязательно передам ваши отзывы о Дорохове и Фигнере, Александр Никитич, Коновницыну. Но добавлю, – Кахым с удовольствием рассмеялся, – добавлю, что вы никакой не середняк, а выдающийся мастер партизанского боя.
– Ну-ну, не преувеличивайте! И скажите генералу Коновницыну, разумеется, секретно, что мы – значит, я, Дорохов и Фигнер – объединяем свои отряды, чтобы в ближайшее время напасть на лагерь корпуса генерала Орнано.
Писарь принес боевое донесение, Сеславин проглядел его, с удовольствием усмехнулся в пушистые лихие, истинно гусарские усы, прочитал вслух:
– «Уничтожено двести восемьдесят пять французов. Среди них одиннадцать младших офицеров и два полковника. У меня потери сравнительно небольшие, сорок человек, из них убитых двенадцать, остальные раненые». Баланс, как видите, в нашу пользу. Передайте донесение генералу Коновницыну.
– Обязательно, Александр Никитич, – сказал Кахым, спрятал бумагу в сумку и поднялся.
– А зря вы собрались на ночь глядя, – заметил Сеславин. – Мало ли что…
– Нет, Александр Никитич, не уговаривайте, надо торопиться.
В сумеречном лесу было неправдоподобно тихо, и уже не верилось, что днем неподалеку кипела сеча, сбивались грудью кони с безумно-багровыми глазами, кусали в ярости и друг друга, и французских кавалеристов, дробили копытами упавших с седла, казаки и конники Сеславина разваливали напополам клинком, от плеч до бедра, всадников неприятеля, прокалывали пиками; крики, стоны, ругань и по-русски, и по-французски гремели зычно, сливаясь в зловещий гул.
Кахым, задумавшись, не понукал коня и мурлыкал под нос песенку, то ли сложенную только что, то ли припомнившуюся:
Урал-гора, Урал-тау,
Родимая сторонушка,
Разлучили меня с домом
Ненавистные французы.
Эзум-гора, Эзум-тау,
Синеглавая вершина.
Живы ли, здоровы ли родные,
Сам-то я жив-здоров.
Заболоченные низины клубились густыми испарениями, ветер засвистел в костлявых сучьях деревьев. Неприветливо, зябко в лесу.
– Да не сбились ли мы с дороги? – обернулся Кахым к старшему казаку.
– Какая же это дорога! – с привычной беспечностью ответил тот. – Дорога, ваше благородие, правее версты две, а мы наугад едем.
– Почему?
– Безопаснее.
Но спокойствие партизана продолжалось всего мгновение – выехали на рысях на поляну и наскочили на французов, строившихся в ряды, – драгуны выравнивали лошадей, высоких, но тощих, офицер командовал срывающимся простуженным голосом.
«Их никак не меньше полусотни, – сказал себе Кахым, оглянувшись, – а у меня девять, я десятый».
И казаки, и французы сперва внимательно разглядывали друг друга, даже не вынимая клинков.
«Успеем ли вернуться, нырнуть в чащу?..»
Но неприятельский офицер, заваливаясь назад, вонзил шпоры в бока своего коня, вздрогнувшего от неожиданной боли, и лающим криком словно подстегнул драгун, и те, обученные славно, развернулись, полетели в безмолвной, но от этого еще более роковой лаве на Кахыма и казаков.
«Как Аллах пожелает, так и сбудется».
– Ребята, прорываться! Только вперед! Задержимся – сомнут! – с молодым задором крикнул Кахым, и мерный рокот копыт мчавшейся на них лавы французов, к счастью, не заглушил его команды.
Французы были крепко обучены, закалены боями, но у казаков хватка была покруче. Драгуны чувствовали себя уверенно в строю, и справа и слева – свои, а казак был рожден для одиночного боя, на низкорослой, но выносливой лошади он кидался очертя голову на врагов, свистел так пронзительно, что у французов кровь стыла в жилах, а сердце колотилось с перебоями.
Десять всадников прорвали строй неприятеля, успев нанести и колющие, и рубящие удары саблями. Драгуны не ждали такой дерзости и слегка расступились, но эта сумасшедшая дерзость как раз и спасла Кахыма и казаков. Степные казачьи лошади распластались, словно вытянулись на полголовы, и пронырнули между массивными неуклюжими конями французов.
Офицер в диком исступлении заставил своих драгун повернуться, колошматил палашом плашмя по спинам и плечам, подгонял бранью и угрозами расстрела.
Кахым, полуоборотясь, следил, как драгуны, выгнувшись подковой, догоняли и окружали его и конвойных. Конь Кахыма, фыркая, расшвыривая пену, скакал медленнее – за весь день не отдыхал, из боя в бой. «Нет, не догонят!» – сказал себе Кахым, но вдруг перед ним темной расщелиной открылся глубокий ров. И поводьями, и шпорами, и коленями Кахым послал иноходца в прыжок: «Либо расшибусь, либо спасусь!..» – и конь перемахнул ров, но зацепил задними ногами за каменистый край обрыва и покатился по снегу, придавив всадника.
Кахым с налета ударился о мерзлую землю и потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что сидит у дерева в расстегнутом мундире, денщик усердно растирает снегом ему лицо, грудь.
– Ваше благородие, испейте! – Казак поднес к его губам флягу, Кахым глотнул жгуче холодной водки, такой крепкой, что дух захватило, но в глазах все прояснилось.
– Наша кизлярка!
– Ух сильна! Ну спасибо! – говорил Кахым медленно, с трудом выговаривая ставшие какими-то черствыми слова. – А все наши вырвались?
– Егорка в ров скатился, лошадь ногу сломала. Придется пристрелить. А Егорку вытаскивают. Да еще Сидорову саблей кисть левой руки отсекли.
– Все ж живой!..
– Знамо дело, ваше благородие, и без руки мужик не пропадет, слава богу. Ну царапины и ссадины не считали. Главное, уцелели!
…Конвойные благополучно проводили Кахыма до Тарутинского лагеря. Там их по распоряжению Коновницына накормили, по чарке поднесли, и лошадям овса насыпали.
О ночной стычке Кахым, естественно, не обмолвился, но, видимо, казаки не утерпели, вернувшись в партизанский отряд, рассказали, во всяком случае через неделю Коновницын, добродушно смеясь, сообщил Кахыму, что Александр Никитич Сеславин простить себе не может, что отпустил гостя без полусотни конвоя.
– Так ведь ничего не случилось, – простодушно молвил Кахым, – так, мелочь.
11Майор Лачин ежедневно высылал разъезды для перехвата и уничтожения шаек французских фуражиров, бродивших по окрестным деревням и нещадно грабивших крестьян.
Однажды отряд джигитов повел Буранбай не только для разгрома мародеров, но и для глубокой разведки. Из деревни Саве ловки французов выбили без труда, смелым налетом, вырубили их вчистую в поле и на дороге. Буранбай велел собирать трофеи, гнать в деревню, вернуть мужикам угнанный фуражирами скот, а сам поехал в Савеловку: надо бы выбрать дома попросторнее, чтобы перевести туда на постой две сотни полка. Князь Кудашев приказал постепенно, осмотрительно продвигаться полку вперед, занимать удобные позиции, пока, до срока решительного наступления, выдавливать французов подальше от Тарутинского лагеря.
В Савеловке с сотнями хотел находиться и Буранбай.
На повороте к речке он остановил коня, прислушался: «Почудилось или вправду кричат?» Дверь соседней избы распахнулась, на крыльцо выбежала девушка с растрепанными волосами, за нею гнался, гремя сапогами, французский офицер.
Но соседи либо забились в погреба и сараи от мародеров, либо убежали в лес.
Мигом Буранбай успокоил обезумевшего негодяя, успокоил навсегда.
Девушка рыдала, ее колотила мелкая дрожь, напрасно успокаивал ее Буранбай, проводив в дом.
– Да как тебя зовут?
– Таня.
Наконец Татьяна поверила, что спасена, рассказала, всхлипывая, что, пока в деревне и за огородами шла схватка джигитов с французами, прятались в бане, а мать с маленьким братиком убежала к родне за реку. Тишина обманула Таню – она беспечно прошла в избу, и вдруг дверца подпола подалась, вылез «нехристь» весь в пыли и паутине, значит, там прятался, а тут выполз и осмелел, накинулся на нее.
– Ах, Таня, Таня, – упрекнул ее, как маленькую девочку, качая головой, Буранбай, – и не осмотрелась, не подождала… Аллах меня послал, а быть бы беде.
– Ну откуда я знала, что он в подполе?! – И снова Таня залилась в три ручья. – Ваше благородие, не уезжайте, не бросайте! – Она судорожно вцепилась в кафтан Буранбая.
– Теперь тебе, Таня, бояться некого и нечего, – ласково уговаривал ее старшина, – мы здесь останемся гарнизоном, я тебе в дом поселю двух смирных джигитов.
Девушка услышала незнакомое слово, и ее снова забило:
– А они… православные?
– Ах, Таня, Таня! – Буранбаю хотелось и посмеяться, и заплакать, сколько горя принесли на русскую землю наполеоновские орды. – Да какие же они православные? Башкирские казаки.
– Значит, «нехристи»? – И Таня рухнула с воплем лицом в подушку.
– Ладно, Таня, я сам в вашей избе остановлюсь. Мне-то ты веришь?
Еще б не верить ему, ее спасителю! И Таня посмотрела на него застенчиво и кротко.
С того дня Буранбай неузнаваемо изменился: дела делами, разъезды, караулы, полевые заставы, провиант, и на это все уходили силы, время, но в сердце запала светловолосая девушка, которую он так счастливо вызволил из беды.
– Не предзнаменование ли это божье? Ах, Таня, Таня, – растроганно бормотал войсковой старшина.
Выпадет вечерком свободная минутка, и он беседует с девушкой, а то и наигрывает ей на курае, напевает песенку:
Выйди, милая, к роднику,
Скажи заветное слово.
Не горюй, что уезжаю,
Разгромим врага – вернусь.
Заплети золотую косу,
Пошли благословенье вослед.
Останешься, ах, милая, в деревне,
Сплети пуховый шарф
Молочно-белыми рученьками.
Вернусь – мне подаришь.
Заплети золотую косу,
Пошли благословенье вослед.
Уехал я, ах, милая, на войну,
Далеко-далеко от Урала.
Железо гнется, честь джигита не сломится,
Вернусь с победой к тебе.
Заплети золотую косу,
Встречай у околицы.
– Слов не понимаю, – жалобно сказала Таня, – а напев душевный.
– Сейчас я тебе, Таня, по-русски скажу. – И, с трудом подбирая русские слова, Буранбай перевел песню. По военным делам он свободно изъяснялся с русскими офицерами, но о любви попытался объясниться по-русски впервые в жизни.
Через неделю-другую постоялец спросил хозяйку, казалось бы, случайно, но на самом деле обдуманно и взволнованно:
– Таня, тебе хорошо со мной?
– Очень хорошо! – не задумываясь, сказала Таня.
– А если хорошо, так выходи за меня замуж.
Буранбай никогда не предполагал, что так трудно будет ему вымолвить такие роковые слова. До чего же легко было слагать песни о чужой любви и, оказывается, как мучительно признаться в своей, – сердце гудело колоколом.
Девушку словно опахнуло пламенем из печи – вся зарумянилась, засияла от счастья, но тотчас испугалась:
– Как же я за тебя пойду? Я православная, а ты…
«Нехристь», – усмехнулся Буранбай.
Усмехаться-то он усмехнулся, но совсем невесело, до сих пор и не задумывался, что он и Таня разной веры.
– Ну, башкир… конечно, вы свои… – запнулась Таня.
– Свои, а нечестивые… – подхватил Буранбай.
– Ну, конечно, ты человек надежный…
– Так о чем же говорить?
– А я и говорю, крестись в христианскую веру, обвенчаемся и заживем в совете да любви.
– Джигиты мне не простят, если крещусь. Лучше ты переходи в мусульманство.
– Хы! Меня мать проклянет. После войны ты останься в нашем крае. В Москве, да и в Туле сколько крещеных немцев!
– То немцы… Урал без меня не пошатнется, но я без Урала прожить не смогу, – твердо сказал Буранбай.
– Значит, ты меня не любишь!
– Люблю! Сильно люблю, но и Урал люблю. Что теперь делать? Поедем со мною без свадьбы.
– Меня мать проклянет и от позора руки на себя наложит.
– У нас в полку много жен джигитов.
– Они законные, а я кем буду? Гулящей?! – Таня обиделась, отвернулась, смахнула жгучую слезинку с ресниц.
Пришлось Буранбаю обнять, целовать, пылко уверять, что любит, жалеет, уважает, дорожит ею, и постепенно Таня повеселела, заулыбалась. Договорились, что после войны Буранбай приедет в Савеловку.
А Салима? Салиму в эти дни Буранбай забыл и забыл, как ему казалось, навсегда, бесповоротно. Сердце его заполонила золотоволосая русская девушка. Ею любовался, о ней мечтал в седле на марше, ей слагал любовные песни.
– Приеду в Савеловку, тогда что-нибудь придумаем!
– Да что тут думать-то! Иди к барыне, выкупай, я ж крепостная, меня за деньги надо купить. Это вы, башкиры, татары, калмыки – вольные, а мы вот здесь крепостные.
– Ну и выкуплю! Или украду… Лишь бы война кончилась.
– А когда война закончится?
– Французов выгоним из России, и тогда – мир!
– Да ты меня к тому времени забудешь!
– Нет, это ты, Таня, меня забудешь!
Они целовались смеясь.








