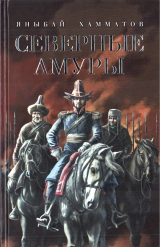
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
В сумерках в полк прискакал молоденький нарядный – сразу видно, что ночевал в доме, а не в шалаше под дождем, – офицер и сказал:
– Их превосходительство генерал Беннигсен сейчас пожалуют в полк. Нет, нет, никакого почетного караула, – заторопился он, хотя Кахым еще и не шевельнулся, – их превосходительство заедет накоротке, для конфиденциального разговора.
Вскоре показался величественный генерал на тяжелом, малоподвижном коне, окруженный плотным конвоем.
«Михаил Илларионович, да будет к нему милостив Аллах, никогда не выезжал под такой внушительной охраной», – насмешливо подумал Кахым.
На него строго глянули оловянного отблеска глаза на болезненно белом, с тщательно промытыми морщинами лице.
Кахым отрапортовал, что полк в полной боевой готовности и ждет приказа.
– М-да, отлично, – милостиво улыбнулся Беннигсен. – Я вас где-то встречал…
– Я служил офицером связи у генерала Коновницына в Главной квартире, ваше превосходительство, пока не получил Первый башкирский казачий полк.
– М-да, узнаю. Вне строя можете называть меня Леонтием Леонтиевичем. – Иссиня-белые губы раздвинулись от еще более благосклонной улыбки. – Отъедемте в сторону.
Кахыма насторожило, что обычно высокомерный генерал держится с ним так просто – в Тарутино он проходил мимо вытянувшегося, откозырявшего башкира, как мимо столба, не кивал и не отвечал на приветствие по уставу.
Леонтий Леонтиевич с седла рассказал тоже сидевшему на иноходце Кахыму, что этот день принес императору Александру сплошные огорчения. Царь со свитой находился на Вахтенбергской возвышенности около Гюльденшоссе. Первая атака французских позиций провалилась – с потерями наши и прусские войска откатились. Царь приказал гренадерскому корпусу Раевского наступать от Трюна на Ауенгайн. Три сотни казаков сумели перейти через горную речку, зацепились за берег, но дальше не продвинулись. Кровавые схватки за Вахау, Линденау и Меккерне закончились вничью: французы не отступили, а мы не продвинулись.
– Я предложил их величеству бросить с фланга по тылам противника башкирские казачьи полки, – вдруг хвастливо заявил Беннигсен. – Ваши всадники на выносливых степных лошадях пройдут и леса, и болота! Я поручился императору, что ваш полк пойдет головным, прорвет фронт, а следом хлынут находящиеся под моим командованием Четвертый, Пятый, Девятый и Четырнадцатый башкирские казачьи полки. Форсированный марш башкирской конницы, находящейся в моей армии, сломит устойчивость обороны противника! – Генерал выговаривал с упоением: «под моим командованием», «в моей армии», будто осчастливливал этим Кахыма.
«Эге, вот почему ты, старый придворный лис, ластишься ко мне, – брезгливо подумал Кахым. – Твоя армия не выполнила сегодня боевой задачи, вот ты и заметался, примчался ко мне и открыто умасливаешь… А ведь ты меня, дикаря, презираешь до глубины души! Но приказ есть приказ… Приказ не обсуждается, а выполняется».
– Оправдаю доверие, ваше превосходительство! – отчеканил Кахым, приложив руку к козырьку.
Беннигсен облегченно перевел дыхание:
– Леонтий Леонтиевич, Леонтий Леонтиевич, без официальностей, – слащаво усмехнулся он. – Никогда в вас не сомневался. Еще в Тарутинском лагере достойно оценил ваш ум!
– Вчера и сегодня на рассвете мои разведчики тщательно изучили окрестность, нашли удобные скрытые тропы. Сотники поведут джигитов бесшумно и уверенно. В ночь выступаем.
– Ну, с Богом, в добрый час! – православный немец с показным благочестием перекрестился. – Не провожайте меня, не провожайте!.. Завтра мой штаб разместится на высотке у городка Пильниц. Разумеется, и я там буду, лично возглавлю фронтальную атаку пехоты.
«Без вашего личного управления боем наверняка атака пройдет удачнее», – подумал Кахым, но пришлось молчать и почтительно козырять отъезжавшему из лагеря полка генералу.
Кахым, избавившись от коварного Леонтия Леонтиевича, начал немедленно действовать – созвал сотников и снова повторил с ними, проверил, как усвоили маршруты, ночью ведь карту не развернешь… Послал вестовых в соседние башкирские полки с просьбой прислать к нему в головной полк связных офицеров потолковее, порасторопнее, чтобы на марше они запомнили дорогу и, вернувшись к своим, повели сотни за Кахымом, а не наобум.
Мулла Карагош наскоро сотворил намаз, благословил джигитов.
И полк тронулся в путь. Разведчики не сбились, но тропы через болото были такими узкими, что пришлось двигаться гуськом, лошадь за лошадью. Болото от дождей вздыбилось в берегах, колдобины на тропе залило водою и грязью, вскоре лошади и всадники были заляпаны ошметками. И опять зарядил дождь, дробный, частый. На болоте зловеще пучились пузыри от испарений. Но Кахым радовался непогоде – французские часовые забьются под навесы, в сараи, чтобы не мокнуть; кто же поверит, что в такую темь, да под непрекращающимся дождем русские рискнут лезть через трясину в логово врага.
Высланные вперед разведчики доложили, что французские гренадеры спят в палатках, в шатрах, по домам местных жителей, но часовые на посту, расхаживают по дороге, за деревьями, перекликаются.
Этого Кахым не ждал, но времени на раздумья уже не оставалось, и он велел лучшим стрелкам ползти по грязи, по канавам, по выбоинам и первой же меткой стрелою с близкого расстояния, в упор, уничтожить вражеских часовых.
Лучники Первого полка отработали на учебных занятиях и ползание по-пластунски, «по-змеиному», и стрельбу из лука по движущимся мишеням – Кахым был строгим учителем, муштровал джигитов безжалостно, поощряя отличившихся благодарным словом, наказывая лентяев, разгильдяев.
Едва из тумана, из дождливой мглы донесся свист, резанувший тревогой сердце командира полка, Кахым привстал на стременах, поднял тускло блеснувший булат, крикнул: – В атаку! Орлы, выручай!
Сотни быстро, как на учебном плацу, развернулись и понеслись конной лавой, горяча и себя, и лошадей криками и гиканьем. Пехотинцы противника не успели даже выстрелить из составленных в пирамидки ружей и, полураздетые, босиком, припустились бежать в городок, надеясь укрыться в каменных домах. Конники рубили, топтали неприятеля копытами разъяренных коней, пронзали копьями, а самых проворных догоняли стрелами.
Офицеры связи из других казачьих полков унеслись к своим командирам, и тотчас сотни начали разворачиваться.
Но в городке гарнизон уже поднялся по тревоге, металлически звонко пели трубы, из окраинных домов и каменных заборов барских особняков выходили цепи французских пехотинцев с ружьями на изготовку, маршировали, как на параде, чеканя шаг.
Кахым бросил на них две сотни лавой – джигиты на полном скаку осыпали французов стрелами и вдруг падали вместе с лошадьми на землю, ловко забросив на седло ногу, чтоб не отдавило лошадиным крупом.
В этот момент сзади возникли мчавшиеся карьером остальные сотни полка с криками.
Этот наитруднейший прием Кахым тоже отрабатывал с величайшим упорством – ведь надо было, чтобы вторая линия атакующих не растоптала своих же лежавших на земле.
Затем по определенному сигналу хозяина приученные лошади вскакивали сами, джигиты цеплялись за седла, и первая волна атаки распадалась в обе стороны.
Французы вопили: «Амуры! Амуры!», падали пронзенные насквозь солдаты, но уцелевшие стреляли из тяжелых ружей беспрерывно, и в башкирских полках срывались с коней в грязь всадники, и лошади без седоков с тоскливым визгом и ржанием метались по полю.
Башкирские полки по примеру полка Кахыма атаковали волнами, громоздили трупы французов, и все-таки из-за каменных стен амбаров и домов, построенных с немецкой прочностью, с чердаков, из окон подоспевшие резервные французские пехотинцы вели усиливавшийся минута за минутой ружейный огонь.
«Нужно подкрепление. Без пушек эти каменные стены и дома не раздробить, – подумал Кахым. – Ведь я же не вел дальней разведки и не ведал, что наткнусь на этот средневековый городок! Конница приспособлена к битвам в поле, к вылазкам из засады, к удару по тылам. Через час-другой и наши полки будут обескровлены».
Он послал вестового к генералу Беннигсену с донесением, надеясь, что тот пришлет старшего офицера штаба, чтобы увидеть поле боя воочию, если не своими оловянными глазами, то глазами подчиненного.
«Мог бы и сам прискакать!.. Или он хочет кровью башкирских казаков добыть победу? А что! Чужой крови ему не жалко».
Упал с коня мулла Карагош. Убили сотника второй сотни, его заменил Буранбай. Приказав ему отвести поредевшие сотни в перелесок, Кахым поскакал, пришпоривая измученного иноходца, в соседние полки. Там тоже потеряли от ружейного огня противника много джигитов. Четырнадцатый полк подошел к полю боя последним и еще не развертывался. Кахым попросил его командира попридержать джигитов и не соваться без сигнала в атаку.
«Бессмысленно атаковать засевших в городке французов, бессмысленно осыпать каменные стены стрелами!..»
В это время примчался на загнанном, сипло хрипящем от усталости коне вестовой и передал устный приказ Беннигсена продолжать атаку.
В этот день башкирские полки погибли бы вчистую, но, на счастье, в полдень через болото прошли гусарский полк и полк уральских казаков. Полковник, краснощекий, с буйными каштановыми усами, выслушав Кахыма, обозвал Леонтия Леонтиевича Беннигсена тупицей, дураком, придворным шаркуном и заявил безоговорочно: «Беру командование на себя», отвел все башкирские полки в лес, выслал вправо, в овраги сильный передовой отряд из уральцев, еще не участвовавших в бою, а за ним повел своих гусар и башкирских джигитов.
«На марше приводите полки в порядок, назначайте новых сотников и войсковых старшин взамен выбывших!» – сказал он Кахыму и другим командирам полков.
Уже через час конная группа очутилась в тишине полей, перелесков. Так мирно, так уютно дымились трубы очагов одиноких хуторов. Хозяева прятались, а когда гусары вытаскивали их из погребов, с сеновалов и Кахым начинал разговаривать с ними по-немецки, хуторяне успокаивались, хотя и не сразу, клялись, что сюда французы и не заглядывали, а все войска Наполеона проходили во-он по той дороге.
– Чем глубже удар конницы, тем вернее! – сказал полковник. – Учись у старого вояки.
И повернул весь свой разномастный, но могучий отряд опять влево, в обход городка, оседлал дорогу. Французские обозы были захвачены без сопротивления и тотчас отправлены через болото, под охраной казаков, в расположение российских войск.
– Трофеи Леонтия Леонтиевича Беннигсена! – со злой усмешкой сказал полковник.
В городке у французов, как оказалось, стоял запасной, собранный из жалких клочков разбитых в непрерывных сражениях полков кавалерийский полк. Начальник гарнизона, когда ему доложили, что в тылу, на дороге появились русские, бросил полк в атаку.
Но в поле гусары, уральские и башкирские казаки показали свою лихость, удаль и искусство рубки. Собранные с бору да с сосенки кавалеристы, а среди них были вовсе не желавшие воевать за Наполеона саксонцы, либо были истреблены, либо рассеялись по оврагам – возвращаться обратно в каменный мешок города не захотели.
После этого наши вступили с юго-западной окраины в город, и гарнизон поспешно капитулировал.
– Оставайся здесь со своими башкирскими казаками, – великодушно разрешил полковник, гордо вздыбив усы. – Славно твои башкиры повоевали! А я поведу гусар и уральцев дальше по тылам. – Потряс могучей рукою руку Кахыма, тронул шпорою бок коня и ускакал.
«А я даже не узнал его имени-отчества, – спохватился огорченный Кахым. – Ну да ладно, авось встретимся еще на военных дорогах: они часто перекрещиваются».
Он велел вести пленных под конвоем в лагерь, собирать трофейное оружие, обследовать поле битвы, раненых доставить в лазарет, мертвых после свершения погребального обряда предать земле.
…Трехдневная Лейпцигская битва не принесла победы ни Наполеону, ни союзникам. Но вслед за армией Беннигсена к Александру подошла северная армия Бернадота. Неожиданно для самонадеянного Наполеона, но не для немцев, 18 октября вся саксонская армия повернула пушки в сторону французских позиций, открыла сокрушительный огонь по своим притеснителям.
Маршал Мюрат не раз напоминал Наполеону, что со времен Бородинского сражения французы еще не несли такие страшные потери – в адском пламени войны сгорали за день буквально целые корпуса.
И, отчаявшись, император приказал отступать к Рейну.
Испуганные саперы взорвали мосты преждевременно, и весь польский кавалерийский корпус остался на берегу, под русской картечью, – их командир маршал Понятовский бросился верхом на коне в реку Эльстер и утонул в ее по-осеннему студеных волнах.
Сразу же после сдачи Лейпцига и отхода армии к Рейну с Наполеоном распрощался шальной рубака Мюрат, друг его юности, начальник всей кавалерии. Император понял, что Мюрат помчался спасать свое Неаполитанское королевство, понял и – промолчал.
21Начальник личного конвоя Наполеона, командир Двадцать третьего легкого конно-егерского полка барон де Марбо на привале после Лейпцигской битвы написал о башкирах – «северных амурах» в чекменях с позументами, в островерхих меховых шапках, со стрелами, с луками, копьями, на низких выносливых лошадях:
«Башкиры были так воодушевлены видом наших войск, что кинулись на них бесчисленными ордами. Были убитые и раненые башкиры, но эти потери, вместо того чтобы охладить их задор, казалось, только его подогрели. И двигались они без военного построения, и бездорожье их не затрудняло, что они носились вокруг наших войск, как рои ос, подкрадывались всюду и осыпали солдат стрелами, метали копья, врубались саблями.
Отбить их было трудно, а настигнуть еще труднее. В самые опасные участки боя они мчались во всю дьявольскую скорость своих маленьких лошадей. Их было буквально мириады, и, чем больше убивали наши стрелки этих „ос“, тем больше их, казалось бы, прибывало… Атаки этих варваров постоянно учащались, а русские поддерживали их ударами гусарских полков, чтобы довершить тот беспорядок, какой башкиры успевали сделать в том или ином месте линии наших полков… Один из самых храбрых моих унтер-офицеров Мелен, кавалер ордена Почетного легиона, был пронизан навылет стрелою „северных амуров“, и я сам был легко ранен в ногу этой крылатой вестницей смерти…»
Кахым об этом вынужденном восхвалении его земляков бароном де Марбо не знал и никогда не узнает.
Все его помыслы, все чувства были отданы убитым джигитам. Он со слезами проводил в могилу муллу Карагоша. Сердце его стеснилось горем, когда узнал, что под Лейпцигом убит командир их корпуса князь Кудашев, зять Кутузова. «Любил, ценил, уважал его Михаил Илларионович! Может, это и к лучшему, что старик не пережил своего зятя», – думал удрученный Кахым.
…Через несколько дней на одной из площадей Лейпцига был назначен смотр Первого башкирского казачьего полка.
С тоскою, но и с благородной гордостью смотрел Кахым на поредевшие сотни. «И люди, и лошади устали, но какое достоинство в смуглых, обожженных и русскими морозами прошлого года, и солнцем нынешних европейских походов лицах, какая осанка – прикажи, и мигом бросятся в атаку!..» Командиру полка уже сообщили, что смотр проведет и отличит героев сам Леонтий Леонтиевич Беннигсен. «Что ж, милости просим, ваше превосходительство! Мы люди военные и вынуждены подчиняться чину и званию, а не мудрости и совести, как это было у меня зимой с Кутузовым и Коновницыным!»
На углу улицы, вливавшейся на площадь, махальщики подняли пики с пучками алых лент, по сигналу войскового старшины Буранбая кураисты торжественно заиграли-загудели «встречу». И в сопровождении генералов и офицеров на холеных конях на площадь величественно въехал на крупном, «сыром» немецком жеребце Беннигсен.
Еще не видел Кахым Леонтия Леонтиевича таким надменным и таким сияющим – мундир с иголочки, поперек мундира пурпурная лента, ордена, звезды, медали; свита состояла тоже из чистеньких, аккуратненьких штабистов.
«Да, вы, господа, не преодолевали по уши в тине болото! – вздохнул Кахым. – Что ж, каждому свое… А Беннигсен вот-вот лопнет от самодовольства – значит, убедил царя Александра, что лишь прорыв конницы по его, Леонтия Леонтиевича, плану и принес победу войскам России и союзников!..»
Беннигсен скучающе оглядел джигитов в потрепанных, линялых чекменях, на низкорослых лошадях, тощих, но все еще бойких в беге, остановил свинцовый тяжелый взгляд на Кахыме и выдавил из узких серых губ покровительственную улыбочку. Он поблагодарил полк за образцовое выполнение приказа, «моего приказа», – добавил он наставительно.
Адъютант зычно зачитал приказ о награждении отличавшихся башкирских казаков орденами и медалями, о присвоении наихрабрейшим воинского звания хорунжего, есаула, зауряд-сотника.
Когда церемониал окончился, джигиты трижды прокричали «ура».
– Вольно! – скомандовал Кахым.
Теперь всадники почувствовали себя свободнее, раздались сердечные, уставом не предусмотренные восклицания:
– Тысячу раз рахмат, что не обделили башкирских батыров!
– Слава царю Александру!
– Побьем французов в их берлоге!
Джигиты, ясно, в чистоте чувств произносили это по-башкирски, но Беннигсен даже не попросил их здравицу перевести на русский: дикари, так они и есть дикари, и язык у них дикарский, нет, воюют они смело, с риском, но тоже по-своему…
– М-да, благодарю, – кисло промямлил он, протянул три пальца в белоснежной перчатке Кахыму и повернул обратно своего мясистого коня. – Нет, не провожайте меня…
«Погонять бы твоего жирного мерина по болоту, по лесным тропам, так у него копыта бы отвалились!» – подумал с нескрываемой враждебностью Кахым.
Блестящая кавалькада, звучно гремя копытами по камням мостовой, исчезла в расщелине улицы.
Кахым вздохнул с облегчением, разрешил сотникам вести джигитов в лагерь.
К нему подскакал довольный Буранбай.
– Моему-то приемному сынку Зулькарнаю присвоено звание зауряд-хорунжего! Назначен и пятидесятником! – хвастался он. – Спасибо тебе, кустым, ведь это ты представил его к награждению чином.
– Ну при чем же тут я, – плутовски улыбнулся Кахым. – Это сам их превосходительство генерал Беннигсен лично видел юного Зулькарная в бою, восхитился и велел отметить!
Буранбай схватился за брюхо и хохотал так громко и так долго, что Кахым забеспокоился: не лопнул бы от столь бурного смеха.
А Зулькарнай ликовал от счастья: он стеснялся благодарить Кахыма, хотя и понимал, что именно командир полка его так возвысил чином; розово-смуглое, с пушком усиков над крупной ярко-алой губою лицо так и лучилось светом юности.
– Да будет к тебе судьба и далее так же милостива! – серьезно, прочувствованно сказал Кахым, обнимая парня. – Отныне ты настоящий батыр, окунувшийся в военную купель. Ну, останусь в сражениях живым, за тебя-то я не боюсь – ты завороженный, вернемся на Урал, и сосватаю тебе самую красивую, самую разумную девушку!
Чувство восторга и любви к Кахыму переполняло душу Зулькарная, он даже слова не мог вымолвить и лишь улыбался застенчиво, робко.
– Девушки всего кантона с ума посходят, как узнают, что мой Зулькарнай зауряд-хорунжий! – подхватил Буранбай.
Кахым вдруг спохватился:
– Жена Янтурэ родила?
– Ясное дело, родила! – весело сказал ординарец.
– Так надо их проведать, – и Кахым направил коня в обоз, где стояли повозки и фургоны.
Всюду горели костры, джигиты уписывали за обе щеки жареное на шомполах мясо раненых, прирезанных лошадей. Кахыма они приветствовали жестами и возгласами – командир полка в бою доказал и свой ум, и свою смелость. Иные пожилые джигиты приглашали земляка к своему костру, к скатерке, но Кахым с улыбкой отказывался и ехал все дальше среди тесно поставленных фур, крытых фургонов. Он впервые заметил, что к коновязям привязаны широкоспинные немецкие тяжеловозы с толстыми, словно бревна, ногами.
– Отбили у французов, – поняв его вопросительный взгляд, сказал Буранбай.
– Смотри, чтобы не угнали от бауэров! – пригрозил Кахым.
– А если барон или там фон-барон присягнул Наполеону и улепетнул с ним за Рейн, так чего же с его конюшнями церемониться? – пожал плечами войсковой старшина. – Сколько наших обозных лошадей погибло за эти годы и от бескормицы, и от изнурения? Ремонта мы из-за Волги не получим.
– Так-то оно так, но все-таки, – сказал Кахым, чувствуя что спорить с Буранбаем ему не с руки.
У крытой повозки стоял Янтурэ с сознанием честно выполненного долга.
– Мальчик? – спросил Кахым, спрыгивая с седла.
Счастливый отец был оскорблен до глубины души:
– Конечно, не девочка! У меня этого в заводе нету – плодить девочек для чужих парней! – сказал Янтурэ, но, увидев за Буранбаем юного Зулькарная, притворно заохал: – Ай-хай, родилась бы дочка, взял бы через четырнадцать лет в зятья зауряд-хорунжего!
Зулькарнаю словно плеснули в лицо ковш кипятка: побагровел и даже вспотел, отвернулся, отошел, но увидев, как дружелюбно смотрели на него и Кахым, и собравшиеся кругом джигиты, успокоился, приосанился и даже тронул пальцем усики.
Из кузова выглянула, прикрывая, по обычаю, платком рот, Сахиба и показала издалека запеленатого младенца; улыбалась она и утомленно, и просветленно.
– Будь счастлив, батыр! – дрогнувшим голосом сказал Кахым. – А каким именем нарекли?
– Да еще не прозвали – мулла Карагош скончался от ран, – огорченно сказал Янтурэ.
– Надо пригласить муллу из соседнего полка, – распорядился Кахым. – Как же это паренек не имеет имени!.. И сегодня же поедем все, – он обратился к Буранбаю, к сотникам, – на могилы павших джигитов, совершим поминальное богослужение. Нужно также послать списки погибших героев в Оренбург, в кантоны.
– Слушаю, – сказал Буранбай: это была его обязанность войскового старшины.
– Будь счастлив, батыр! – повторил Кахым.
«А как-то сложится твоя судьба? Выпадет ли счастье на долю моего сына Мустафы? В угоду сатанинскому тщеславию Наполеона в Лейпцигской битве погибли десятки тысяч людей. Мы-то защищали свою родную землю, а Наполеон повел на нас несметные полчища, чтобы утвердить свое мировое господство!.. Благочестивый мулла Карагош погиб, у Янтурэ родился сын. Вечный круговорот жизни!..»
Размышления выдались мрачные, и Кахым, еще раз поздравив и Янтурэ, и Сахибу, пошел к другим кострам.
Его внимание привлек плотный, лет сорока-сорока пяти, с курчавой бородою джигит, окруженный дружно смеющимися приятелями. Развалившись на кошме, он рассказывал им и подмигивая, и хмыкая, и бурно жестикулируя, а они буквально помирали от хохота.
– О чем это ты так весело рассказываешь, агай? – спросил Кахым, садясь на кошму рядом с джигитом.
– Да как же, Кахым-турэ, обида меня одолела, – пожаловался весельчак. – У Янтурэ-агая год от году мальчишки как на подбор, а меня Аллах благословил одними девочками!.. Моя бисэкэй, скажу открыто, женщина в теле, и добрая, и ласковая, а так и засыпала меня дочками. И хотя бы одного мальчишку мне в угожденье и в похвальбу. Нет и нет! По совету аксакалов я подкладывал под жену и свою меховую шапку, и островерхий суконный шлем, чтобы зачала сына… И никакого результата! – Балагур широко вскинул руки, застонал. – Я рассердился, жена рассердилась и… и принесла мне двойню девочек.
Слушатели катались по земле, хохотали до синевы в лице, плакали, задыхаясь от неудержимого смеха, но безутешный отец оставался невозмутимым, лишь в желтых круглых, как у филина, глазах плясали искорки веселья.
– И сколько же у тебя дочерей родилось? – спросил Кахым.
– Да я, Кахым-турэ, уже запутался: то ли двадцать, то ли двадцать две, – с простодушной серьезностью ответил джигит.
– На щедром калыме разбогатеешь! – великодушно посулил Буранбай.
Неистовый смех загремел еще пуще:
– Охо-хо-о! Считай, по две лошади за девку!
– Хай-хай! Целый табун молодых степных коней!
– Ух-ух-ух, старость обеспечена – станешь с женою ездить в гости от зятя к зятю.
– Нет, я до старости не доживу, – с мрачным отчаянием сказал весельчак. – На мне лежит проклятье.
– Как проклятье?
– Какое проклятье?
И Кахым с недоумением взглянул на рассказчика:
– Кто же тебя проклял, агай?
– Сейчас расскажу.
Стемнело, пламя костра вырывало из тьмы ярко освещенные лица слушателей, а дальше лежала безбрежная жуткая равнина, заваленная еще не убранными, не захороненными трупами солдат, и октябрьский ветер свистел над ними в поминальной тоске.
Все притихли, а рассказчик насладился тишиной и вниманием собравшихся и продолжал глубокомысленно, серьезно:
– Работал я батраком у богатого мужика, и надо вам заметить – был молодым, вот таким, как ты, кустым, – и он обнял сидевшего рядом Зулькарная. – И нарвался я на страшную беду. Эта история очень поучительная для молодых джигитов, ее бы надо в мечети с амвона рассказывать муллам… А надо заметить, был я красивым, речистым, бойким, зачешу кудри набок, хожу щеголем, вот таким, как ты, – и он опять улыбнулся смущенному Зулькарнаю, – и связался я с вдовушкой Умукамал, бездетной, от мужа дом остался, лошади, полный порядок. Ну ночь за ночь, неделя за неделей – лето миновало, и прельстила меня девушка из соседнего аула, милая такая, застенчивая, рукодельница. И отцу ее я понравился – бери, говорит, дочь без калыма, с годами сочтемся… Ну перестал я захаживать к вдовушке, а она, ненасытная, звала, умоляла, заманивала, а потом пугнула: откроюсь в грехе мулле и отравлюсь дурман-травою… Конечно, я струхнул: помрет, а я останусь виноватым.
Балагур вынул обкуренную трубку-носогрейку, неспешно набил ее табачком из кожаного кисета, выхватил из костра уголек, покатал в руках, прикурил.
А джигиты, разжигаемые любопытством, наседали:
– Агай, не тяни душу!
– Агай, говори, что случилось дальше?
Пыхнув дымком, рассказчик продолжил плавное повествование:
– Изрядно я струсил и обещал прийти ночевать. Умукамал встретила меня объятиями, поцелуями, так и вертится как юла, вытащила из-за чувала бочонок с медовухой. Сели к скатерти – я молодой, мне что! – чашка за чашкой, это же нектар, щербет… И просыпаюсь на дворе хозяина под забором. Как я добрался, как свалился – ничего не помню. Башка трещит, во рту горько… Умукамал, зловредная баба, оказывается, белены подсыпала в медовуху!.. А тогда я этого еще не знал, подымаюсь, ковыляю за амбар на огород, сами понимаете, по нужде… спустил штаны – вся моя, так сказать, мужская честь опутана цепью, а цепь на амбарном замке. Я взвыл как волк, угодивший в капкан, ковыляю к злодейке, а она насмехается: женишься – отомкну, а не женишься – так и гуляй к той девице…
– И ты согласился? – спросил, отсмеявшись, Кахым.
– А что сделаешь? Признаться, хотел согласиться для отвода глаз и бежать из аула, но Умукамал сперва заставила дать клятву перед Богом, а потом уж вынула из-за пазухи ключ и повела к мулле, чтобы он прочел никах.
– И этим все кончилось?
– Как бы не так! – скривился джигит. – Девица, та, желанная, прокляла меня за коварство, предсказала, что на мне оборвется наш семейный род. Так и произошло – сына нет и продолжения рода Мирзагитовых нет и не будет.








