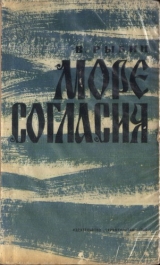
Текст книги "Море согласия"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
Первую тифлисскую ночь после длительного путешествия Муравьев провел у соседа Амир-Шакир-баши. Весь другой день прошел в хлопотах – казаки под наблюдением Демки мыли в квартире полы, расставляли мебель. Когда в доме был наведен должный порядок, Муравьев ввел Якши-Мамеда в боковую комнату.
– Нравится?
Якши-Мамед окинул взглядом убранство светелки: на полу туркменский ковер, на стенах тоже ковры. Напротив двери – кровать, в углу тумбочка и канделябр со свечами.
– Нравится! – улыбнулся Якши-Мамед. – Ну, тогда располагайся и чувствуй себя полным хозяином. Через денек-другой опять устрою тебя в училище.
Николай Николаевич в передней оглядел себя в зеркале и отправился к командующему. Целый год он не виделся с ним, отвык от него. Входя в белокаменный дворец, чувствовал робость. Ермолов был дома. В турецком халате онк сидел на диване и читал газеты. – Бог ты мой! – вскрикнул Алексей Петрович, увидев Муравьева в дверях. – Вот так сюрприз! – Ермолов обнял его, встряхнул за плечи и усадил рядом. – Когда прибыл?
– Позавчера ввечеру, ваше превосходительство!
– Ну-ну, – вдруг посуровел генерал. – Так и знал, что одичаешь в песках. И, между прочим, со всеми так. Стоит кому-нибудь отлучиться от меня, так сразу имя мое забывают.
– Прошу прощения, Алексей Петрович.
– Ну то-то же. С делами как; все ли благополучно?
– Не совсем. Случилось несчастье. Алексей Петрович. На обратном пути умер Ратьков. Был шторм. Накануне лейтенант чувствовал себя неважно. Умер на подходе к Ленкорани.
Командующий нахмурился. Взяв газеты с дивана, он бросил их на стол и некоторое время смотрел в окно. Затем спросил:
– Причина смерти какова?
– Белая горячка, Алексей Петрович. Он и раньше употреблял много лишнего. Я неоднократно предупреждал его, чтобы бросил пить.
Командующий замолчал, и Николай Николаевич, видя, что смерть моряка вызвала у генерала сострадание, начал оправдывать других моряков и офицеров вверенной ему команды. Ермолов сказал:
– Ладно, не вымаливай милостыню. Знаю, что не все люди пьяницы. Иван Александрович говорил мне, что посылал тебе летучую в Баку с приказом наградить команду экспедиции?
– Я получил приказ я деньги. Рядовому составу роздал по три рубля серебром, унтер-офицерам – по пять. Получено было от Ивана Александровича указание насчет Киятова сына. Ныне он ежесуточно получает по три рубля серебром.
– С охотой отдал сына Кият? – спросил Ермолов. – С величайшей охотой! Кият боится, как бы вовсе не потерять с нами связей. Да и желание его обучить сына грамоте велико. Кстати, от Кията вам письмо, – Муравьев достал из сумки исписанный листок с печатью. Ермолов вслух прочитал первые строки:
«Вступив уже с родственниками и приближенными моими под высокое покровительство Российской империи, желаю служить вам, жертвуя собой...» «Командующий оторвался от письма, сказал: – Ты вот что. Приготовь доклад о поездке, послушаем.
Вечером, возвратись домой, Муравьев застал в комнате Якши Амулат-бека. Они только что окончили вечернюю трапезу – на ковре стояли пиалы и сахарница со сладостями, Оба были в бешметах и круглых шапках, в начищенных до блеска сапогах – видимо, собирались на прогулку. Амулат элегантно поклонился полковнику:
– У меня в Тифлисе есть родственник, я хочу познакомить с ним Якши-Мамеда.
– Ну что ж, пусть идет, – согласился Муравьев, входя в кабинет и думая, что пора садиться за отчет о поездке.
Однако в тот вечер заняться делом ему не удалось – пришел Верховский, пригласил к Ахвердовой:
– Небольшая пирушка. Там я тебя познакомлю кое с кем.
– С удовольствием, Евстафий Иваныч. С величайшим удовольствием!
Тотчас они вышли на улицу и остановили извозчика.
Дом покойного генерала Ахвердова глядел на дорогу множеством окон, балконами и величественным порталом. Вечернее солнце скользило по жестяной зеленой крыше в верхушкам голых деревьев. Коляска въехала во двор и остановилась. Отсюда открывался вид на Куру. Прямо от галереи начинался пологий склон – весь в деревьях и виноградных лозах. Тут и там сиротливо стояли беседки со скамейками. Ближе к дому – флигель: в нем жила семья князя Александра Чавчавадзе. Приезжая из Карагача, он останавливался здесь у жены, которая почти не выезжала из Тифлиса; она была задушевной приятельницей генеральши.
Дом Ахвердовых всегда был предоставлен гостям. Здесь очень часто собирались свитские; проводили время в играх и беседах, устраивали литературные вечера. Иногда перед: гостями выступали самодеятельные артисты. На вечерах частенько присутствовали самые почтенные люди Тифлиса: князья Орбелиани, Бебутов, Мадатов, предводитель дворянства Багратион-Мухранский, генералы Горчаков, Вельяминов. Заходил сюда в Алексей Петрович. Гостеприимство хозяйки ему особенно нравилось, и он подарил ей свои клавикорды, которые теперь стояли в гостиной. Оттуда доносились мелодичные звуки.
В прихожей Муравьева и Верховского встретила сама Ахвердова. Тридцатилетняя красавица в длинном декольтированном платье с радостью и упреками, что заставляют себя ждать, живо подошла к офицерам, помогла им снять сюртуки.
– Ах, Николенька, мы так ждали вас еще вчера! Едва вы приехали, как мне стало известно...
– Вчера не мог, Прасковья Николаевна. Забот множество,– отвечал Муравьев, стыдясь ее навязчивой ласки.
На пороге гостиной он остановился, мельком окинул собравшихся господ.
– Как вы находите мой уголок? – спросила генеральша.
– Прелестное гнездышко, – с улыбкой ответил Муравьев и вошел, здороваясь со знакомыми с незнакомыми гостями хозяйки. Два путешествия Муравьева давно уже сделали его личностью приметной в обществе. Еще никто его не видел после поездки, и все с душевностью пожимали ему руку, поздравляя со счастливым возвращением.
Отдав дань почтения господам, Муравьев подошел к столику, за которым сидел Верховский, к опустился в кресло. В глубине гостиной на клавикордах играла дочь покойного генерала Ахвердова, Софи. Рядом стоял Грибоедов.
Девочка, с распущенными волосами, перевязанными голубой лентой, играла не очень искусно, да и вовсе не старалась. Держалась она довольно хладнокровно, будто в гостиной никого не было. Скорее всего она сознавала, что никто на нее не обращает внимания: все заняты друг другом.
Александр Сергеевич, разглядев офицеров, подошел к ним.
– Рад видеть вас, Николаи Николаевич, живого в невредимого в наших кругах, – приветствовал он Муравьева, пожимай руку.
– Прочь, прочь ханжество. Александр, – засмеялся Муравьев. – Я ведь знаю вас,
– В самом деле я рад. Ну, хотя бы потому, что не мне, а вам придется исполнить роль увеселителя-музыканта. У меня сломана рука.
Муравьеву понравилась грустная шутка Грибоедова. Кто-то тут же предложил Муравьеву сесть за клави-
корды.
– Неловко, господа. Сонечка так старательно игранет, – отказался было он. Но в это время Софи как раз закончила романс и оглянулась, будто почувствовала, что о ней говорят.
Николай Николаевич подошел к ней сбоку. Остановился, скрестив на груди руки. Софи, увидев его, улыбнулась.
– Ой, вы уже приехали! – искренне обрадовалась она. И тотчас, будто он отсутствовал не год, а день или два, искренне предложила: – Сыграйте что-нибудь. У меня что-то сегодня ничего не получается.
Софи встала, приглашая Муравьева к клавикордам. Гости захлопали в ладоши, и сразу донеслось несколько голосов, просящих сыграть что-нибудь для души. Муравьев поправил воротник мундира, сел и опустил руки на клавиши. Звучный аккорд заполнил комнату и рассылался на мелкие яркие звуки: будто ветром всколыхнуло люстру и переливчато зазвенели ее хрустальные подвески. Софи, облокотившись на угол клавикордов, с болезненным восторгом уставилась на музыканта. Муравьеву стало не по себе от ее взгляда. Взгляд девочки давил его своей бессознательностью. Ему хотелось вырваться из ее цепких глаз, и он играл с таким ухарством, будто хотел испугать ее.
В залу между тем входили новые гости. Сквозь звуки клавикордов до Муравьева долетал их говор. Из вестибюля слышался приятный бархатистый голос хозяйки, Она то журила кого-то, то перед кем-то извинялась, и Муравьев по ее тону узнавал, кто пришел.
Сыграв еще каденции Россини, Муравьев встал, легонько поклонился, опять усадил за клавикорды Софи я вернулся к компании. Тут уже появились новые господа. Среди них и приезжий – Устимович. Сидели, плотно составив столы, довольно энергично беседовали о событиях в Пьемонте и Валахии. Муравьев сел тоже и, не включаясь в разговор, долго слушал, отчетливо понимая, как родственна связь восстания карбонариев в Неаполе с выступлениями Семеновского полка. Что и говорить, государь расправился с семеновцами, а через месяц после «семеновского бунта» конгресс монархов в Тропнау принял меры для подавления революционных движений в Европе.
В разговоре вольнодумцы не заметили, как все приглашенные постепенно переселились в столовую, где был подан горячий ужин. Прасковья Николаевна дважды заходила в залу и напоминала друзьям, чтобы шли кушать. Наконец, гостиная опустела. Последними вышли Устимович и Муравьев.
– Не напоминает ли вам все это детские забавы? – усмехнулся Николай Николаевич.
Установич серьезно посмотрел в глаза Муравьеву, сказал:
– Мне необходимо с вами поговорить, Николай Николаевич.
– Тогда, может, выйдем во двор – здесь накурено?
Они прошли по коридору, отворили дверь и оказались в галерее. Она была пуста. Кроме старого стола, ничего тут не было. Устимович облокотился на парапет, Муравьев встал рядом. Оба некоторое время смотрели в глубь ночи, облитую бледным светом луны. Устимович сказал:
– Прежде всего... Я привез вам поклон от Никиты в от всех наших.
– Спасибо. Я всегда ждал – кто-нибудь приедет.
– Никита мне говорил, что все время вашего пребывания в Петербурге вы имели с ним беседы.
– Да, вообще-то мы единодушны во многом, – ответил осторожно Муравьев.
– Наступила пора действовать, – решительнее заговорил Устимович. – Ныне Коренная управа считает главкой ошибкой нашего союза то, что слишком мало сынов отечества на командных постах. Будь армия в наших руках – неизвестно, что бы сейчас делалось в Петербурге.
– Что же предлагает управа? – с интересом спросил Муравьев.
– Вам, Николай Николаевич, ее что бы то ни стало надо занять командный пост. Случай прямого выступления может быть близок.
– А Ермолов! Пойдет он на это?
– Об этом не беспокойтесь. Подайте рапорт. Верховский это сделал, а Авенариус уже произведен в полковые командиры. Мы о нем позаботились.
– Великолепно, – в сильном волнении произнес Муравьев. И с улыбкой добавил: – То-то я смотрю, ныне Авенариус в чести у командующего. А ведь знаете – было время, Алексей Петрович едва не проводил его из Грузии за какие-то грешки.
– Командующий и с Якубовичем едва не разделался, да одумался, – тихо сказал и засмеялся Устимович.
– Проездом, в Карагаче, я слышал от Чавчавадзе, что вы его выручили, – сказал Муравьев.
– Не совсем так, Николай Николаевич. Вы ведь знаете, Алексей Петрович осенью кое с кем виделся из наших, Ну, например, с Фонвизиным.
– Да, да, перемен много произошло в этот год, – заключил Муравьев. – Чую – наступила пора действовать. Только надо бы собраться, обговорить все как следует. Можно даже у меня. А сейчас пойдемте к обществу, нас, наверное, ищут.
ОТКАЗЗаписку о поездке в Туркмению и карты Челекена в побережья Каспия Муравьев представил в конце марта. Но еще полмесяца ожидал, пока командующий их рассмотрит и примет надлежащие меры. Николай Николаевич давно уже был убежден, что государь не отпустит средств на заведение фактории на том берегу: слишком большие расходы повлекут строительные работы и завоз всевозможных материалов – от теса до гвоздя. Проникшись мыслью, что с туркменами его деловые отношения иссякли, пусть-де живут кочевники, торгуют с Россией, а у него иные заботы. Муравьев еще в феврале написал письмо князю Волконскому. Просясь на строевую службу, он жаловался на слабое зрение: «Проведши целое лето на открытом воздухе, в знойном климате, среди глубоких песков, в трудах и занятиях, я почувствовал недуг сей, коего причину полагаю в песчаных туманах, нередко случающихся в тех местах при малейшем ветре...» Видя, однако, что довод для перевода не слишком убедителен, прибег и к другой причине: «Мне казалось, что всякий военный человек должен непременно пройти через состояние строевого офицера, и потому, избрав сей род службы, я решился беспокоить ваше сиятельство своею просьбою».
Письмо он отдал Ермолову. Командующий, прочитав, усмехнулся: «Значит, и ты?». Но тут же е одобрением высказал, что и сам пошлет ходатайство Волконскому, напишет ему, что Муравьев необходим для командования полком. Николай Николаевич возрадовался: командующий не чинил никаких препятствий и даже одобрял задуманное. Муравьев сообщил обо всем Устимовичу и Верховскому. Те заранее поздравили своего друга с успешным решением дела. После этого, считая часы и дни, проводя время в составлении записки о поездке, Муравьев больше месяца сидел дома.
Сидел он за бумагами обычно до полудня. Затем шел в трактир, где обедал вместе с Якши-Мамедом. Расспрашивал его о занятиях, проверял знания. С полудня до вечера Муравьев пребывал в штаб-квартире; изучал съемочные материалы и чертежи. Изредка к нему заходил Грибоедов подучить турецкий язык. Садились за стол, листали турецкую грамматику. На помощь приходил Якши-Мамед, толкуя то или иное непонятное слово. Александр Сергеевич отрывался от занятий и начинал расспрашивать о жизни туркменских племен, интересовался, есть ли у туркмен свои поэты. Якши-Мамед охотно рассказывал о всеизвестном шахире Мухтумкули, напевал его песни, пытался перевести слова на русский язык, но всякий раз в отчаянии произносил: «Нет, господин, его слова, как мед, их не переведешь...»
Только в конце апреля Муравьева, наконец-то, вызвали отчитаться о поездке.
В кабинете, кроме командующего и начштаба, присутствовали свитские офицеры и два азиата: оба в тюбетейках. Как только Муравьев вошел, один из них привстал с дивана, отвесил поклон и выговорил с улыбкой: – Салам-алейкум, Мурад-бек.
Муравьев сразу догадался, что перед ним хивинцы, но в лицо не узнал их. Оба гостя заявили, что видели его во дворце Мухаммед-Рахим-хана. Николай Николаевич еще раз посмотрел на обоих и подумал: сколько их промелькнуло в глазах в ту пору – разве упомнишь. – Нет, не помню, – сказал он.
– Да и не беда, – подхватил Ермолов. – Люди эти, Николай Николаевич, присланы мне генералом Эссеном. Через их посредство можно, еще разок попытаться поговорить с хивинским ханом.
– Есть ли смысл, Алексей Петрович?
– Раз говорю, значит, есть. Два этих бабая специально схвачены на Оренбургской линии по моей просьбе. Иначе ведь с хивинским владыкой и не поговоришь. Вот послушай, что они толкуют о древней реке. Как ее... Акгам, что ли?
– Актам и Аджаиб – два рукава, кои впадали в Каспий, а основное течение именуется Узбоем, – уточнил Муравьев.
Ермолов кивнул.
– Гости говорят, что река сия прекратила существование недавно. Поговори с ними на сей счет.
Муравьев повел разговор на турецком языке:
– Так когда, уважаемые, перестал течь в Бахр-и-Хазар Узбой?
– С тех пор триста лет прошло, – ответил один из хивинцев.
Другой дополнил:
– Реку занесло песками во времена, когда был ханом Араб-хан-Гаджи – Магомед-Санджар.
– Вы ошибаетесь во времени, – ответил Муравьев и пояснил: – По-моему, они несколько не точны в сроках, Алексей Петрович. Один из персидских историков называет – около 1560 года. Причем, если верить ему, то река была перекрыта. То же говорят и некоторые туркмены. Есть предположение: хивинский хан перекрыл реку, боясь, что по ней в Хиву приведет свои струги Иван Грозный. В ту пору как раз шли большие завоевания около Средней Азии: Казань, Оренбуржье, Астрахань.
– Вполне возможно, – согласился Ермолов. – Вот и я тоже думаю: нельзя ли по руслу добраться до Хивы?..
– Ну нет, Алексей Петрович... Оно лишь частично заполнено водой, да и то вблизи моря... Дорога в Хиву идет через сплошные пески.
Ермолов подошел к карте, задумавшись, смотрел на белое незакрашенное пространство между Каспием и Амударьей. Не верилось ему, что столь тяжел путь в Хиву.
– Тут у нас, на Кавказе, дороги небось похуже, – грубовато произнес он. – По горам да по ущельям лазим.
– Дорога в Хиву трижды труднее, Алексей Петрович. Притом места дикие, совершенно безжизненные. Мой поход на Балханы ничего утешительного не принес. Балханы – горы голые. Трудновато будет с постройкой укрепления на том берегу. Лес придется везти из России.
Ермолову не понравился ответ Муравьева. Раскурив трубку, он несколько раз подряд затянулся, сказал:
– Ладно, посмотрим... Теперь ознакомь нас, чем богата земля туркменская.
Муравьев с досадой подумал: «Мечтает о походе в Индию, а сам в какой уж раз спрашивает бог знает о чем».
– В бытность мою на Челекене, – монотонно и без интереса заговорил Муравьев, – главным промыслом иомудов была черная нефть. Ежегодно ее вывозится до тридцати тысяч пудов. В основном в Персию.
– Есть ли перспективы увеличения добычи? – спросил доселе молчавший Вельяминов.
– Разумеется. Туркмены не добывают и сотой доли запасов.
– Что еще полезного на острове? – спросил тут же Ермолов, сузив от дыма серые, с красными прожилками глаза.
– Ну, нефтакыл, например, Алексей Петрович... Можно сказать, это нефть в твердом виде. Служит она островитянам для освещения. Прежде ее туркмены вывозили в Хиву и Бухарию, ко нынче торг сей прекратился, по случаю войны в тех местах.
– Много ли этого самого нефтагиля? – искаженно произнес Вельяминов.
– Да уж вестимо много, Иван Александрия. Сколько нефти, столько и нефтакыла.
– Соль, говорят, еще есть? – снова задал вопрос Ермолов.
– Есть и соль, Алексей Петрович, – с некоторой обидой отозвался Муравьев и вдруг не выдержал, сказал: – Смею вас спросить, ваше высокопревосходительство, для чего сей маскарад? Кому нужны сии экономические выкладки?
– Царю, – просто и с величайшей готовностью ответил Ермолов. – На голом песке он крепость не разрешит строить. Суть жизненных явлений, дорогой Николай Николаевич, в том и заключается, что, теряя одно, человек приобретает другое, более ценное.
– Но это же политика чуждая, Алексей Петрович,– усмехнулся Муравьев. – Я. например, считаю свою миссию в Средней Азии более благородной.
– И считай, Николай Николаевич, – заверил Ермолов. – Общество так и смотрит на тебя, как на первооткрывателя. А меня, например, должность моя обязывает ответить на прямой вопрос, поставленный государем: «Что дадут нам Туркмения и Хива?» Вот я и хочу, через посредство твоих познаний, сообщить государю о тех выгодах, кои приобретет Россия на восточном берегу Каспия.
Муравьев задумался.
– Итак, дальше, – строго выговорил Ермолов. – Что еще, кроме нефти, смолы и соли, мы можем вывозить в Россию? Коней – можем?
– Пока нет. Ахалтекинские кони в глубине туркменского материка: в стране гокленов и в Аркаче.
Разговор складывался явно не в пользу Ермолова, и он поспешил закруглить его:
– Словом, я так полагаю, господа, – поморщившись, произнес он и встал. – Государю мы ответим, что край сей богат всякой всячиной и только леса нет на устроение. Попросим, дабы ссудил несколько транспортов сосны, жести и прочих товаров, а там видно будет.
Алексей Петрович кивнул, давая понять, что заседание закончено. Заговорил о другом. Вельяминову он велел тотчас отправить документы поездки в Министерство иностранных дел, приложив к ним записку об экономических выгодах торговли с туркменами. Муравьеву, когда выходили, сказал:
– Вчера видел твоего аманата. Негоже выглядит. Бородища черная, как у дьявола, и бешмет выцветший. Пришли его сюда, выпишу сукна. Только пусть явится без бороды.
Муравьев откланялся и ушел, счастливый, что рассчитался за поездку и что теперь ему наверняка вручат строевой полк. Только когда этот день наступит?
Воскресенье было солнечным. Весна во всю уже буйствовала в горах. Леса оделись в зеленое. На склонах появилась живность: лошади, козы, овцы. По берегам Куры двинулись с ружьями за плечами охотники, засидевшиеся за зиму. Косяки птиц летели над Тифлисской котловиной и опускались где-то за городом, на речных разливах. На подсохших кизячьих крышах забавлялась детвора. На папертях церквей грелись монахи. Лихо по улицам катились господские кареты.
В Александровском саду затевалось ристалище. Множество горожан сошлось и съехалось. В длинный ряд стояли коляски всех мастей, а за оградой – в аллеях, возле площади, – толпились сотни зевак. Господа свитские заняли лучшие места – в плетеных креслах под деревьями – -и следили за приготовлениями конников, ждали – должен был приехать Алексей Петрович.
Впервые в конных состязаниях участвовали Амулатбек и Якшн-Мамед. Накануне Верховский упросил командующего, чтобы разрешил им взять из конюшни жеребцов, Ермолов согласился и велел подать Якши-Мамеду туркменского скакуна Кара-Куша. Командующему захотелось взглянуть на красавца жеребца в деле.
Прохаживаясь по аллеям в ожидании начала состязаний, Муравьев обратил внимание на моряка и даму. Он был в офицерской форме, она – в длинном черном платье и шляпе с вуалью. Держа ее под руку, он вышагивал осторожно, будто она была больна. Что-то очень знакомое почудилось Муравьеву в их фигурах. Когда они приблизились, Муравьев узнал в моряке лейтенанта Остолопова.
– Вы ли, Аполлон Федорович?!
– Боже, Николай Николаевич! А я ведь был уверен, что обязательно повстречаю вас в Тифлисе. – Остолопов поздоровался с полковником, представил жену:
– Люси... Моя жена... Вы должно быть помните...
– Как же, как же, – улыбнулся Муравьев, целуя ей руку.
Люси была немножко бледна. Во взгляде ее скользили едва уловимые штришки материнской нежности. Муравьев догадался – она беременна.
– Какими судьбами, Аполлон Федорович?
– Да все за старое тревожат.
– Простите, но я не знаю, о каком старом вы говорите?
– Да о муке, которую в первую еще экспедицию купцу Мир-Багирову сбыли, – и Остолопов принялся рассказывать во всех подробностях, как это произошло. Медленно они прохаживались по аллее, вовсе забыв о ристалище, которое уже началось: слышались возбужденные голоса и выкрики зрителей.
– Как видите, Николай Николаевич, веревочка привела к купцу Иванову. Он, оказывается, зачинщик всего.
– Но вы-то при чем? – удивился Муравьев. – На месте Алексея Петровича я и спрашивать с вас не стал бы.
Остолопов улыбнулся:
– Да он меня к ответственности и не привлекает. Еще прокурор Каминский, когда вел расследование, во всем оправдал.
Муравьев сразу вспомнил морозные дни в Баку после Приезда из Хивы, сухощавого прокурора, с которым пил ром по дороге в Дербент. Остолопов продолжал:
– Вызван я сюда как свидетель, дабы уличить в мошенничестве Иванова. Но представляете мое положение, Николай Николаевич.
Муравьев, поняв, что лейтенанту ничего не угрожает, сразу обратил внимание на крики толпы и предложил молодоженам пройти в кресла и посмотреть состязания. Они прошли под навесы, к трибунам. Верховский поманил рукой Муравьева, но место было свободное только для одного, и Николай Николаевич усадил жену моряка. Сами они встали сбоку а, глядя на «кабахи», продолжали тихонько разговор.
– Так что же вас угнетает? – спросил Муравьев.
– Не ясно, Николай Николаевич, сколько придется жить в Тифлисе. Я ведь добился отставки. Собрался было выехать с женой в свой Воронеж.
– Как! Вы разве воронежский?! – удивился Муравьев.
– Оттуда. Там у меня небольшое отцовское имение, – Ну, так даст бог, свидимся когда-нибудь в Воронеже, – улыбнулся Муравьев. – У меня там родитель проживает... старик мой... генерал-майор.
На время они прекратили разговор и предались общему вниманию. На старт выехал на вороном коне Якши-Мамед. Славу об этом жеребце уже давно разнесли по Тифлису, хотя никто пока не видел его скаковых достоинств. Только однажды – летом прошлого года – Ермолов выезжал на нем в Мцхету. Тогда горожане впервые увидели Кара-Куша и по достоинству оценили его стать. Теперь на нем восседал молодой туркмен, уроженец той страны, где родятся такие красивые кони. Он был в белом тельпеке и красном полосатом халате. Зрители восхищались и конем, и наездником одновременно.
Кара-Куш черным лебедем выплыл к колоколу, перебирая передними ногами и легко вставая на дыбы. Якши-Мамед, ловко держась в седле, похлопывал его по шее, что-то говорил тихонько. Зрители переводили взгляды с всадника на командующего. Он сидел в окружении княвей и генералов в первом ряду и снисходительно улыбался. До этого уже было произведено несколько заездов. Победителями в «кабахи» вышли сын князя Орбелиани, Амулат-бек и еще двое грузин. Якши-Мамед должен участвовать в пятом заезде. О «кабахи» он до этого, если не считать, что видел состязания, представления никакого не имел, хотя стрелял из лука отменно. Он понимал, что метким выстрелом зрителей не удивишь, а ему хотелось выделиться среди других. Он вопрошающе посмотрел на судью у колокола, снял лук, вложил стрелу, и, дождавшись звонка, черным вихрем помчался к каменному столбу, на котором торчал шар. Конь скакал приплясывая и высоко задирая голову. Седок встал на стремена, чтобы лучше видеть цель, но крутая шея коня заслоняла к дорогу, и каменный столб с шаром. Якши-Мамеду оставалось одно – стрелять сбоку, поравнявшись с «кабахи». Но какой от этого эффект? Решение пришло мгновенно. Якши, высвободив ноги из стремян, встал в седле на колени и вдруг вытянулся во весь рост и на полном скаку сразил шар на столбе. Так же мгновенно он опустился в седло и, радостно размахивая белым тельпеком, поскакал назад. Зрители аплодировали ему, выкрикивали слова приветствия. И он, переполненный счастьем победы, чтобы еще раз увидеть тифлисцев, бросил шапку наземь, отъехал в сторону, к самому забору и, пустив коня вскачь, бросившись вниз головой с седла, держась каким-то чудом в стремени, схватил папаху и мгновенно выровнялся в седле. Публика неистовствовала от восторга.
– Это сын Кията... Не узнали? – спросил Муравьев, склонившись к Остолопову. – Нынче у меня живет.
– Да что вы? – удивился моряк. – Неужто он?
– Он, он! Лихой джигит. Любому здесь фору даст. Туркмены ведь с самого рождения в седле.
Было еще несколько заездов. Но после того, что проделал Якши, все остальное не вызывало у зрителей большого интереса. Многие стали покидать кресла и скамейки. Остолопов с женой тоже ушли, договорившись назавтра встретиться. Муравьев с Верховский подсели к командующему.
– Каков аманат! – с восторгом сказал Николай Николаевич.
– Молодец! Молодец! – согласился Ермолов. – Вижу, не зря ты его сюда привез. Весь в отца... Между прочим, вчера получен рапорт от Рубановского. Сообщает, что у туркменских берегов потерпел крушение каш шкоут. Кият отличился при спасении экипажа.
– Как же сие случилось?
– Подробностей пока нет... Но видит бог, туркмены еще не раз нам сослужат добрую службу, – и командующий посмотрел на площадь, где затевалась грузинская игра цхенбурти.
– Великолепное зрелище, – сказал он, вставая. – Жаль, времени нет развлекаться, – и, кивнув господам, направился к выходу, Свита двинулась за ним.
У ворот сада Муравьев опять увидел Остолоповых. Придерживая жену под руку, он высматривал извозчика. Муравьев сказал командующему:
– Алексей Петрович, позвольте спросить. Некто лейтенант Остолопов дважды участвовал в поездках на восточный берег. Ныне, по вашему приказанию, находится в Тифлисе... по делу купца Иванова.
– Ну и что?
– Положение у него незавидное. Жена беременна. А он не знает, когда получит разрешение на выезд.
– Пусть выезжает, больше он мне не нужен, – отозвался генерал. – -С купцом – дело путаное. Эту шельму голыми руками не возьмешь. Прямых улик в мошенничестве с покупкой Куры нет... А мукой займешься – глядишь ниточка к астраханскому губернатору приведет. Ну их к дьяволу,
– Позвольте, я передам ваше согласие Остолопову?
– Пусть зайдет, подпишу выезд.
А через несколько дней неожиданно – неприятность.
Муравьев проводил занятия с квартирмейстерами, когда штабист пригласил его к командующему. Войдя в светлый, с распахнутыми шторами кабинет, Николай Николаевич увидел на диване Верховского. Он сидел с опущенной головой. Ермолов, хмурясь, рассматривал бумаги и посасывал чубук. Командующий слышал, как зашел и доложил о себе Муравьев, но обратил на него свой взгляд не сразу – с некоторым промедлением, – будто боялся обидеть чем-то. Выговорил сердито: – Волконский отказал – и прибавил, помедлив: – И тебе, и Верховскому.
– Но отчего же, Алексей Петрович?
– Не знаю. Но мотивировка дельная. Вот читай.
Муравьев взял письмо из рук командующего, прочитал. Волконский сообщал, что, хлопоча о переводе на строевую службу Верховского, он заходил по сему поводу к государю. Тот отказал, заметив: «Пусть сперва подучится фронтовой службе на правах подчиненного, а тогда можно будет поручить ему полк». С письмом Муравьева по этому же вопросу Волконский идти к государю не решился.
– Что же теперь, Алексей Петрович? Неужто весь век сидеть в квартирмейстерах? – с обидой выговорил Муравьев.
– Нет, Николай Николаевич, не будешь сидеть в квартирмейстерах, – вздохнул командующий. – Примешь полк у Ладинского. Но не сейчас и не сразу. Лето проведешь на постройке крепостцы в Тарках.
– А Евстафий Иваныч как же?
– С ним мы договорились.
Верховский скучно улыбнулся:
– Остаюсь при Алексее Петровиче. Едем в Карабах.
Ермолов, почувствовав подавленность Верховского, одернул его строго:
– Не терплю кисейность, Евстафий... Сказано: при первой возможности получишь – значит, так и будет. Ступайте оба...
Перед отъездом Муравьев несколько дней провел в обществе своих друзей-вольнодумцев. Много было переговорено обо всем: о командующем и предстоящем вояже. Дважды в эти дни Николай Николаевич побывал в гостях у молодой четы Остолоповых. Грустная миловидная Люси с искренней заботливостью ухаживала за именитым гостем и очень сожалела и сокрушалась, что не может здесь, в казенном трактире, угостить его как следует: ничегошеньки под руками нет – ни осетринки, ни солений. Приглашала его навестить, как будет он в Воронеже, поместье Остолоповых и обещала, что Аполлон Федорович непременно сводит его на родник, где ходят пить лоси. Николаю Николаевичу легко было в обществе молодоженов. Вспоминая свое первое путешествие, он жалел, что тогда не распознал в этом моряке благородную душу. Поехать они сговорились вместе, при первой же возможности, причем все хлопоты по устройству карет Муравьев взял на себя.
Десятого мая отправились в путь.
Оказия в сотню разных повозок растянулась по каменистой дороге на полверсты. Впереди – отряд казаков с пушчонкой в упряжке, позади тоже казаки. Ямщики изредка подхлестывали лошадей, покрикивали привычно. По тропе, рядом с дорогой, пастухи гнали скот. Серая каменная пыль оседала на коляски, проникала через двери и оконца внутрь.








