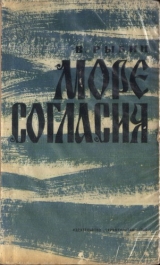
Текст книги "Море согласия"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 42 страниц)
Франциска опознали казаки Табунщикова – по камзолу, белым чулкам и желтым башмакам,– голодные стервятники выклевали глаза и обобрали тело до костей.
Полковник, не слезая с лошади, посмотрел на жалкие человеческие останки, подумал: «А Мадатов считает его живым и надется на что-то...»
Постояв, казаки двинулись дальше по узкому горному ущелыо.
Спустя неделю, Табунщикову удалось из уст пленного кавказца узнать историю гибели Франциска. Отправленные с Ата-ханом для уничтожения Суркая, они благополучно Добрались до самого ханского дворца. Хан принял их, но через некоторое время, проведав, что оба были в руках Мадатова, – приказал – Ата-хану отрубить голову, а Франциска проводить назад. Люди Суркая проводили его до Черного ущелья и сбросили в пропасть.
Узнав эту историю, Табунщиков тотчас сообщил Мадатову. Тот, не вдаваясь в подробности, доложил о срыве операции Ермолову.
Командующий хмуро прочитал депешу, сказал про себя «ну что ж» и занялся другими делами.
Штаб-квартира командующего была расположена близ Тарков. Отсюда он, окруженный свитскими офицерами и отрядом казаков, ездил по линии фронта, давал распоряжения. Здесь допрашивал пленных, сюда отовсюду к нему шли депеши, приезжали курьеры из полков и отдаленных эскадронов и рот.
В последний день декабря командующий остановился в пятидесяти верстах от Тарков на станции Параул. Местечко это ничем не отличалось от других горских аулов, но славилось старой мечетью, куда иногда приезжал помолиться сам тарковский шамхал Мехти-хан. Мечеть была огорожена высоким забором, за ней громоздились постройки, украшенные изразцовой керамикой, и огромный купол. Охрана Ермолова расположилась во дворе, в подсобных пристройках. Сам генерал со свитой занял теплые кельи, между которыми пустовала большая молитвенная зала с фонтаном. В келью Ермолову поставили две раскладные кровати, стол и кресла. Затопили мангал. С дороги Ермолов охотно присел к огню, дав рядом место полковнику Верховскому.
– Снег опять ночью будет... Холодом так и тянет, – сказал Ермолов, потирая руки.
– Мерзкая погода, – согласился полковник. – Солдаты давно поговаривают о зимних квартирах.
– Как лезгины спустятся с гор, так и мы зимовать уйдем, – с безразличием отозвался Ермолов. – Сейчас не о квартирах надо думать, а об укреплении войсковых рядов. Зима сгонит с вершин абреков, но ведь они не с поднятыми руками слезут. Саблями махать будут, Евстафий Иваныч! А слезут на днях, а то и раньше. Чувствуешь? – Ермолов, со скрещенными на груди руками, подошел к окну и указал подбородком на хмурый зимний вечер. Там, за окном, наваливались сырые сумерки и северный ветер ошалело раскачивал верхушки тополей.
– Да... – скучно произнес Верховский и прислушался. С улицы ясно донесся звон колокольчика: видимо, приехала почтовая карета.
– Из Дербента, – сказал Ермолов.– По колокольцам знаю...
Действительно, вскоре адъютант сообщил, что прибывшая из Дербента почтовая коляска доставила на имя главнокомандующего пакет. С этими словами он протянул Ермолову засургученное письмо. Командующему ежедневно приходилось читать множество подобных казенных бумаг. И сейчас он, приняв письмо, поморщился и отдал Верховскому.
– Прочитай-ка, Евстафий Иваныч... А ты, братец, с ужином поспеши, – напомнил Ермолов адъютанту.
– От Пономарева, – рассматривая письмо, осведомил Ермолова полковник и спросил: – Это не тот, что на Восточный берег подался?
– Ну-тка, дай сюда...
Ермолов развернул листок и быстро стал читать. Пробежав несколько строк, генерал поднял на полковника глаза, сказал заинтересованно:
– От него, Евстафий Иваныч... Именно от того самого Пономарева.
– Любопытно... Что же он сообщает?
– Вести хорошие, Евстафий... Поди-ка скажи, чтобы придержали карету. Отошлем курьера назад, в Дербент... Надо поздравить Муравьева...
Верховский быстро вышел и так же быстро вернулся. Ермолов без него успел достать лист бумаги из планшетки и поставил на стол чернильницу с гусиным пером. Верховский, спросив разрешения, начал читать рапорт Пономарева, в котором сообщалось, что гвардии капитан Муравьев благополучно возвратился из Хивы с послами от туркмен и Мухаммед-Рахим-хана. Пономарев спрашивал, как поступить ему дальше. Возвращаться в Тифлис или же его превосходительство прикажет везти хивинских послов в Дербент, равно как и делегатов-туркмен с прошением на имя главнокомандующего... Ермолов не дал дочитать письмо до конца, сказал:
– Ладно, Евстафий Иваныч, время не ждет... Ей-богу, давно уже столько радостных вестей не получал. Боялся за Муравьева... А он, как всегда, оказался молодцом. Садись пиши...
Верховский обмакнул перо в чернильницу. Ермолов повторил:
– Пиши... С почтением смотря на труды ваши, на твердость, с какою вы превозмогли и затруднения, и самую опасность, противоставшие исполнению возложенного на. Вас важного поручения, я почитаю себя обязанным представить всеподданнейшего государю-императору об отличном усердии вашем в пользу его службы. Ваше высокоблагородие собственно мне делали честь, оправдав выбор мой исполнением столь трудного поручения...
– Все, Алексей Петрович? – спросил, распрямившись Верховский.
– Да... Все... Припиши еще, что мы ждем Муравьева с послами в Дербенте.
Дописав и запечатав поздравительную, Верховский вышел из кельи, отыскал курьера и велел ему поутру отправляться назад в Дербент. Там передать депешу главнокомандующего капитану пакетбота Еремину, дабы тот срочно ее доставил в Баку. Распорядившись, Верховский вошел в другую келью – к свитским офицерам. Те уже пообедали и лежали на ковре. После долгих разъездов по дагестанским долинам всем хотелось отдохнуть и по-домашнему согреться. Никто даже не думал, что с каждой минутой приближается новый год и. что надо бы его встретить, как подобает: шампанским и песнями. Верховский напомнил господам об этом. Сказал:
– У меня есть небольшой запасец рома. Да и Алексей Петрович не все свои запасы поизвел. Давайте-ка, братцы, как бывало... Только, чур, не ждите особого приглашения... Действуйте сами... И еще, господа, обязан вас известить, что его высокоблагородие гвардии капитан Муравьев вернулся живехоньким, о чем получен рапорт...
– Как!?
– Неужели!?
Воейков и Боборыкин вскочили с ковра. Верховский, кому Муравьев был дорог как друг, как брат, начал с радостью рассказывать о получении пакета и ответном письме, какое направил Муравьеву Алексей Петрович...
– К черту все! – радостно покрикивал Воейков, надевая мундир. – Шампанского!.. Немедленно!.. Сейчас же!.. Я-то думал, этот новый год пройдет у нас незаметно, ан нет... Молодец, Николай...
Боборыкин, собравшись быстрее друга, выскочил на улицу и – во двор, к карете с провиантом. Отыскав возницу-казака, сидевшего с компанией в душно натопленной пристройке, он приказал нести ром и шампанское... Тот бросился к походной кладовой.
С бутылками й холодной закуской офицеры возвратились в мечеть. На полу молитвенной залы, возле замерзшего фонтана, расстелили ковры. Кто-то предложил вытащить из кельи стол. Верховский между тем сообщил Ермолову, что свитские затевают новогоднюю томашу, и спросил, как он смотрит на это.
– А чего спрашивать! – мгновенно согласился командующий. – Одобряю... Только усильте караулы, Евстафий Иваныч... Как бы горцы не налетели на пьяную лавочку.
Настроившись на праздничный лад, генерал вскоре вышел к свитским и предложил выпить за возвращение Муравьева. Офицеры охотно поддержали генерала. Ермолов поднял бокал, оглядел всех и сказал с гордостью:
– Лестно видеть, друзья, в рядах моего воинства, в свите моей, офицеров, подобных Николаю Муравьеву... Не он первый, не он последний, выпьем и за того, кто на очереди, кому предстоит свершить подвиг, достойный подвигу Му-равьева!
Компания засуетилась в радостном возбуждении. Вновь зазвенели бокалы. Воейков тотчас принялся хвалить Николая Муравьева, как наилучшего друга, вокруг которого организуется общество. Компания согласилась с ним. В разговоре стали упоминаться имена членов тайной артели. Заговорили о Якушкине, Бурцове, О Муравьевых-Апостолах, наконец о родном брате Николая Муравьева – Александре, кто значился в руководителях священной артели...
Ермолов слушал господ офицеров сначала с рассеянной улыбкой, затем насупился. Подобные разговоры несколько шокировали его. Он знал, что вот-вот начнут возвеличивать его самого – вольнодумца-генерала, кто участ вовал в заговоре против царя, чье имя произносилось вкупе со Сперанским. Он хорошо был осведомлен, что существуют в России тайные общества вольнодумцев, но делал вид, что ничего не знает. Когда открыто заговаривали о Священной артели, Ермолов смотрел на все разговоры, как на детскую игру с огнем. Но между тем генерал знал, какая сила таится в офицерских кругах.
Сейчас он почувствовал эту силу и насупился. Он думал, что с каждым из этих вот офицеров смог бы поступить, как ему заблагорассудится, но все вместе они составляли весомую силу. Весомость эта давила на сознание генерала, за-ставляя заботиться о самом себе. Крещеные в огне войны с Наполеоном, эти вот русские храбрые офицеры героизмом своим воздали хвалу и славу Ермолову. Они смогли его возвеличить и вознести своим героизмом, но они же могли и убрать его при желании. Воспитанные на учении французских просветителей – Монтескье, Вольтера, Руссо, они жаждали видеть Россию свободной от многовекового самодержавия, сбросившей путы крепостничества, освободившейся от голода и нищеты. Ермолов хорошо понимал, что противостоять этой силе бессмысленно, но сдерживать ее необходимо... Особенно сейчас, когда либерализм и демократия только мешали генералу. Эти же вот свитские офицеры за спиной главнокомандующего обвиняли его в чрезмерной жестокости к горцам и даже всевозможными намеками давали понять, что осуждают его варварские действия. И он в душе соглашался с тем же Верховским, Воейковым, Боборы-киным. Но будь он не генералом, не главнокомандующим, Ермолов сказал бы своим младшим друзьям– какого мнения о нем там, в сенате. Царь Александр неоднократно заводил разговоры о ненужном либерализме Ермолова. Где-то в престольных кругах уже ходили слухи, что Ермолов просто-напросто бесталанный военачальник: другой бы на его месте давно заставил смириться кавказцев, а этот запросил дополнительные полки. Толки и намеки на организаторскую беспомощность особенно шокировали Ермолова. Приходилось огнем и мечом отвоевывать былую славу воина-полководца, нажитую в Отечественной войне 1812 года. Осенью этого года ермоловский корпус разорил десятки аулов. Сотни горцев были уничтожены: убиты в бою, казнены или расстреляны. И чем грознее и бесчеловечнее расправлялся с кавказцами командующий, тем сильнее они давали отпор...
В последние дни только и было разговоров – отвести войска на зимние квартиры. Говорили об этом в походных палатках казаки и младшие офицеры. Напоминали об этом главнокомандующему его свитские. Ермолов отмахивался или, того хуже, обрывал подобные речи запретом говорить об этом. Вот и теперь, когда опять затеялась «говорильня», Ермолов не подавая вида, что он рассержен, вышел из мечети.
Темная беспросветная ночь лежала над Дагестаном. Сильный северный ветер жестко шумел в деревьях. Холод залетал под расстегнутый мундир и генерал застегнулся на все пуговицы. Ермолов пятерней потер щеки и с неприязнью подумал, что сейчас наступит новый год, а ведь он даже не побрился. Сквозь окно слышались хмельные голоса расходившихся офицеров. Говорили о нем, о Ермолове: ясно доносился голос Воейкова, что жестокосердие не что иное, как разновидность беспомощности. Боборыкин согла шался со своим другом. Верховский и другие одергивали «петухов», напоминали, что, право бы, не стоило говорить столь дерзкие речи в присутствии самого Алексея Петровича. У каждого, де, есть свои слабости. Неизвестно, как бы повел другой, будь на месте Ермолова.
Генерал саркастически усмехнулся, выругался:
– Барышни кисейные... – И направился в мечеть.
При его появлении офицеры притихли и тотчас заговорили о другом, но Ермолов уже настроился на сердитый лад. Он с трудом дождался двенадцати ночи, поднял со всеми вместе бокал за наступивший новый, 1820 год, и ушел в келью. Там лег, не раздеваясь, на кровать и укрылся буркой.
Верховский вошел к Ермолову под утро. Тихонько стал раздеваться. Генерал с усмешкой спросил:
– Ты-то, Евстафий Иваныч, надеюсь, не судишь меня за излишнюю жестокость?
– Да ну что вы, Алексей Петрович, – пьяно проговорил Верховский. – Бить, бить, бить всех надо... Тотчас он свалился на кровать и разразился тяжелым пьяным храпом.
Утром генерал чуть свет был на ногах. На дворе похолодало. В горах шел снег. Ветер заносил и сюда мелкие колючие снежинки. Ермолов приказал готовить повозку и вызвал Воейкова. Тот, неумытый, с опухшими глазами, предстал перед главнокомандующим.
– Ты что, шельма! – взревел генерал.– Смеяться надо мной вздумал! Ну-ка ступай застегнись и приведи себя в порядок. Ровно через три минуты чтобы был здесь.
Воейков понял, что главнокомандующий не шутит. Он опрометью выскочил из кельи и тотчас вернулся подтянутый, готовый ко всему, что ему прикажут.
Ермолов стоял к окну лицом и не повернул головы.
– Поедете вместе с Боборыкиным в Дербент, – сухо сказал генерал. – Впереди предстоит большая возня с лезгинами... Не по вашим нервам.
– Алексей Петрович!.. – голос у Воейкова дрогнул.
– Пошел прочь! – еще раз рявкнул генерал, и Воейков поспешно удалился.
Вскоре со станции двинулась крытая повозка. Ветер взвихривал над ней сыплющийся сухой снег. Лошади бежали резво – холод подгонял их. Коляску сопровождал отряд казаков. В ней сидели Воейков, Боборыкин и офицер-фельдъегерь...
Ермолов со свитскими и охраной покинули станцию в полдень, когда все хорошо отдохнули и были готовы к длинному утомительному пути.
ПОСЛЫМуравьеву вручили письмо командующего в начале ян-варя. Тотчас он вместе с послами сел на корвет. О Пономареве в письме не было сказано ни слова, и майор решил – самое лучшее ехать в Гянджу. На пристани он простился с Муравьевым и ушел собираться в дорогу.
На корвете «Казань» отправлялись в обратный путь оренбургские чиновники. Поднявшись на палубу, они тотчас вошли в каюту и, не дожидаясь отплытия, раскупорили «бутылочку». Каминский выбрался на палубу, когда корвет шел уже вдоль берегов Апшерона. Серый, невзрачный Баку на склонах гор, окутанный зимней дымкой, был едва различим. «И слава богу, – с облегчением подумал Каминский, – побыстрей бы уплыть из собачьей дыры!» Четырехмесячное пребывание в этом городе оставило в его душе полнейшее разочарование солнечным югом. Нигде, даже в Оренбурге, не наблюдалось таких беспорядков, как здесь. Ложь, обман, взяточничество, унижение мусульман. И моряки – кадровые офицеры – не были похожи на тех русских моряков, открывающих необитаемые земли. Здесь служили моряки-торговцы, моряки-барышники, забывшие о чести и долге...
Следователь думал о лейтенанте Остолопове – честном русском моряке, волей судьбы попавшем в это гнилое болото, и жалел его, как родного сына. В глазах Каминского все еще стояла гнусная картина дачи взятки. Остолопов ввалился в номер, подал акт о списании краденой муки, а вместе с ним пачку кредиток. Сначала следователь не понял – что это. Но когда ознакомился с документом и увидел деньги, гневно встал из-за стола, задрожал в исступле-нии и начал бить лейтенанта по щекам кредитками. «Как смеешь ты, лейтенант, офицер государства российского?!» Остолопоз стоял, зажмурив глаза, и не двигался с места. Он стоял, не меняя позы до тех пор, пока Каминский не . успокоился. Опомнившись, следователь сказал «извините, сударь», достал из шкафа ром и налил в рюмки – себе и моряку. «Деньги – прочь, – сказал он сухо. – Отдай тому, у кого взял и не пачкай рук... Акт оставь...»
Каминский подписал акт и на другой день занес в номер к Остолопову. Выходя, признался: «Только ради тебя, лейтенант... Прост ты и доверчив... А простота – хуже воровства... Ну, да ладно, что было – то быльем поросло. Пиши рапорт, помогу тебе выбраться из этой ямы. А таможенному не прощу. Столько у него больших и малых грехов, что нельзя ему доверять пограничную службу... Предаст, каналья... За два серебренника предаст...»
Прервали его раздумья подчиненные, тоже вышедшие из каюты подышать свежим ветерком. Остановились рядом, у борта. Они смотрели на зеленые с белыми гребешками волны и судачили – каким бывает девятый вал. Каминский, почуяв, что сейчас и его вовлекут в никчемный разговор, отошел прочь и остановился возле капитана Муравьева. Он много слышал о нем, знал о его поездке, но знаком не был. Подойдя, следователь представился, назвал свой чин, фамилию и коротко объяснил, зачем он приезжал в Баку. Муравьев козырнул – тоже назвал фамилию. Следователь спросил:
– Нашего посла, случаем не встретили там, в Хиве? Николай Николаевич с любопытством взглянул на Каминского. Тот поспешно добавил:
– Да, да, капитан... Как раз накануне моего отъезда из Оренбурга был слух, будто его превосходительство Эссен то ли собирался послать человека в Хиву, то ли уже отправил...
– Если это и на самом деле так, – ответил Муравь ев, – то становится понятным истинная причина столь недоверчивого обращения хана со мной. Представьте, в Хиву прибывают сразу два посла. Тут любого хана можно сбить с панталыку: что за нужда заставила русских слать послов одного за другим?
– Не угодно ли, капитан, по рюмочке? – предложил Каминский. – У меня в каюте отменный француз-ский ром...
– Спасибо, я не пью, – отказался Муравьев и продолжал начатый разговор.– Любопытно, знал ли Алексей Петрович об этом, отправляя меня в Хиву?
– Не знал, смею вас заверить, – ответил Каминский. – А Эссен проведал о новой затее Ермолова и, видимо, решил опередить его. Служба – она обязывает конкурировать, особенно их, генералов. Хива ведь отстоит от Оренбурга не далее чем от Тифлиса. Почему бы Эссену и не послать свою экспедицию?
– А Нессельроде, а государь?! – мгновенно возразил Муравьев. – Разве без их ведома можно такое?
– Ай, что там государь, – пренебрежительно высказался Каминский. – До этого ли ему, малоуважаемому Александру Павловичу. Ныне он перед Европой щеголяет... Когда уж ему думать о своем лапотном отечестве!
– Вы каким образом оказались в Оренбурге и давно ли? – осторожно спросил Муравьев.
Следователь тоже с осторожностью заглянул капитану в глаза, помедлил и сказал сухо: – Давно, господин капитан... По делу Сперанского некоторым образом проходил... Сослан, так сказать...
– Раньше в Петербурге проживали-с?
– Да, разумеется... Не угодно ли, капитан... Даю вам слово – у меня чудесный французский ром...
Муравьев согласно кивнул. Каминский взял его под руку и повел в каюту...
Корвет подошел к Дербенту на следующий день. Места у крепости были мелкие. Якорь бросили в трех верстах от берега, переправились на сушу в баркасах. На пологом, усыпанном ракушкой берегу, гостей встретили командир Куринского полка Швецов, армянин Муратов, выехавший сюда раньше для подготовки жилья, и множество горожан, сбежавшихся взглянуть на азиатских послов.
Азиаты, в свою очередь, оглядывали громоздкие дербентские стены, башни и от удивления цокали языками. Вряд-ли им где-то еще приходилось видеть подобную крепостную мощь. Поражали гостей и городские постройки, сплошь из крупного горного камня: мрачные, с синими куполами, мечети, громадная грегорианская церковь и, как венец всему этому, величественный ханский дворец...
В Куринском полку Муравьева встретили Воейков и Боборыкин. Николай Николаевич решил, что и главнокомандующий тут...
– Простите, господа, – заторопился он, вырвавшись из объятий друзай, – мне надо представиться Алексею Петровичу!
– Нет его в Дербенте, – хмуро сообщил Воейков. Боборыкин тотчас рассказал о случившемся на станции Параул. Воейков добавил:
– Жестокосердие генерала необыкновенно. Командующий применяет в войне такие способы, какие прочим полководцам и не снились...
– Знал бы ты, Николай Николаевич, об отравлении Шекинского хана – такая мерзость! – отчаянно высказал Боборыкин.
– Как! Хан отравлен? – не поверил Муравьев.
– В том-то и дело. Но и это не все! Воейков пояснил:
– Командующий изобрел сам или перенял у кого-то пресловутую «круговую поруку». Когда пришли в Дагестан, за одного убитого русского брал десять чеченских жизней. Теперь за одного целое село приказывает уничтожать. Горцы, дабы всем не погибнуть, сами расправляются с тем, кто поднимает руку на русского... В этом и есть – круговая порука. Где же человечность, гуманность 'та, какую мы видели от Алексея Петровича в своем кругу...
Муравьев слушал и не верил.
Главнокомандующий возвратился в Дербент в середине января. Злой и осунувшийся от бессонницы и бесконечных странств'ований, он, однако, обошелся с Муравьевым по-дружески. При встрече обнял, сообщил тут же, что направил в Петербург депешу об успешной поездке в Хиву, и пожелал видеть закаспийских гостей.
Вскоре полковая канцелярия заполнилась свитскими офицерами и командным составом. Ермолов с Муравьевым, Верховским и Швецовым сели за стол. Кията, сына его Якши-Мамеда, хивинцев Еш-Назара и Якуб-бека усадили напротив, в зеленых креслах. Ермолов спросил, есть ли у послов письма их государей к главнокомандующему Кавказа. Еш-Назар тотчас, как только Муравьев ему перевел суть сказанного, вынул из-под халата пергаментный свиток и, поклонившись, передал главнокомандующему. Ермолов сорвал печать, развернул свиток и, поморщившись, передал писанину Муравьеву:
– Ну-ка, капитан, переведи, тут по-татарски писано... Николай Николаевич с некоторыми запинками, но довольно членораздельно прочитал:
– Отец победы Абдул-Гази-Мухаммед-Рахим-хан приветствует высокостепенного и высокопочтенного главнокомандующего Ермолова, который да будет монаршей нашей милостью отличен и да ведает:
Усердное письмо об обращении по дружбе и знакомству, присланное с Н. Н. Муравьевым, предстоящие при дворе нашем чиновники получили, и содержание оного стало известно...
– Ты что же, выходит не сам отдал моё письмо хану? – спросил Ермолов.
Муравьев смутился и нахмурился. Сказал изысканно-вежливо:
– Ваше превосходительство, будьте любезны дослушать послание до конца. О моих походах, если пожелаете, я расскажу...
– Читай... – Ермолов сверкнул серыми пронзительными глазами.
Муравьев продолжал чтение:
– Что касается до писания твоего, чтобы основание дружбы было возобновлено и утверждено через продолжение между нами сношений и старанием обеих сторон, купцы имели бы открытые пути и спокойно пользовались бы торговлей, то по сему делу будь известен, что ныне караваны и купцы безопасно и спокойно ездят в сторону крепости Янгийской и астраханского владения. А как иомудские и гокленские народы некоторые служат нам, а другие каджару, то, когда по воле божьей поступят и они под власть нашу, тогда может исполниться то, что угодно будет богу...
Написано в столичном городе Хиве и отправлено сие почтительное письмо в лето хиджры 1235 (1819) месяца декабря. Впрочем, какие есть словесные поручения, оные перескажут доверенные наши Хак-Назар-юзбаши и Якуб-бек...
Муравьев скатал послание хивинского хана в трубочку и передал Ермолову. Тот положил свиток на стол. Некоторое время разглядывал хивинских послов, затем сказал:
– Ну, а каково же письмо туркменского государя... или хана?
Кият поднялся с кресла. Высокий, сутулый, с пышной седой бородой, он посмотрел в глаза Ермолову, ответил гордо:
– У нас нет государя и хана, ваше превосходительство. Туркмены – народ вольный. Каждый живет сам по себе, а подчиняется только старшинам. Я – старшина однога колена племени иомуд, что живет в Гасан-Кули, на острове Челекен, да еще на Дардже есть немного людей. Я от своего народа – племени иомуд, доверившего мне вручить послание, вручаю, вот.
С этими словами Кият подошел к генералу и подал ему свиток, также скрепленный печатями.
Ермолов удивился, как хорошо туркменский старшина говорит по-русски. И сразу почувствовал к нему уважение. Подкупало в Кияте не только его знание русского языка, но и умение держать себя непринужденно, с аристократической осанкой.
Ермолов распечатал свиток и увидел две бумаги: на туркменском и русском языках. Прочитал бегло, свернул и сказал:
– С вами, Кият-бек, у меня будет отдельный разговор.– И, помолчав, опять обратился к хивинцам:– Так что же вы имеете ко мне словесно? Переведите им мои вопросы, Николай Николаевич.
После перевода слов командующего послы ответили, сначала один, затем другой, примерно одно и то же: Мухаммед-Рахим-хан просил показать его людям Кавказ и воинство кавказское, а также все интересное. Ермолов благосклонно согласился, понимая что хивинцы намерены прощупать мощь русских.
«Ну, что ж, – решил генерал, – если я им покажу силу России, то, пожалуй, хан хивинский впредь станет со мной говорить более мягким языком...»
– Я скоро поеду в Тифлис и возьму вас с собой, -зал Ермолов. И Муравьев опять перевел суть сказанного гостям. Затем генерал предложил им отдохнуть. Он освободил и полковых офицеров. Попросил остаться только Муравьева и Верховского. А Кияту, когда тот встал с крес-ла, сказал:
– Ты не спеши, Кият-бек... Поговорим с тобой. А сын пусть идет, гуляет. – Ермолов дождался, пока закрылась за офицерами дверь, и сразу перешел к делу.
– Люди твои, Кият-бек, судя по письму, хотят стать подданными моего государя. Что их заставляет идти на это? Лишения от персиян, голод... или другие какие причины?
– Все так, как сказано в послании нашем, ваше превосходительство, – сказал, вставая, Кият. Ермолов сделал знак рукой, чтобы сидел. Кият вновь опустился в кресло, продолжал: – Персияне – наши главные враги, от них житья нет...
Ермолов, глядя на Кията, соображал: «Объединить иомудов и поставить над ними главным Кията! С помощью организованной силы мы могли бы безбоязненно водить караваны через пески, в глубь Средней Азии, не опасались бы нападений кочевников. А в случае раздора с Персией, эта же организованная сила может выступить на русской стороне и наделать немалый переполох в стане врага, со стороны Астрабада...»
– Не только персы, но и Хива нас тревожит, – продолжал Кият. – В день прибытия из Хивы Муравьева караванщики распустили слух, будто Мухаммед-Рахим-хан собирает войско на персиян: прогнать их хочет из Кумыш-Те-пе, а нас подчинить себе...
– Много он захотел, этот Мухаммед, – небрежно проговорил генерал. – Если вас подчинит, то и нам крепостцу на том берегу не даст построить. Так ведь, Кият-бек?
– Истинно так...
– Стало быть, нельзя ему поддаваться!
– Голодом хочет взять, – сказал Кият. – Цену на хлеб в три раза повысил для туркменских купцов.
– Хлебом я помогу, – тотчас отозвался генерал.– В самое ближайшее время пришлю судно с хлебом, продадим вам хлеб по самым умеренным ценам... А там увидим. У нас говорят: поживем – увидим.
– Спасибо, ваше превосходительство, – признательно сказал Кият.
Ермолов вышел из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Кият тоже встал. Генерал, указав кивком на Верховского и Муравьева, сказал:
– Вот с ними, Кият-ага, общайся пока... У меня много дел. Как освобожусь – позову еще. Вечерком заходите все ко мне... на чай...
Вместе вышли во двор из казенного полкового помещения. Верховский повел Кията за ворота, в дом армянина Муратова, где разместились послы. Муравьева немного задержал командующий.
– Прости, Николай, – сказал он, – для личных дел вовсе времени нет, поговорить даже толком некогда. О походе твоем непременно все выслушаю... А пока говори, если ко мне что-нибудь у тебя есть...
– Да ничего такого нет, Алексей Петрович... Жалко вот – Пономарева обидели, не позвали к себе. Старик обижен...
– Ослушнику поделом,– твердо сказал генерал. – Он не выполнил моего приказа... Отказался.
– Я знаю об этом, Алексей Петрович, – отозвался Муравьев. – И думаю, кто же тот другой, что согласился на такое.
Ермолов грозно сверху вниз взглянул на Муравьева. Капитан ждал – сейчас генерал выругается. Ермолов набрал в грудь воздуха, выговорил сдавленно:
– Я не о согласии говорю, а о приказе...
Некоторое время шли молча. Обоим этот разговор был до крайности неприятен. У ворот, где топтались казаки – охрана генерала – Алексей Петрович остановился, сказал:
– А вообще-то, капитан, чую – зарядили тебя демократией эти голубчики – Воейков и Боборыкин. Барышни... Небось напели тебе, что и пленных вешаю, и аулы жгу под корень. Брось, капитан! Война – есть война. Она не для слабонервных. А кавказская – из всех войн – война. Здесь не только взрослый, но и ребенок чуть чего, за кинжал хватается.
– Все равно, Алексей Петрович, – хмуро выговорил Муравьев. – Все равно, милостью можно больше сделать...
– Ну и упрям же ты, голубчик, – со злостью засмеялся Ермолов. – Придется тебя бросить в горы, там ты узнаешь– что есть милость. – И генерал крупным шагом подошел к жеребцу и вскочил в седло...
Генеральская кавалькада выехала из крепости. Муравьев, пройдя квартал, постучался в двери дома армянина Муратова...
Вечером стало известно: командующий с отрядом казаков спешно выехал. Пришло известие от Мадатова, что Суркай-хан Казикумухский с десятитысячным войском спустился в долины Дагестана, разорил несколько казачьих постов. Ермолов, ни с кем не простившись, подался в лагерь к Мадатову.
Комендант крепости передал Муравьеву записку. Ермолов сообщал, что вряд ли в скором времени развяжется с делами, и велел со всеми послами ехать в Тифлис...
Через три дня две крытых кибитки под усиленной охраной двинулись на юг.
Погода была скверная. Шел мокрый снег. С Каспия дул холодный ветер. Колымаги продвигались очень медленно.
Муравьев нервничал и все время твердил, что на первом же посту надо сменить лошадей. Кият с сыном сидели в повозке напротив Муравьева. Тяготы пути они переносили довольно равнодушно. И когда Николай Николаевич начинал сердиться то на лошадей, то на мерзкую погоду, Кият недоуменно спрашивал:
– Неужто, когда в Хиву на верблюде ехал – легче было?
– Ну, не легче... Но, черт возьми, тут же не пустыня! – отвечал Муравьев. – Тут земля обжитая...
На первом же посту Николай Николаевич сменил лошадей, но повозки от этого не пошли быстрее. Наоборот, показалось, что подсунули ему каких-то кляч. И чем больше досадовал Муравьев, тем веселее держался Кият. Капитан понял, что малодушничает, капризничает, как мальчишка, устыдился самого себя. Кият, видя, что благодетель-капитан успокоился, весело произнес:
– Тише едешь – дальше будешь...








