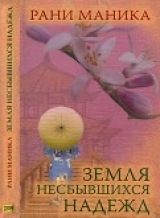
Текст книги "Земля несбывшихся надежд"
Автор книги: Рани Маника
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
– Не будь грубым, пожалуйста. Люби меня нежно, – прошептала она.
Мужчина, стоявший в темноте, был обескуражен. Люби меня нежно? Что это все означает?
А потом начался кошмар. Замерев, он следил за тем, как женщина, исключительно похожая на его жену, и мужчина, которому он заплатил, прильнули друг к другу и двигались так плавно, что сплетенные руки и ноги выглядели так, будто они принадлежат одной хорошо смазанной машине. Из ее эффектного рта не исходило ругательств, резких выкриков страсти или стонущих животных звуков, как это было, когда она была с ним, а лишь тихие вздохи и стоны, вырывавшиеся так, что в них безошибочно угадывалось глубокое наслаждение. И наконец, когда у нее наступил оргазм, это произошло мягко и красиво. Ее тело напряглось и дугой выгнулось назад, а голова откинулась, открыв изящную белую шею, как у умирающего лебедя.
– Теперь уходи, – мягко скомандовала она.
Официант надел свои брюки и немедленно удалился. Когда он ушел, она села и потянулась, как довольная кошка. Вытащила из своей сумочки сигарету, откинулась на подушки в полосе золотистого света и закурила в тишине с задумчивым лицом. Наблюдавший за ней мужчина не мог пошевелиться. Он стоял как пригвожденный на месте. Все эти годы она дурачила его. Ничего из этого не было настоящим. Животные вопли, хриплые крики «Сильнее, быстрее, глубже!» – все это было фальшивкой.
Он давно уже стал подозревать, что она постепенно перетаскивает деньги и имущество в свою семью, особенно в последнее время. Деньги регулярно переводились ее неотесанному и нечестному брату, много раз ее скупой мамаше и один раз даже ее сестре. Вероятно, есть у нее и собственный секретный счет. Муж стоял, трясясь от ярости. Сука. Грязная сука! Она собирается от него уйти.
Он уже забыл, что сам организовал эту случайную встречу с официантом, и предполагалось, что это будет его вторжение в новую область – извращений. А ей не нравилось видеть свою белую кожу покрасневшей от боли, потому что на самом деле она не любила в любви грубость. Он забыл, что сам медленно и ненавязчиво подсказывал, направлял и обучал ее трепетать и выкрикивать «Сильнее, быстрее, глубже!» Он хотел наказать ее и в тот момент уже знал, как это сделает.
Он уничтожит ее.
Жена растирала свою сигарету. Оцепенение спало, и, пройдя через соединяющую комнаты дверь, он аккуратно закрыл ее за собой. Тихо. Затем он услышал шум воды в туалете, шелест бумаги и звук открывающегося крана.
Дверь закрылась.
В голове у него вспыхнула мысль: он хотел увидеть все это еще раз. Хотел убедиться, что он все правильно рассмотрел. Он снова хотел увидеть ее, белую и задыхающуюся, под официантом. Ее реакция была так неправдоподобна, что все это было похоже на сон. Ну, конечно же, этого не было! Боже милостивый, она была его женой вот уже шесть лет! Это казалось невозможным, что он никогда раньше не видел эту ее сторону. Да, он хотел проделать все это еще раз. Он должен быть уверен, что это ему не привиделось.
Так он убеждал себя, но знал, что правда заключалась в ином: ему просто хотелось снова увидеть ее с другим. Настоящая правда была в том, что ему это понравилось. Он отдал свою собственную кровь и испытал редкое наслаждение. Он не был эрудированным человеком, но подсознательно понял, что с ним происходит. У человека нет универсальной защиты от боли, которую он испытывает. Единственный способ, отдаленно напоминающий такую защиту, заключается в том, чтобы превратить пытку в удовольствие. Это главное тесто, из которого выпечен мазохизм. Глаза на его лице застыли. Это ее вина, что он пошел по такому тернистому пути. Он даже не был готов принять в себе садиста; мазохист тоже может убираться к черту. Он не хотел продолжать следовать по этой жуткой дорожке. Ни в коем случае. Нет, он не будет повторять эксперимент; он просто сделает ее нищей, ее и всю ее семейку. Он быстро прошел через комнату, закрыв за собой дверь, сбежал вниз по лестнице и выскочил через центральный вход.
…Знаете, самым сложным было сидеть на кровати, без моего расшитого бисерного жакета, и спокойно курить сигарету. Следить за тем, чтобы руки у меня не тряслись, зная, что он находится в соседней комнате и наблюдает за мной. «О Господи, пожалуйста, пусть ему будет настолько противно, что он разведется со мной!» В окно я видела, как он возвращается к дому. Когда ко мне подошел весь трясущийся, нервничающий официант, я уже все поняла. Мне даже не нужно было видеть, как Люк проскользнул вверх по лестнице, как злобная тень. Я допустила официанта к своему телу, но все остальное было самым лучшим спектаклем в моей жизни. Мне всегда хотелось быть актрисой. Теперь я уверена, что мне нужно было ею стать. Я провела его. Чувствовала, как его глаза пожирали меня, жгли меня. Я уничтожила чистоту, которую муж так лелеял. Его тошнило от грязных вещей, и вот его лучшее приобретение было разрушено прямо у него на глазах. Я хотела, чтобы он от меня избавился.
После этого спектакля мне хотелось принять душ, смыть с себя запах этого официанта. Мои руки были испачканы, тело замарано. Но я не могла иначе. Его низость всегда будет моим позором. Я спустилась по лестнице, и официант ушел. Через некоторое время Люк прислал за мной водителя.
Он ждал меня в моей комнате. Откуда-то из глубины всплыло чувство сильнейшего замешательства, от которого было тяжело дышать, когда я увидела его, развалившегося на моей кровати и ожидавшего меня, словно на моих чистых белых простынях лежал сам темный рок. С трудом я подавила свое смятение.
– Привет, дорогая. Ну что, удалась вечеринка? – спросил он шелковым голосом. Его голос изменился. Он играл со мной. Что-то вроде новой игры.
– Да, удалась. Я думала, что ты уже должен быть в постели, – слабо сказала я.
– Я и есть в постели.
Нервно рассмеявшись, я подошла к своему туалетному столику. Нельзя было показывать свое замешательство, нужно вести себя естественно. Я сияла свои туфли, и мои ноги бесшумно заскользили по холодному мраморному полу. Положила расшитую бисером сумочку на туалетный столик и включила маленькую лампу рядом с зеркалом. Муж пристально смотрел на мой усеянный блестками жакет. Вспоминал. Должно быть, в этом желтом свете я казалась ему шкатулкой с секретами. Его. Его шкатулкой. Я видела, как в нем происходят изменения. Он внезапно осознал, что не может отпустить меня просто так.
– Иди сюда. – Голос его прозвучал, как удар хлыста. Люк ушел. Вместо него появился незнакомец. Я задрожала. Но ведь он видел меня с другим! Почему он ведет себя так? Где был холодный, злобный незнакомец, который должен был безжалостно выбросить меня вон, сунув в мои слабые руки мою маленькую Нишу? Он сжал мою дрожащую руку и поднес ее к своим губам. Затуманенные глаза незнакомца следили за моими глазами. Захваченная врасплох, я растерянно посмотрела на него. Как он мог захотеть увидеть меня, мать его дочери, такую омерзительную, выгибающуюся под чьим-то чужим телом? Следить за мной таким образом, из темноты? Его немигающий взгляд говорил, что он должен наказать меня, и наказать так, как знал только он один. И теперь ему было известно, что я не люблю в этом грубость.
– Твои руки пахнут иначе, они грязные, – прошептал он.
Я выдернула у него свою руку, намереваясь уйти.
– Потанцуй для меня, моя дорогая.
– Сегодня вечером я немного устала. Просто приму душ и пойду спать. – Мой голос прозвучал резко.
Я облизнула свои пересохшие губы, а Люк с быстротой леопарда вскочил с постели, схватил меня за руку и с силой бросил на кровать. Меня затрясло. Несколько секунд я не могла прийти в себя, не могла ответить и просто пристально смотрела на него снизу вверх широко открытыми испуганными глазами.
– Слишком устала, чтобы потанцевать? Тогда как насчет несколько иного, моя нервная киска? – противно промурлыкал он. Я чувствовала, что темное и ужасное существо было готово ринуться на меня. Я узнала его. Боль. В мое тело, словно лихорадка, входит темная сущность. Она будет оставаться внутри, разрушительная и злобная, и только когда у меня на душе будет пусто и горько от злости, она будет вылетать и направляться на самого дорогого и близкого мне человека. Нишу. О Боже, что я наделала?
В эту ночь мне было больно, как никогда раньше. Когда я открыла рот, чтобы протестовать, чтобы закричать, муж закрыл его своей рукой.
– Не нужно. Разбудишь ребенка, – холодно посоветовал он.
Это правда, что наше сознание может вылетать наружу и парить сверху, когда не может больше выносить того, что происходит с телом. Оно парит наверху, глядя вниз вполне спокойно, и думает о совершенно прозаических вещах, вроде капель пота, собирающихся на лбу моего обидчика, или о том, выставлены ли наружу мусорные баки для сборщиков отходов. Когда это закончилось, Люк ушел от меня с выражением досады на лице. Теперь и у него был опыт, такой же неприятный для него, как и мой для меня. Не быть со мной постели, а смотреть на меня в постели с посторонним, которому заплачено. Его возбуждало видеть меня униженной. Я помогла ему обнаружить в себе уродливое извращение и теперь должна была платить за то, что замарала его, замарала себя.
В последующие месяцы он делал все, чтобы изжить в себе новый порок. Но ничего не помогало. Даже его любовница с беззаботной улыбкой и всей техникой любви, которой обучены Золотые Девушки, ничего не могла поделать, чтобы усмирить новую страсть. Поэтому он следил за мной в надежде, что у меня есть любовник и что, возможно, ему удастся повторить этот трюк на вечеринке. Странные мужчины с изучающей улыбкой и слегка пренебрежительным взглядом стали подходить ко мне на вечеринках и в холле отелей. Я не оборачивалась, чтобы не видеть жадные глаза Люка; вместо этого я улыбалась им так холодно, что они мгновенно понимали, что никогда-никогда-никогда я по своей воле не допущу их до себя.
Затем однажды вечером я пришла в свою спальню и увидела, что на столе аккуратно выложены все принадлежности курильщика опиума. Я провела рукой по изумительной древней трубке из слоновой кости с искусно вырезанными на ней фигурками слонов. Я подняла вверх чашу и восхищалась масляной лампой, покрашенной в черный цвет, на которой был узор из серебряных и медных цветов. Это был мой день рождения. Мне исполнилось двадцать пять, и это был подарок Люка. Для Димпл только все самое лучшее! Он знал, что я знакома с такими вещами. Дядя Севенес уже давно приподнял для меня покровы с тайн мира опиума. Я знала, что худые, как скелет, старые китайцы подсушивают опиум на краях масляной лампы, прежде чем встряхивать его и вдыхать благоуханный дым. Я рассматривала маленький пластиковый мешочек с опиумом, размышляя, откуда Люк мог достать это коричневое ароматное зелье. Я поняла цель подарка. Он хотел, чтобы я сама медленно уничтожила себя. А почему бы и нет? Разве мак не символизирует освобождение от всякой боли? Разве император Шах Джехан не подмешивал опиум в свое вино, чтобы насладиться божественным экстазом? Оставив свой красивый и искусительный подарок ко дню рождения, я вышла на улицу. На черном небе сияла изогнутая желтая улыбка убывающей луны.
Опиум обещал изумительные грезы. Я думала о Нише, а в бамбуковой роще шумел ветер. Он вздыхал и нашептывал. «Не делай этого», – говорил он. «Никогда», – соглашалась я, но мои руки уже зажигали масляную лампу и наносили мазок сырого опиума на стеклянную воронку. Из трубки поднимался благоуханный синий дым, заполняя комнату. Да, да, я знаю. Томас Де Куинси тоже предупреждал меня, но было невозможно не поддаться сладкому искушению. Скажите, как я могла сказать «нет» музыке благоухания и тому, чтобы проживать сто лет за одну ночь, – хотя и знала, что все это закончится ужасом тысячелетий в каменном гробу, сползанием сквозь сточные воды и зловещими поцелуями крокодилов. В конце концов, что еще осталось, кроме грез?
Бабушка умерла. Я все еще не могу в это по-настоящему поверить.
В ее маленьком доме толпилась масса людей. Они сидели, стояли, прислонившись к стенам, приглушенно разговаривали и пели немелодичные религиозные песни старыми, надтреснутыми голосами. Я и представить не могла, что бабушка знала стольких людей. Думала, что это могли быть только ее друзья из храма. Никто не плакал, кроме тети Лалиты. Даже я не плакала. Все мои слезы были спрятаны где-то очень глубоко, там, где я и сама не могла их отыскать. Я понимала, что устроила из своей жизни ужасную путаницу, и хотела уйти вместе с бабушкой. Меня удерживала здесь только Ниша. Я чувствовала, как она держится за меня своими маленькими пальчиками с крохотными ноготками, которые, как маленькие лезвия, врезались в мое тело, но с каждым днем небо на улице становилось все более серым, а опиум – все более сладким. Нет, на похоронах я не думала о синем дыме. Было бы ужасным кощунством поддаться такому искушению в момент прощания с бабушкой. Если бы она могла слышать мои мысли, ее душа стала бы оплакивать мою бедную, пропащую жизнь.
Папа суетился вокруг, стараясь сделать как можно больше, чтобы помочь, но, когда встретился со мной глазами, подошел и присел рядом на корточках.
– Ты же знаешь, я был ее любимцем, – сказал он, глядя через дверь на то место, где раньше стояло огромное дерево рамбутан. Новые бабушкины соседи были вынуждены спилить его, когда увидели трещины на стенках бетонных сточных канав вокруг своих домов и испугались, что корни дерева разрушат фундаменты их домов.
– Да, она мне много раз говорила это.
– Я не был ей хорошим сыном, но я любил ее. Мы вместе перенесли страдания при японцах.
Я внимательно посмотрела на него. Бедный папа, каким ущербным было его восприятие. Он не просто не был хорошим сыном – он был ужасным сыном. Он разбил ее сердце и вел себя в точности как враг, в которого, по предсказанию прорицателя из зеленой палатки, он и должен был превратиться. Бабушка же была как скала перед лицом яростных морских волн. Но было уже действительно слишком поздно, и больше не существовало причин перевоспитывать его.
– Мы вместе страдали во время войны, – продолжал он. – Я спрятал мамины драгоценности на кокосовой пальме. У меня единственного хватало смелости забираться на самую ее верхушку. Никто, кроме меня, не мог для нее это сделать. Я был в этом доме мужчиной. Она обращалась ко мне по любому поводу, и я никогда ей не отказывал. Просыпался раньше всех в доме, чтобы отнести молоко торговцам чаем, возделывал участок и отвозил зерно такуссы мельникам. Все это я делал ради нее. Справедливо, что она любила меня больше всех.
Он снял свои очки и вытер глаза. Мой дорогой, замученный папа! Тщательная выборочная подборка воспоминаний погубила его. Неожиданно он встал и широкими шагами вышел из дома, на залитый ярким солнечным светом задний двор. Все наши жизни были перекрученными и уродливыми. Когда папа улыбался, у него на подбородке появлялась ямочка, но я не видела ее годами. Я видела, как он, не проронив ни слова, прошел мимо Нэша. Мои брат и отец испытывали друг к другу взаимное презрение. Было видно, как во дворе папа разговаривал с тетей Лалитой. Он хотел постирать вещи, которые замачивались в большой красной бадье.
Тетя Лалита покачала головой.
– Нет-нет, я сама постираю позже. Я уже давно привыкла стирать все сама, – запротестовала она.
– Еще один, последний раз я хочу постирать то, что носила мама, – настаивал папа, снимая свою рубашку и часы. Он положил часы на старый точильный камень, на котором они с Мохини много лет назад размалывали бобы, и начал стирать. Я вспомнила, что тетя Лалита когда-то рассказывала мне о том, как папа стирал одежду. Он не просто отбивал ее о гладкий камень. Все его тело при этом выгибалось дугой, так что вещи долго летели по воздуху, вокруг разлетались капельки воды, которые ловили в себя солнечный свет и сияли, как драгоценные бриллианты. Мне было видно тетю Лалиту, которая, наблюдая за ним сейчас, стояла рядом, и я знала, что она думает о том же, что и я: мой папа был богом воды.
На кухне тетя Анна помогала обмывать тело бабушки, уложенное на ее любимую скамью. Это была добротно сделанная замечательная вещь, которая привела бабушку в восторг, когда она приехала в Малайзию. Теперь скамья поддерживает ее, мертвую, Эта скамья переживет всех нас. Я точно знаю, что она переживет и меня. Мое время сочтено. Это правда, что я чувствую ноготки Ниши, скребущие по моему телу, но на самом деле она удерживает меня не так уж сильно. Моя жизнь угасает. Обнаженное мертвое тело было прикрыто скатертью, и тетя Анна вместе с тремя другими женщинами обмыла бабушку. Я крепче прижала к себе притихшую Нишу. Я поцеловала ее в макушку, а когда она вопросительно подняла на меня глаза, улыбнулась ей.
Из бабушкиной спальни, прихрамывая, медленно вышла мама; она лежала там с жуткими артритными болями. Кто-то принес ей стул, потому что ее колени слишком плохо сгибались, чтобы она могла сидеть на полу, как все, скрестив под собой ноги. В ее взгляде была горечь, но она не испытывала печали по поводу смерти бабушки. Она ненавидела бабушку с первого дня, когда вышла замуж. Тем не менее, она была здесь, чтобы отдать последнюю дань уважения и дождаться прочтения завещания.
Бабушка никогда не хотела почитания, у нее не было на это времени, и она с пренебрежением относилась к нему, когда оно предлагалось ей вместо настоящих чувств. Она отдавала свою глубокую любовь и безграничную преданность и требовала этого же взамен.
«Любовь, Димпл, это не слова, а огромная жертва, – часто говорила она мне. – Это стремление отдавать, покаты еще на что-то годен».
Тетя Анна зашла в спальню бабушки, я последовала за ней. Она сидела на краю бабушкиной кровати с четырьмя стойками; увидев меня, грустно улыбнулась и раскрыла свою правую ладонь, в которой были шпильки для волос, но не обычные, а такие, которые носила бабушка. Шпильки Ки Аа. Таких больше уже никто не носит. Они похожи на зажимы для волос, но вместо того, чтобы плотно прижиматься, они имеют форму буквы «U». Бабушка пользовалась ими, чтобы удерживать собранные в пучок волосы.
– Даже через много лет, после того как я уехала из этого дома, если я увижу шпильку Ки Аа, я тут же вспоминаю маму, – сказала тетя Анна. – Я навсегда запомню тот день, когда вынула все эти шпильки из ее волос в последний раз. Ее тело остыло, но волосы на ощупь все еще точно такие, какими они были в те годы, когда мы с Мохини по очереди брались их расчесывать. Странно, но именно эти шпильки неожиданно сделали ее смерть столь осязаемой. Бедная мама. Мы все были для нее чудовищным разочарованием.
– О тетя Анна, вы совершенно не были для нее разочарованием. Она любила вас, и из всех ее детей вы, по крайней мере, принесли ей удовлетворение тем, что удачно вышли замуж и чего-то добились в жизни.
– Нет, Димпл. Никто из нас своей жизнью не оправдал ее ожиданий. Твоя мать называла ее паучихой, не имея ни малейшего представления о том, насколько точным было такое определение. Когда люди еще пользовались латынью для разговорной речи, слово «паук» означало «я лучше всех». Такой она и была. Возвышалась над всеми нами своим талантом, умом и абсолютным величием. Она могла приложить свои руки к любому делу, могла провести самых хитрых людей, и все же с нами она потерпела поражение. Знаешь, что она сказала мне в больнице, когда мы отвезли ее туда в последний раз?
Я молча покачала головой.
– Она сказала: «Я чувствую в воздухе запах смерти». А я, не подумав, ответила: «Ты слышишь запах антисептика». «Нет, Анна, это ты чувствуешь только антисептик, потому что это еще не твое время».
Я внимательно и со странным чувством слушала тетю Анну, потому что сама чувствовала то же самое, когда приводила Нишу навестить бабушку. Я чувствовала запах смерти в воздухе и видела ее повсюду, но я крепко прижимала к себе Нишу, как защитное оружие, и смерть отступила. Я спаслась от кровожадного людоеда с помощью маленького цветочка, который был со мной. Когда я прижимала дочь к себе, аромат смерти не был таким притягательным, а ее улыбка – не такой зовущей. Тетя Анна начала тихо плакать, и я обняла ее. Ее плечи вздрагивали от рыданий. Через окно я видела Нэша, который курил; лицо его было скучающим.
Можно мне взять одну из этих шпилек? – спросила я.
Тетя Анна раскрыла ладонь, и я взяла одну. Я сохраню ее.
Тетя права: шпилька наиболее живо будет напоминать мне о бабушке. Как наяву, я вижу, как бабушка стоит перед зеркалом в своем белом сари. На лице по-прежнему много лишней пудры, а во рту полно шпилек, пока она укладывает свои волосы. Одна за другой шпильки отправляются в толстый серебристый узел ее волос, пока тот, наконец, не оказывается аккуратно уложен и надежно закреплен на затылке. Затем она поворачивается ко мне и с улыбкой спрашивает: «Ты готова в путь?» И однажды я отвечу ей: «Готова».
После похорон я отправилась встретиться с дядей Севенесом. Он выглядел ужасно.
Когда я был маленьким, мне снились мамины похороны. Все было в точности таким же. Только теперь мне нужно раздать имена лицам взрослых, которых я тогда не узнавал. Я видел Лакшмнана и подумал, что это неприятный незнакомец. Единственным человеком в моем сне, который казался мне смутно знакомым, была ты, и я думал, что это Мохини, только взрослая. Но когда я увидел тебя сегодня с Нишей на коленях, сон прояснился.
Я подавленно смотрела на него, и он бросил мне старую книжку Сартра.
– Прочти ее и просто перестань отбывать повинность. Ты же знаешь, у тебя есть свобода выбора. Не оставайся с ним, если тебе этого не хочется.
Раньше я бы взяла эту книгу. И охотно бы ее прочла. Но теперь…
– Всякая надежда ушла – Рисовая Мама умерла. Не осталось никого, чтобы защитить мои сны, напоенные благоухающими травами, зеленым мхом, спелыми фруктами и буйным цветением; но теперь я могу видеть этих бедняжек, бледных и бездыханных, похороненных на дне забытого озера.
При этих моих словах у дяди Севенеса от ужаса пропал дар речи, он не хотел больше ничего знать. Я с трудом смогла рассказать ему, что я все больше и больше нуждаюсь в синем дыме, и мне это все меньше и меньше нравится.
Ниша говорила мне, что на манговом дереве есть птичье гнездо, что она слышит писк птенцов даже через окно спальни. Дочь повела меня послушать, но их неистовые призывы почему-то встревожили меня.
– Пойдем, – бодро сказала я, – давай заглянем в новое кафе в городе.
Мы сидели за столом цвета охры, поскольку все помещение было отделано в терракотовой гамме. Там была очень странная композиция из цветов с использованием нового цветка под названием Лапа Кенгуру. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Очень красивый и черный. Черный цветок. Как он странен – и как он красив, с маленькими, похожими на подушечки, бледно-зелеными лепестками. Так необычно и так изящно. Я пошла к флористу и заказала такое же для себя.
Цветы прибыли в четверг, они выглядели великолепно в прозрачной стеклянной вазе на кофейном столике. Ниша сказала, что они похожи на свернувшихся на стебельках спящих паучков. Что за ребенок! Но я научу ее любить их.
Люк избегает любых прикосновений к дочери. Возможно, он боится чудовищ внутри себя, которые сейчас спят. А что, если он обнаружит, что хочет лечь с ней? Вот чего он боится теперь – новых извращений, которые в себе найдет. Мне было грустно за Нишу, которая не могла понять, почему папа отталкивает ее. Я не знаю, что с нами будет. Если бы он только отпустил нас обеих! Но я знаю, что он этого никогда не сделает. Он никогда меня не отпустит. Он использует Нишу, чтобы удерживать меня здесь.
Февраль 1983 года. Умер дядя Севенес. Я стояла у его кровати в больнице, когда он подал знак, что хочет что-то написать; в глазах его была безысходность. Я рванулась, чтобы вложить ему в руки бумагу и ручку. Неровным почерком он написал: «Я вижу ее. Цветы растут ря…» и умер. Не могу перестать думать об этом незаконченном предложении. Что такое он видел, что заставило его попросить ручку и бумагу? Раздумывая над этим, поднимаясь по лестнице к нему в комнату, я чувствовала себя озадаченной. И взволнованной тем, каким образом я его потеряла.
«Я вижу ее. Цветы растут ря…»
Я вставила засаленный ключ в замок его двери. От затхлого и вонючего воздуха меня затошнило. В кухоньке было маленькое окошко, и я открыла его так широко, насколько позволял заедавший механизм. Нищенская комната. Трещины в линолеуме забиты жирным налетом и черной грязью, повсюду слой пепла от сигарет. «Это последний раз, когда я вижу эту комнату», – подумала я невозмутимо. Поэтому постаралась все запечатлеть в памяти.
Странно – здесь все еще ощутимо чувствовалось дядино присутствие, как будто он просто спустился вниз за своим утренним кофе. На кровати разбросаны книги по астрологии, схемы и диаграммы. Когда он заболел, то работал над чьей-то астрологической картой. Я села на испачканные листы; в моем воспаленном мозгу всплыл образ той проститутки в белом, развалившейся на матраце и курящей сигарету с ментолом. Она никогда не узнает, что его уже нет. Я открыла оборванную тетраду и стала просматривать заметки, которые он там делал.
Остерегаться / короткая линия жизни. Демон Раху / змея в доме супруга / тупик. Смерть, развод, печаль, трагедия.
Жалко беднягу, над чьим гороскопом работал дядя и сделал такие неутешительные выводы. Но когда я начала листать записи, то обнаружила схемы и астрологические подробности с моими данными о рождении и моей сестры. Я застыла, не веря своим глазам. Это был гороскоп для одной из нас. Беллы или меня.
В выдвижном ящике я нашла письмо, адресованное мне. Даже не открывая, я почувствовала, что внутри находится кассета. Дядя Севенес записал для меня послание. Последняя история в веренице моих распутных грез. Я аккуратно сложила коричневый конверт и спрятала в свою сумочку. Он до сих пор еще там. Пока не могу заставить себя послушать кассету. Может быть, как-нибудь вечером перед моим синим дымом, чтобы это не так на меня подействовало.
Похороны были короткими. Тело нужно было спешно вынести, даже раньше назначенного для кремации времени. Внутренности разлагались так быстро, что выделявшиеся при этом газы раздули его большое тело, как шар. Даже оттуда, где сидела я, было слышно шипение и свист газов, словно внутренние органы тайно замышляли устроить взрыв, и все вокруг опасались, что тело дяди разлетится на мелкие кусочки по всем стенам, поэтому быстро вынесли его наружу. Добросердечная тетя Лалита нагнулась в гроб и поцеловала его в щеку, несмотря на исходивший от тела зловонный дух разложения, от которого меня тошнило. Это был не трупный запах, это был запах отбросов. Даже после смерти дядя Севенес отказывался соответствовать обычным нормам. Несмотря на две бутылки одеколона, вонь гниющих отбросов и формалина была настолько сильной, что приличные похороны были просто невозможны. Едкие испарения разъедали нам глаза, и две женщины даже сбежали на кухню, чтобы скрыть свое отвращение. Старая иссушенная дама, слишком старая, чтобы обременять себя игрой в дипломатические игры, закрыла нос и рот краем своего сари. Я ожидала, что тетя Лалита теперь повесит черно-белую фотографию дяди Севенеса в рамке, увитой гирляндами, присоединив ее к снимкам бабушки, дедушки и Мохини. Мне было холодно. Мне весь день было холодно. Это все синий дым.
Тетя Лалита пришла навестить нас. Она проводила много времени в саду с Нишей, разговаривая с ней так, будто им обеим было всего по шесть лет. Они часами наблюдали за рыбками, потом изучали паривших над неподвижной водой беззаботных стрекоз с блестящими желтовато-зелеными и бирюзовыми пластинками на длинных брюшках. Она рассказала Нише то же, что рассказывала и мне, когда я была ребенком: что стрекозы могут зашить губы непослушным детям, когда они спят. Глаза Ниши превратились в два опаловых озера изумления.
– Правда? – выдохнула моя дочка.
Наблюдая за ними, я словно смотрела в прошлое. Я сама раньше сидела в тени с тетей Лалитой и смотрела, как за бабушкиным домом взад-вперед сновали стрекозы. Тогда я поворачивала голову и видела бабушку, которая, сидя на скамье, наблюдала за нами через окно, как сейчас я наблюдаю за ними.
С папой происходит что-то ужасное. Его срочно забрали в больницу с болями в груди, дали ему какие-то таблетки, но он швырнул их на больничные ступеньки. Бедный папа, я знаю его боль. Он ищет того же забвения, что и я.
У Ниши в школе проблемы с одной забиякой, которую зовут Анжела Чан и которая оставляет у дочки на руках кривые царапины от ногтей. Я должна буду встретиться с мамой этой девочки.
Я рассказывала вам о своих ужасно-прекрасных снах? Они, должно быть, приходят от синего дыма. В ящике из толстого стекла находится красивый мужчина. У него длинные руки и ноги, с красивыми формами, его курчавые волосы мягко спадают на сильные плечи. Его лицо находится в тени, но я знаю, что он красив, и знаю, что когда он выберется из этого стеклянного ящика, то будет еще более красивым, чем я ожидала. У него такие же грустные глаза, как на моем портрете, который висит внизу, но я чувствую уверенность, что он любит меня. Он всегда меня любил.
Вот уже много лет он смотрел на меня с глубокой страстью, но сейчас у него уже нет терпения почувствовать меня, заполнить меня, сделать меня с ним одним целым. Я точно не знаю, когда именно, но некоторое время назад он начал прорезать стекло. У него нет никаких орудий, поэтому он использует свои ногти. Его пальцы кровоточат, и стекло уже все красное, но он неутомим. Его любовь глубока. День и ночь он царапает стекло. Однажды он выберется наружу, и я буду этого ждать. Это будет особый момент, когда я его поцелую. Мне нравится форма этого рта. С томлением жду того дня, когда прижмусь всем телом к нему, и его рот накроет мой. Когда я отдам ему, красивому мужчине по имени Смерть, свою жизнь.








