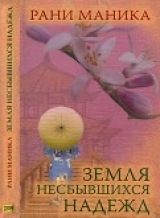
Текст книги "Земля несбывшихся надежд"
Автор книги: Рани Маника
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
 Айя
АйяХотя все это было очень и очень давно, но возвращаться к тому полному надежд времени сейчас все равно невероятно больно. Я был еще молод, и завоевать свою невесту, преподнеся ей букет из красивой лжи, не казалось мне нечестным; хотя я дорого поплатился за это, я все же не изменил бы ни единого мгновения, прожитого с твоей бабушкой.
Ни единого мгновения.
Я не должен был видеть свою невесту до дня свадьбы. Услышав, как барабанщики ускоряют дробь, я понял, что она приближается. Не в силах ждать ни мгновения больше, я поднял глаза, чтобы увидеть лицо моей новой невесты, и не мог поверить своему счастью, когда увидел твою бабушку. Единственным тайным желанием, когда-либо таившимся в моей душе, было увидеть ледяную пещеру. Но тогда в моих руках было куда больше моей даже самой сумасбродной мечты. Это была девушка невообразимой, необычайной красоты.
Пока я разглядывал ее, она подняла на меня свои глаза, но поскольку я был таким огромным и некрасивым, первым выражением, которое появилось на ее лице, когда наши глаза встретились, был ужас. В отчаянии она быстро оглянулась по сторонам, будто маленький запуганный олененок, пойманный ночью в охотничью сеть.
Она выглядела такой беззащитной, и если бы она такой и оставалась, я бы заботился о ней так же нежно и с такой же любовью, как и о своей первой жене; но я стал свидетелем необыкновенного превращения. Ее спина выпрямилась, глаза стали пылкими и дерзкими. Казалось, на моих глазах лань превращается в большую и красивую тигрицу. И совершенно неожиданно мой серый маленький мир перевернулся с ног на голову. Я почувствовал, как противно засосало под ложечкой. «Кто ты?» – шептало внутри мое потрясенное сердце. Именно там и тогда я влюбился. Так глубоко, что, казалось, внутри у меня шевелились все внутренности.
Я с самого начала знал, что она никогда не будет просто женщиной, которая станет растить двух моих детей или будет спутником на склоне лет, знал, что это будет существо, которое превратит меня в марионетку. Одним лишь прикосновением своей прекрасной руки она вернула жизнь моим неподвижным рукам. Ах, как были осторожны мои движения под ее смелой рукой. В тот день я думал, что поймал луну, и только много-много лет спустя я понял, что то, к чему я прикоснулся, было лишь отражением луны в голубом пластмассовом ведре. Я не могу дотянуться до луны. Так всегда было и так будет. В то время я понял это окончательно.
Я вспоминаю о своей брачной ночи, как о самом прекрасном сне. Будто пара крыльев. Вдруг у тебя в руках появляется такое сокровище, что вся твоя никчемная жизнь навсегда меняется. Не от счастья – от страха. От страха потерять это. И потому, что я считал себя не заслуживающим этого. Те крылья достались обманом. Скоро даже этих золотых часов, вызывающих такое восхищение, этого символа богатства и положения, больше не будет. Их мне всего лишь одолжил друг, тот самый, который одолжил мне и машину с водителем Билалом. В глубине своего наполненного виной сердца я уже любил ее. По-настоящему любил. Ради нее я сделал бы что угодно, куда угодно поехал бы. Моя душа разрывалась при мысли о том, что в один прекрасный день она станет презирать меня. Старая ведьма Пани рассказывала ее матери сказки о богатствах, в которые поверила бы только хорошая женщина, – и, тем не менее, как я могу осуждать ее, когда в паутину ее лжи попалась такая диковинная бабочка? Я обманывал себя, что однажды моя необыкновенная бабочка полюбит меня. Годы, я думал, смогут смыть мой позор. Годы проходили, но нет, она так и не смогла полюбить меня, хоть я и притворялся, убеждая сам себя, что бабочка особенная и привязанность испытывает как-то по-особенному.
Она была такой миниатюрной, что я мог ладонями обхватить ее бедра. Моя крошка невеста. Нельзя было любить ее, не причиняя ей боль. Когда в ту темную ночь она думала, что я сплю, то незаметно выбралась из комнаты, чтобы искупаться в соседском источнике. Когда она вернулась, я увидел, что она плачет. В темную щель между своими ресницами я видел, как она смотрит на меня. На ее совсем молоденьком личике я видел детскую надежду и страх зрелой женщины. Медленно-медленно, словно против своей воли, но подталкиваемая наивным любопытством, она, словно пробуя, гладила рукой мой лоб. Ее рука была холодной и влажной. Она отвернулась от меня и заснула быстро, словно ребенок. Я помню треугольник ее спины, когда она спала. Я смотрел, как та медленно поднималась и опускалась, вглядывался в ее гладкую кожу, словно сотканную из тончайших шелковых нитей, а мысленно возвращался к историям, которые в нашей деревне рассказывали старушки в пору моей юности. Об одиноком пожилом мужчине с Луны, который входит в комнаты к красивым женщинам и ложится спать рядом с ними. Она была так красива, моя жена, что в ту ночь я видел, как лунный свет проникал через открытые окна и мягко опускался на ее спящее лицо. В этом бледном свете она была богиней. Прекрасной, словно жемчужина.
Моя первая жена была самым мягким человеком из живущих на земле. Она была так добра и мягкосердечна, что гадалка предсказала, что ей недолго осталось жить. Я с любовью заботился о ней, но с момента, когда глаза Лакшми встретились с моими во время свадебной церемонии, я уже был страстно и глубоко в нее влюблен. Ее умные темные глаза сверкнули огнем, который прожег даже мой желудок, но в этих глазах я был дураком, и, наверно, это так и есть. Даже ребенком я развивался слишком медленно. Дома меня называли медлительным мулом. Больше всего я хотел защитить ее и осыпать ее всеми теми богатствами, которые были обещаны ее матери, но я был всего лишь служащим. Служащим без перспектив, без сбережений и без ценностей. Даже те деньги, которые я заработал до моего первого брака, ушли на помощь моей сестре.
Когда я впервые привез Лакшми в Малайзию, она плакала поздними ночами, когда думала, что я сплю. Я мог проснуться рано утром и слышать, как она тихонько плачет на кухне. Я знал, что ей трудно без матери. Днем она была занята своей овощной грядкой или ежедневными заботами по дому, но вечером одиночество переполняло ее.
Я не мог больше этого выдержать и однажды ночью встал с кровати и пошел на кухню. Как ребенок, лежала она на животе, уткнувшись лбом в скрещенные руки. Я смотрел на изгиб ее шеи, и вдруг огромной силы желание овладело мной. Мне хотелось обнять жену и почувствовать прикосновение ее нежной кожи. Я подошел к ней и положил руку ей на голову, но она вскрикнула от испуга, хватаясь правой рукой за сердце.
– Ох, как же ты меня напугал! – осуждающе и почти с яростью воскликнула она. Лакшми еще больше отклонилась назад и смотрела на меня выжидательно. Ее глаза были влажными и поблескивали, но выражение лица было холодным и закрытым, будто ящик в письменном столе. Некоторое время я стоял и смотрел на ее застывший вид и холодное, напряженное лицо, а потом повернулся и пошел спать. Она не хотела ни меня, ни моей любви. И то, и другое вызывало в ней отвращение.
Иногда, когда она спала, я тянулся к ней, и даже тогда она стонала и отворачивалась. И я снова понимал, что моя любовь уходит впустую. Лакшми никогда не полюбит меня. Ради нее я оставил своих детей, и, тем не менее, даже сейчас, после всего, что случилось, и всего, что я потерял, я знаю, что ни единого мгновения я бы менять не стал.
День, когда родилась моя Мохини, стал самым счастливым днем моей жизни. Когда я впервые взглянул на нее, я даже почувствовал боль, будто кто-то забрался в мое тело и сжал мне сердце. Я смотрел на нее, не веря глазам своим. Единственное слово ворвалось в мою голову.
– Нефертити, – прошептал я.
В мою жизнь вошла прекрасная Нефертити.
Она была так совершенна, что слезы неверия и счастья нередко увлажняли мне глаза. Неужели это я, я один из всех людей был причастен к созданию этого чуда? Я заглянул в ее крошечное спящее личико, коснулся ее прямых черных волос и понял, что она моя. А теперь в качестве подарка для тебя… сердце одного человека – мое. Твоя бабушка называла ее Мохини, но для меня она всегда была Нефертити. Именно так я думал о ней. Я представлял себе Мохини как иллюстрацию в одной старой санскритской книге моего отца. Она стоит так же изящно, как Богиня Змей, у нее длинные черные волосы, во взгляде искоса слились поровну страх и наслаждение. Ее беспечные ножки весело танцуют по сердцам многих мужчин. Дерзко, гордо она наслаждается своей порочностью. Нет, нет, моя Нефертити была самым невинным ангелом. Распускающимся цветком.
Мне было тридцать девять, и я смотрел на свою бесполезную жизнь, в которой одна неудача сменялась другой, и понимал, что, даже если я никогда не пройду еще одного собеседования в офисе, никогда не совершу какого-нибудь поступка, мне будет достаточно того драгоценного момента, когда акушерка передала мне мою Нефертити, туго запеленутую в старый саронг, пахнувший миррой.
В детстве, пока я рос, для меня было несложно выносить высокомерные взгляды моих сверстников, когда они сдавали экзамены и переходили в выпускной класс. Один за другим они проходили мимо меня, все с одинаковым видом, в котором было немного презрения, немного жалости; и все же я был счастлив. А теперь у меня самого дети – и в каждом что-то особенное. Я, бывало, ехал домой на велосипеде так быстро, как только мог, волосы мои развевались на ветру, к рулю была привязана гроздь бананов или четверть джекфрута, и как только я заворачивал в наш тупик, что-то происходило во мне. Я сбавлял скорость, чтобы снова и снова окинуть взглядом дом, где жила моя семья. Внутри этого маленького, лишенного великолепия дома было все, чего я когда-либо хотел от жизни. Там внутри была необыкновенная женщина и дети, от которых у меня дыхание перехватывало. Частичка Лакшми и, к моей бесконечной радости, частичка меня.
А потом, совсем без предупреждения, они забрали у меня Мохини. Вот так просто они ее убили, ребенка, о котором мы так заботились долгие годы. Ох, эти глупые слезы! После того как прошло столько времени. И та невыносимая ночь, когда дочь пришла ко мне. Посмотри на эти глупые слезы, они не хотят останавливаться. Я как старуха. Постой, дай мне достать мой платок. Дай мне минутку – я просто старый дурак.
Я вспоминаю, как сидел в своей спальне без света, мое тело горело от лихорадки. Шок от того, что ее забрали, вызвал приступ малярии. Светил лишь тусклый месяц в небе. Это была жаркая ночь, и немного раньше я слышал, как Лакшми принимает душ. Я помню, что молился, мое дыхание было горячим. Я никогда не молился раньше. Я обвинял богов в абсолютном равнодушии. «Это факт, – говорил я важно, как Папа Римский, – что мы молимся только для того, чтоб получить больше, чем имеем». Я доказывал, что даже самый высокий уровень самообразования – лишь эгоистичное желание, но правда состояла в том, что я был слишком ленив, чтобы воздавать благодарность за все то счастье, что свалилось на меня. «Бог живет в нашем сердце», – говорил я с уверенностью, думая, что я сам хороший человек, и одного этого уже достаточно. После рождения Мохини я понял, что родился с целой гирляндой удач, по в ту ночь я был беспокоен и полон дурного предчувствия. Я поднял к небу руки и крикнул Богу, также, как и другие презренные, вечно нуждающиеся человеческие существа:
– Господи, помоги мне! – молился я. – Верни мне мою Нефертити!
Моей голове не было покоя. Вокруг все крутились и вертелись миллионы видений с грубыми ухмылками и подлыми глазами, желая проникнуть в меня. Я закрыл глаза, чтобы погнаться за пылающими видениями и прогнать их, но совершенно неожиданно увидел, как Мохини исчезает за дверью с неисправным замком. Я видел, как она бежит по длинному коридору, ступая бесшумно босыми ножками, и слышал, как из ее груди вырывается, клокоча, громкое дыхание астматика. Она бежала, задыхаясь, мимо высоких окон с закрытыми ставнями. В широком коридоре был поворот, оканчивавшийся дверью, оставленной маняще приоткрытой. Я видел все это: ее искаженное страхом лицо, а затем надежду, которая озарила его, когда она мчалась к открытой двери. Потом я увидел охранников. Как же они смеялись!
Они смеялись прямо в ее бледное, задыхающееся лицо. Все это было лишь галлюцинацией!
Я взял одеяло и укутался в него. Мне было холодно. Холодно. Так холодно.
Отчетливо я увидел руку, толстую и мясистую, которая сжала подбородок Мохини, и отвратительный красный язык, появившийся из ниоткуда, чтобы лизнуть ее веки. Я видел, как она упала на землю, отчаянно пытаясь сделать вдох. Потом она позвала меня: «Папа, папа!» Но я не мог ей помочь. Содрогаясь в своей постели, я видел, что она посинела, а они пытались влить воды ей в горло. Она задыхалась и открывала рот, чтоб поймать воздух. Солдаты встали, сбитые с толку и беспомощные, и смотрели, как она умирает. Ах, этот холод в моем сердце!
Затем я увидел Мохини в яме. Ее глаза были закрыты, но вдруг она их открыла и посмотрела прямо на меня… Неожиданно я увидел дочь стоящей в сари ее матери посреди леса, в ожидании свадьбы, но ее неукрашенные волосы были распущены по плечам, словно у горюющей по мужу вдовы. Это было будто в ночном кошмаре.
– Это все лихорадка. Это только лихорадка, – неистово шептал я в свою влажную подушку, в то время как мои зубы бешено стучали. Взявшись руками за голову, я потряс ее, пытаясь вытрясти эти ужасные видения, чтобы их место заняла спокойная темнота. Я тряс и тряс голову, пока картинки не потускнели и не стали перетекать одна в другую, словно кровь.
– О Нефертити, – судорожно прошептал я. – Это всего лишь малярия. Это бред. Это только бред.
Я сходил с ума от холода. Моя собственная беспомощность злила меня. Я ненавидел себя. Мохини была одна и напугана. Если бы только я тогда был дома, вместо того чтобы сидеть у банка со старым охранником, пыхтя сигарой…
Вина. Я не могу вам передать, как она давила на меня той ночью. Почему, почему, почему именно в тот единственный день я покинул дом? Безнадежно я стучал лбом о стену. Я хотел умереть.
Это было красивое, испорченное дитя смерти из освещенной луной ночи, явившееся ко мне из прошлого. Его раздражало, что я отказался играть в его маленькую игру.
– Я твой. Ну, давай, схвати меня прямо сейчас, – просил я мстительного ребенка. – Только верни ее, верни ее, верни ее…
Я повторял неясно запомнившиеся с детства мантры. Если бы я захотел достаточно сильно… Если бы я достаточно молился… Если бы я пошел в храм и пообещал там выдержать тридцатидневный пост, обрил бы голову и носил бы на голове головной убор кавади с петушиными перьями в ежегодный праздник Тайпузам, вернулась бы она?
Потерянному в своем черном отчаянии, мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что мысли в моей голове прояснились. Мне уже не было холодно, и ужасная боль в сердце внезапно исчезла. Я поднял голову. Комната все еще была освещена голубоватым лунным светом, но что-то изменилось. В растерянности я огляделся, и чувство спокойствия и умиротворения овладело мной. Все заботы, страхи и тревоги покинули меня. Чувство было столь прекрасным, что я подумал, что умираю. Потом я понял. Это была Мохини. Она наконец свободна! Я пожелал ей счастья, пообещав заботиться о ее маме, и сказал, что буду вечно любить ее.
Затем это чувство исчезло так же внезапно, как и появилось. Вся боль от ее потери с грохотом снова обрушилась на меня. Какой же огромной была эта потеря! Я схватился за грудь, и комната давила на мое замерзшее тело, словно деревянный гроб.
Моя несчастная жизнь развернулась передо мной, как в фильме – длинная, скучная и бесполезная. Мое сердце было разбито и кровоточило. Красные ленты плавали внутри моего тела, беспомощно трепеща и задевая за другие органы внутри меня. И даже сейчас они там, застрявшие между моих ребер или лежащие, раздавленные, между печенью и почками или даже обернутые вокруг моих кишок. Они трепещут, будто красные флаги поражения и боли. Мохини была всего лишь сном.
Поначалу я видел туже неистовую боль в глазах моей жены и старшего сына, но затем их боль превратилась в нечто иное. Нечто нездоровое. Нечто, мне непонятное. Когда я смотрел в глаза Лакшми, в их глубине скользило что-то сродни ненависти. Она становилась все более раздражительной и жестокой, а Лакшмнан превращался в чудовище. Какая ненависть сверкала на его лице, когда мать просила помочь Джейану с математикой. Стиснув зубы, он убийственным взглядом смотрел на своего младшего брата, ожидая, когда этот бедный мальчик сделает ошибку и ему достанется удовольствие ударить Джейана по голове деревянной линейкой или щипать до тех пор, пока темно-коричневая кожа младшего брата не станет серой. Злоба Лакшмнана не находила выхода. Когда он начинал свои издевательства, было видно, что он борется с собой, чтобы остановиться.
Однажды я попробовал поговорить с ним, жестом пригласив присесть рядом со мной, но он отказался. Он стоял передо мной, высокий и сильный, с мощными и полными жизни руками. Он не был моим отражением. Все мои сыновья – моя противоположность. Если бедный Джейан и был похож на меня, то это, конечно, не по своему выбору. В своей медлительной манере я говорил слишком долго. Лакшмнан презрительно смотрел с высоты своего роста, мрачно рассматривая меня. Ни слова не сорвалось с его губ. Ни объяснений, ни извинений. Ни чувства сожаления.
Потом я сказал:
– Сынок, ее больше нет.
И вдруг на его лице появилось выражение такой досады и такой боли, что он стал похож на загнанного раненого зверя. Он открыл рот, будто для того, чтобы сделать вдох, а вместо этого вдохнул пролетавшего мимо духа. Дух, которого Лакшмнан проглотил, был неистовым, бушующим и вызвал самое невероятное превращение. Сын готов был наброситься на меня, своего отца. Его плечи стали крепче, руки сжались в тяжелые шары, но до того, как зверь мог наброситься на меня, в комнату вошла Лакшми. Произошло другое удивительное превращение: неконтролируемая ярость покинула Лакшмнана. Его голова вдруг опустилась, плечи ссутулились, и кулаки разжались, как у мертвого. Он боялся матери, инстинктивно чувствуя ее силу и превосходство. У неконтролируемого монстра был хозяин. Его хозяином была его мать.
Прошлое – это безрукий и безногий калека с лукавыми глазами, мстительным языком и долгой памятью. Оно будит меня утром, ужасно усмехаясь у меня над ухом. «Посмотри, – шипит оно, – посмотри, что ты сделал с моим будущим».
И все же я ожидаю за дверью, что она вдруг появится.
«Папа! – кричит она, держа в руках пустяшный зеленый камешек, – кажется, я нашла зеленый малахит!» Мое изорванное в клочья сердце живет так уже двадцать три года. И каждый вечер, когда она не вбегает в двери, закат становится чуть более хмурым, дом чуть более чужим, дети чуть дальше от меня и Лакшми чуть более сердитой. Это была война. Она так много отобрала у всех. Не только у меня.
Я не отважный человек, и все знают, что я не умен. Кроме того, я даже не интересный человек. День напролет я сижу на своей веранде, дремлю, сплю и всматриваюсь в никуда. Черт возьми, как же я ненавижу японцев! Эти подлые желтые лица, эти холодные черные щели, в которые они смотрели, когда она умирала. Даже звучание их языка может сделать меня холодным от убийственной ярости. И как только Бог мог сотворить таких жестоких людей? Как мог Он позволить им забрать единственное настоящее сокровище, которое у меня когда-либо было? Иногда я не могу заснуть от мыслей обо всех тех муках, которым бы я их подверг. Кусочек за кусочком я отрезал бы им руки и вешал бы затем на деревья, или набил бы им рот иголками и заставил бы съесть, или, возможно, разжег бы небольшой дружеский огонь под их ступнями, чтобы слышать запах их горящих пальцев. Да, они не дают мне заснуть, эти дьявольские мысли. Я ворочаюсь с боку на бок на своей большой постели, и моя жена, эта моя редкая бабочка, что-то раздраженно бормочет. Вот что сделала снами война. Она вселила в нас аппетит ко всему, что нам раньше никогда не нравилось и абсолютно не было свойственно.
 Лакшми
ЛакшмиВ пятницу вечером Анна промокла под дождем. К субботе у нее была уже явная простуда. Я уложила ее в постель, растерла ей грудь тигровым бальзамом, дала выпить напиток из горячего кофе с вбитым туда яйцом и завернула в несколько одеял; но в воскресенье уже появилась мокрота. Когда я только услышала эти ужасные хрипы, меня охватил страх. У Анны появились первые признаки болезни, из-за которой Мохини не вынесла жестоких издевательств японцев; иначе они бы вернули ее разбитое тело, как они это сделали с А Мои. Я побежала к дому Старого Сунга.
– Крыса с красными глазами, – запыхавшись, прокричала я его кухарке. – Где я могу ее взять?
Принесли клетку с беременной красноглазой крысой. Айя отказался даже смотреть на нее. Он пытался отговорить меня, но я уже приняла решение.
– Она должна проглотить это животное, – твердо сказала я суровым голосом, не терпящим возражений.
Анна посмотрела на крысу с явным страхом в глазах.
– Мам, собственно, я думаю, что сегодня мне уже гораздо лучше, – объявила она с сияющей улыбкой.
– Правда? Тогда иди сюда, – холодно сказала я. Я приложила ухо к ее груди и услыхала ужасные хрипы. – Севенес, растолки немного имбиря для твоей сестры, – крикнула я.
Анна вернулась в спальню, плечи ее поникли. Почему все ведут себя так, словно я делаю что-то такое, что им повредит? Я просто хотела, чтобы моя дочь опять поправилась. Я всем своим сердцем жалела, что не дала новорожденного крысенка Мохини. Если бы я не прислушалась к параноидальным аргументам моего мужа, она, может быть, была бы сейчас жива. Крыса уже почти была готова разродиться. Главным моментом было проглотить крысенка в первые несколько мгновений после его рождения, сразу после снятия с него пленки. Я следила за мамой-крысой очень внимательно. Часто она разглядывала меня своими умными сияющими глазками, стремительно бегая по своей клетке. Интересно, знала ли она, что мне нужны ее детеныши. Я содержала пол клетки очень чистым.
Крыса разродилась. Еще до того, как она могла начать вылизывать новорожденных своим переносящим болезни языком, я вынула из клетки одного маленького розовато-красного крысенка размером не больше моего большого пальца. Он едва шевелил своими лапками. Я быстро завернула его в чистую ткань. Анна смотрела на меня тревожно, с недоверчивым выражением. Она начала трясти головой и пятиться назад. Я следовала за ней, пока она не уперлась в кровать.
– Мам, я не могу. Пожалуйста, – прошептала она.
Я опустила голову маленького крысенка в мед.
– Открой рот, – скомандовала я.
– Нет, я не могу!
– Лакшмнан, принеси трость.
Трость появилась очень быстро.
Анна открыла рот. Лицо ее было бледным, в глазах горел ужас. – Мам, она шевелится! – вдруг закричала она. – У нее лапки шевелятся! – Рот мгновенно закрылся.
– Сейчас же открой рот! – приказала я. – Ее нужно проглотить немедленно.
Дочь затрясла головой и начала плакать.
– Я не могу, – всхлипывала она. – Она еще живая.
– Почему у меня такие непослушные дети? Все китайцы лечатся таким способом. Чего ты поднимаешь такую суматоху? Во всем этом виноват ваш отец. В том, как он испортил вас всех. Ладно, неси трость, Лакшмнан.
Лакшмнан выступил вперед. Он поднял свою правую руку, и его сестра с хныканьем наполовину открыла рот. Я схватила ее за подбородок.
– Шире! – приказала я.
Ее рот слегка открылся еще шире, и я опустила маленького крысенка внутрь. Я подумала, что если я опущу его как можно глубже, Анне будет легче, но тут увидела, как ножки крысенка царапают ее язык, и в следующее мгновение глаза ее закрылись, а лицо под моей удерживающей его рукой стало мертвенно-бледным. Дочь потеряла сознание. Я все еще держала крысенка за хвост, когда Анна упала на подушки. Мой муж, который наблюдал за этим из дверного проема, рванулся вперед, вырвал крысенка из моей руки и, подойдя к окну, закинул его так далеко, как только смог. Он посмотрел на меня с великой грустью, затем взял Анну в свои руки и стал осторожно обмахивать ее лежавшей у кровати тетрадкой.
– Лакшми, ты превратилась в чудовище, – тихо сказал он, укачивая ее. – Принеси немного теплой воды для твоей сестры, – сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь.
Лалита побежала на кухню и вернулась с водой.
На следующий день я вернула крысу, а Анна с тех пор страдает от астмы.
Вы шокированы, но было кое-что и похуже. А еще было чудовище, которого я не замечала даже в зеркале.
Однажды, когда к нам заглянул булочник, Лалите захотелось булочку с кокосовой начинкой. Тогда такая булочка стоила пятнадцать центов. Я открыла свою сумочку и с первого взгляда поняла, что денег там не хватает. Я тщательно их посчитала и мысленно перебрала все покупки, которые сделала на рынке сегодня утром, затем снова пересчитала. Действительно, одного рингита определенно не хватало. У меня было 39 346 рингитов в банке, 100 рингитов под матрасом, 50 рингитов в конверте, увязанном вместе с письмами от мамы, и 15 рингитов и где-то 80–90 центов в моей сумочке. Я по одному опросила моих детей, не брали ли они рингит. Все они, покачав головой, сказали «нет». Булочник со своими булочками ушел из нашего района. Никто ничего не получит, пока я не докопаюсь до разгадки тайны исчезновения этого рингита.
Только Джейана все еще не было дома. Я знала, что это был он. Должен был быть он. Как он посмел добраться до содержимого моей сумочки! Он что, думал, я не замечу? Я начала закипать.
– Это, должно быть, Джейан, – эхом отозвался на мои мысли Лакшмнан.
– А ты не можешь ошибаться, мам? – спросила Анна.
– Разумеется, не могу, – ответила я очень раздраженно и посмотрела на часы на стене. Три часа дня. Попросила принести чаю. Вышла наружу и села ждать. С веранды мне были видны часы в доме. Появился чай, и я его выпила. Вновь взглянула на часы. Прошло тридцать минут. Ярость моя росла. Во мне проснулся чудовищный змей в ужасном гневе. Я напряженно ерзала на стуле. Мой собственный сын ворует у меня деньги. Я должна преподать ему урок, который он не забудет никогда. Я снова взглянула на время – четыре часа. Краем глаза я видела, как дети прямо сидят на своих стульях и нервничают. Я перегнулась через деревянный поручень и увидела, как мой дорогой Джейан торопится по тропинке, и на его квадратном глупом лице просто написана вина. Я следила, как он подходит к дому. Он замедлил шаги, как будто стараясь схитрить. Разве он не знал, что оттягивание неизбежного возмездия может только еще больше разозлить меня? Совсем как неуклюжее животное. Каждому известно: чтобы научить быка чему-нибудь, нужно выжечь на его шкуре тавро. Я поставлю такое тавро.
– Где ты был? – мой голос был мертвенно спокоен.
– В кино.
Ну что ж, ему зачтется, что он не лжет.
– Как ты заплатил за вход?
– Я нашел рингит на обочине дороги. – Его голос дрожал, он трясся от страха, но на меня это производило обратный эффект. Я потеряла голову от ярости. Кипящая лава изверглась из преисподней, и чудовище во мне взяло верх. Иначе этого объяснить нельзя. Последнее, что я помню, были мои слова: «Как ты заплатил за вход?» Это была еще я, любимая мамочка, но после этого уже монстр во мне взял гору, он говорил и делал такое, чего я никогда не могла сказать или сделать. Я молча стояла рядом и смотрела, что творит холодная ярость чудовища. Оно хотело видеть страдания и извинения ребенка. Я видела, как оно сделало глубокий, контролируемый вдох. Это было невероятно, насколько спокойным было чудовище.
– Лакшмнан, – холодно позвал монстр.
– Да, мама, – с готовностью ответил мой старший сын.
– Возьми своего брата, привяжи его к столбу на заднем дворе и бей до тех пор, пока он не расскажет нам, откуда взял деньги, – распорядилось чудовище.
Лакшмнан двигался быстро. Он был большим и сильным мальчиком, и уже через несколько минут тощие руки и ноги Джейана были крепко связаны. Змей стоял в дверях кухни и смотрел, как Лакшмнан снимает с брата рубашку. Мой старший мальчик продемонстрировал море неожиданного рвения. Темная кожа Джейана блестела в лучах солнца. Я стояла у окна кухни и смотрела, как Лакшмнан побежал за тростью. Я наблюдала издалека, как палка мстительно опустилась на тощую спину. И совершенно понятно, что сквозь бешеные вопли прорвалось признание.
– Я взял деньги из твоей сумочки, мама! Прости меня!! Прости, пожалуйста! Я больше никогда не буду так делать!!
Чудовище отвернулось. Одного признания было недостаточно. С убийственным спокойствием оно подошло к бутыли с оранжевой крышкой. Оно вытрясло немного мелкого красного порошка в свою подставленную ладонь и вышло на улицу. Оно стояло рядом с извивающимся Джейаном и смотрело в повернутое вверх лицо, искаженное болью и страхом.
– Прости меня, мама! Прости, пожалуйста! – Слезы стекали по его лицу маленькими ручейками.
Монстр пристально смотрел на него без всяких эмоций.
– Я обещаю, что больше никогда не буду так делать, – отчаянно причитал сын.
Пока меня не было, рассвирепевшее чудовище заглянуло в глубоко наполненные болью и страхом глаза моего маленького мальчика и внезапно снова разъярилось. Оно вдруг нагнулось и без предупреждения с силой дунуло в свою ладонь. В воздух поднялось облако красной пыли. Он зажмурил глаза, но недостаточно быстро. Действие перетертого перца чили было мгновенным. Оно заставило Джейана истерически закричать, тело его забилось в конвульсиях, пальцы беспомощно хватали воздух вокруг столба.
Онемевший Лакшмнан смотрел на меня, будто не веря своим глазам, а затем вернулся к порученному ему делу и стал безжалостно хлестать своего несчастного брата. Я вернулась в дом и вышла на веранду. Крики стали почти бессвязными.
– Мама! – пронзительно звал меня Джейан.
На веранде дома заклинателя змей стояла его худая жена и смотрела на меня.
– Мама! – снова прокричал Джейан.
Все остальные веранды были пусты, но занавески на окнах колыхались.
Монстр сел. Дул легкий ветерок.
– Мама, помоги мне! – завопил Джейан, и вдруг, как будто меня растолкали от сна, я очнулась. Чудовище исчезло. Я повернула голову и увидела, что на меня в ужасе, глазами, полными слез, пристально смотрит Анна.
– Скажи своему брату, чтобы он остановился! – закричала я.
Она рванулась назад, крича:
– Стой! Мама сказала прекратить! Прекрати сейчас же. Прекрати бить его. Ты же его убьешь!
Вошел Лакшмнан, с которого катил пот. Его руки тряслись, но глаза были дикими от яростного возбуждения. Я видела следы, которые на его влажном лбу оставил дьявол.
– Пойди и вымойся, – сказала я ему, избегая встречаться с ним взглядом. Его сияющие глаза вызвали во мне печаль. После того как чудовище исчезло, я чувствовала в себе странную пустоту.








