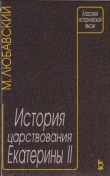Текст книги "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг"
Автор книги: Петр Стегний
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)
поляков диссидентский вопрос. Добившись уравнения православного и протестантского
меньшинств не только в религиозных, но и в сословных правах с католиками, русский
посол в Варшаве князь Николай Васильевич Репнин, племянник Панина, по существу,
спровоцировал социальный взрыв в Польше, направленный против России и
действовавшей в тесном союзе с ней Пруссии.
29 февраля 1768 года в небольшом польском городке Бар была сформирована
конфедерация, объявившая «крестовый поход» в защиту католической веры. Лидеры
Барской конфедерации получили поддержку Австрии, Франции и Турции. В стране
началась, по существу, гражданская война. На юге Польши, в пограничных с Османской
империей областях, вспыхнуло стихийное восстание украинских крестьян —
гайдаматчина, давшая повод (инцидент в Галте) к началу русско-турецкой войны в октябре
1768 года.
Основная ответственность за такое развитие событий традиционно возлагается на
Панина, которому в силу его должности действительно приходилось вести главные
переговоры с пруссаками и австрийцами. Между тем, позиция Панина в польских делах
была далеко не однозначной. Как мы помним, еще в конце 1769 года, когда Фридрих
впервые выдвинул идею раздела Польши, Никита Иванович твердо высказался против.
Еще во время пребывания в декабре 1770 года принца Генриха в Петербурге Сольмс,
весьма точно передававший все, что слышал, писал Фридриху:
«Говорил я также с Паниным о территории, занятой австрийцами в Польше. Он
очень смеялся над призрачностью этого факта, будучи того мнения, что если Венский двор
и позволяет себе подобные выходки, то Вашему величеству и России скорее должно
помешать ему, чем следовать его примеру; что касается его, то он никогда не даст своей
государыне совета завладеть имуществом, ей не принадлежащим. Наконец, он меня
просил не говорить в этом тоне во всеуслышание и не поощрять в России идею
приобретения на основании того, что поступать так удобно».
При чтении этой и некоторых других депеш Сольмса на ум невольно приходят
приводимые П.А. Вяземским слова Дениса Фонвизина, служившего у Панина секретарем:
«Дружество, больше на ненависть похожее». Это о чувствах, которые Никита Иванович,
называемый во многих исторических сочинениях пруссофилом, питал к прусскому
королю.
Через некоторое время жизнь заставила Панина изменить тон в беседах с послом
Фридриха II. В конце февраля 1771 года он уже говорил Сольмсу, что, если в Совете
станет вопрос о присоединении некоторых частей Польши к России, то он будет возражать,
хотя, в конце концов, ему, вероятно, придется согласиться, поскольку значительное
большинство членов Совета выступало за присоединение.
Дальнейшее известно. Уже к середине мая 1771 года тон высказываний Никиты
Ивановича по польским делам заметно изменился.
«Заинтересовав сим образом венский и берлинский дворы, скорее можно будет
заключить предполагаемый ныне мир с турками и успокоить польские замешательства»,
– заявлял он в эти дни в Совете.
На участие России в разделе Панин смотрел как на вынужденный шаг, понимая, что
без содействия Пруссии и Австрии закончить войну с турками почетным и выгодным
миром невозможно. По должности своей он лучше других знал, какими тяжелыми
последствиями могло обернуться продолжение военных действий – силы России были на
пределе. В этом смысле раздел Польши представлялся ему единственным в сложившейся в
Европе конъюнктуре способом создать благоприятные предпосылки для окончания войны.
Иной точки зрения придерживался Григорий Орлов. Пока Панин
противодействовал разделу, он хранил молчание. Когда же Никита Иванович, отчаявшись
отыскать иные средства к началу мирных переговоров, переменил взгляды, Орлов
принялся открыто осуждать сторонников раздела. Он был твердо убежден в том, что
почетный мир России принесут не дипломатические заигрывания с Пруссией и Австрией,
а решающие военные победы. Зная это, вряд ли можно считать случайным то
обстоятельство, что когда русско-прусские контакты по польским делам вступили в
решительную фазу, Орлов оказался в Москве, где занимался усмирением Чумного бунта в
сентябре, конце ноября 1771 года.
Вернувшись в Петербург он снова принялся за свое:
«Желание императрицы состоит в том, чтобы окончательно решить, не следует ли
ускорить заключение мира на выгодных для России основаниях прямым военным походом
на Константинополь», – заявил он в Совете 23 января 1772 года.
На следующий день Совет собрался специально для обсуждения предложения
Орлова. Захар Чернышев прочел по бумажке «мнение», сводившиеся к тому, что
«предпринять посылку войска в Константинополь раньше июня месяца нельзя».
«Хотя от Дуная до Константинополя всего триста пятьдесят верст, – говорил он,
– однако поход не кончится раньше трех месяцев, потому что надобно будет везти с собой
пропитание и все нужное».
Панин высказался против предложения Орлова, настаивая на немедленном начале
мирных переговоров. Орлов же упорно твердил о необходимости нанести двойной —
сухопутными и морскими силами – удар по турецкой столице, предлагая привлечь к
этому и запорожских казаков. Панин сомневался, что последние найдут достаточное
количество судов.
Остальные члены Совета хранили молчание, подозревая, и не без основания, что за
широкой спиной Орлова незримо маячила тень императрицы, которой хотелось окончить
войну с блеском.
«Что касается взятия Константинополя, то я не считаю его самым близким; однако,
в этом мире не нужно отчаиваться ни в чем», – писала она Вольтеру.
Однако амбициозные замыслы разбились о суровую реальность. Фельдмаршал
Румянцев, которому план Орлова был сообщен еще в декабре 1771 года, отнесся к нему
скептически.
«Для осуществления столь дерзкого проекта, – писал он Екатерине, – нужно, по
крайней мере, удвоить дунайскую армию».
Между тем, подкрепления взять было неоткуда: война с неумолимой
методичностью поглощала казавшиеся еще вчера неисчерпаемыми ресурсы огромной
империи.
Предварительное соглашение между Пруссией и Россией по польским делам было
достигнуто уже в начале 1772 года. В феврале Панин и Голицын с российской стороны и
Сольмс – с прусской, подписали секретную конвенцию относительно раздела Польши с
приложением, определявшим количество и условия содержания своих войск. Согласие
России на раздел увязывалось в этих документах с помощью Пруссии и Австрии в
быстрейшем окончании русско-турецкой войны.
Датирована русско-прусская конвенция была 4 января – на месяц раньше ее
фактического подписания. Смысл этой маленькой хитрости состоял в том, чтобы ускорить
согласие Австрии на участие в разделе. Оно последовало 21 января, а 8 февраля 1772 года
в Петербурге и Вене Иосифом II, Марией-Терезией и Екатериной II, был подписан Акт,
утвердивший принципы раздела Речи Посполитой. Одновременно были подписаны
полномочия Панину с Голицыным и австрийскому послу в Петербурге князю Лобковичу
подготовить текст окончательной конвенции.
В основу переговоров, растянувшихся на полгода, лег принцип «l’égalité la plus
parfaite» – полного равенства присоединяемых территорий. Несмотря на элегантность
формулировок, торговались яростно, рвали Польшу на куски. Фридрих II, называвший
раздел «политической нивелировкой», примерялся к Данцингу и Торну. Кауниц, Иосиф II
и Мария-Терезия, состязаясь друг с другом в лицемерии, требовали добавить к своей доле
то Краков, то Львов, то соляные копи в Величке, дававшие треть доходов в польскую
казну.
Самым употребительным в дипломатической переписке стало слово «mince» —
«тощий, худой». Крылатой сделалась фраза Марии-Терезии о том, что не стоит терять
репутацию ради худой выгоды – «pour un profit mince».
Справедливости ради надо признать, что в этом постыдном торге Екатерина и,
особенно, Панин пытались умерить разыгравшиеся территориальные аппетиты Австрии и
Пруссии. Никита Иванович твердо стоял за то, чтобы Польша и после раздела сохранила
свою политическую независимость, став буфером между тремя державами —
участницами раздела. В переданном австрийцам мемуаре, озаглавленном «Observations,
fondées sur l’amitié et bonne foi»55, он настаивал на том, чтобы оставить Польше «une force
et une consistence intrinsèque, analogues à une telle destination»56. Предложенный им
комплексный подход к оценке равенства долей позволил доказать несоразмерность
австрийских претензий на Краков и прусских – на Данцинг и Торн.
К 25 июля 1772 года все детали были, наконец, согласованы. В этот день в
Петербурге состоялось подписание двух секретных конвенций: одной между Россией и
Пруссией, другой между Россией и Австрией. К трем державам отошло около трети
территории и сорока процентов населения Речи Посополитой.
55 «Мнения, основанные на дружбе и доверии» (фр.)
56 Силу и внутреннюю структуру, соответствующие подобному предназначению
Самыми впечатляющими были приобретения Пруссии, решившей задачу
исторической важности – воссоединение Восточной и Западной Пруссии. К Пруссии
были присоединены княжество Вармия, воеводство Поморское (без Данцига),
Мальборгское, Хельминское (без Торуня), часть Иновроцлавского, Гнезнинского и
Познаньского – всего тридцать шесть тысяч квадратных километров с населением
пятьсот восемьдесят тысяч человек. Фридрих II, именовавшийся до раздела «королем в
Пруссии» принял титул «короля Пруссии».
На радостях он хотел наградить Панина прусским орденом Черного орла, однако
тот отказался под предлогом, что ранее уже не принял шведский орден Серафимов.
Наиболее обширными оказались австрийские приобретения – Восточная Галиция
с Львовом и Перемышлем, но без Кракова – всего восемьдесят три тысячи квадратных
километров с населением два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч человек.
К России отошли Восточная Белоруссия и часть Ливонии – девяносто три тысячи
квадратных километров с населением один миллион триста тысяч человек.
Станислав-Август обратился за поддержкой в Париж и Лондон, но ответом ему
было молчание. 19 апреля 1773 года конфедерационный сейм, созванный под давлением
трех держав, признал факт раздела.
Подписание петербургских конвенций по странной, но многозначительной
случайности совпало с открытием мирного конгресса в Фокшанах. Узнав о том, что раздел
состоялся, Орлов, в решающий момент вновь оказавшийся вне Петербурга, впал в
сильнейшую ярость и открыто заявлял, что составители раздельного договора
заслуживают смертной казни.
Самое неприятное заключалось в том, что Орлов был не одинок. Еще до раздела
посол в Лондоне А.И. Мусин-Пушкин в депеше от 6 (17) марта 1772 года сообщал, что в
английском министерстве «сомневаются, чтоб прусский Король при настоящих
обстоятельствах не присвоил себе более, нежели справедливо ему принадлежать могло.
Опасение сие иногда распространяется не только на всю Польскую Пруссию вместе с
Гданьском, но и на раздробление Польши». Подобную позицию по любым меркам нельзя
не оценить как проявление гражданского мужества, тем более что далее в той же депеше,
посол, уже от своего имени, говорит, что «большое Короля Прусского усиление могло бы
знатно уменьшить российскую инфлюенцию в генеральных делах европейских»57.
Происшедшее в результате раздела усиление Австрии и, особенно, Пруссии
казалось слишком высокой ценой за полученные преимущества не одному Мусину-
Пушкину. Федор Голицын, племянник и воспитанник Ивана Шувалова, писал в своих
57 АВПРИ, ф. Сношения России с Англией, оп. 35/1, д. 247, лл. 58-58об. (шифр.).
«Записках»: «Россия, почти всегда господствовавшая в Польше, усилив соседей, себе
выгоды ни малейшей не приобрела». Семен Романович Воронцов, будущий посол в
Лондоне, и вовсе называл раздел братского славянского государства с немцами актом
неприкрытого и ничем не оправданного коварства. Прямым следствием раздела Польши
выглядел и неблагоприятный для России переворот, случившийся в 1772 году в Швеции.
Осенью на русско-шведской границе возникла реальная опасность военного конфликта.
Логично предположить, что в подобной, прямо скажем, непростой обстановке
вызывающее поведение Орлова в Фокшанах стало последней каплей, переполнившей
терпение Екатерины. Не дремал и Никита Иванович, прямо связывавший срыв
Фокшанского конгресса с орловской оппозицией политике раздела. Мысль о том, что
уступки, сделанные в польском вопросе прусскому и австрийскому союзникам, ни на шаг
не приблизили Россию к желанной цели – заключению мира с Турцией, – приводила
императрицу в отчаяние.
Это, как мы полагаем, во многом предопределило дальнейший ход событий.
Десятилетний союз Екатерины с Орловым был в немалой степени союзом политическим.
Как только затянувшаяся связь стала помехой в государственных делах, императрица
разорвала ее.
Бушевавшему в Гатчине Орлову, который долго не мог смириться с мыслью о том,
что «случай» его миновал, были жалованы пенсия в полтораста тысяч рублей, сто тысяч на
устройство хозяйства и десять тысяч крепостных крестьян, не считая знаменитого
Мраморного дворца в Петербурге, сервизов, мебели и прочих мелочей.
Среди условий увольнения от двора, которые императрица передала в сентябре
1772 года опальному фавориту со старшим из братьев Орловых, Иваном Григорьевичем,
пунктом первым и, очевидно, главным был следующий: «Все прошедшее я предаю
совершенному забвению».
Зная характер Екатерины, трудно предположить, что речь шла только об интимных
подробностях разрыва. Если наше предположение верно и главную причину удаления
Орлова следует искать в сфере политики, то этой причиной могло быть лишь отношение
Орлова к польским делам.
8
Последовавшее 4 сентября назначение дотоле никому не известного кавалергарда
Васильчикова камергером привело двор в состояние сильнейшего возбуждения. Слишком
долго могущество Орлова казалось беспредельным. Многие ожидали, что со дня на день
он явится из Гатчины и восстановит status quo. Особенно надеялись на это придворные
лакеи и горничные, любившие Орлова за простое обращение и пользовавшиеся его
благосклонностью и покровительством.
Да и сам Васильчиков, казалось, считал себя во дворце временным постояльцем.
Молодой человек двадцати восьми лет, среднего роста, приятной наружности был
чрезвычайно вежлив со всеми, имел кроткий вид и отличался застенчивостью. Новое
положение его, видимо, смущало.
Тайным посредником его сближения с императрицей считали князя Федора
Барятинского, входившего в ближний круг Екатерины. Известно было также, что
Васильчиков приходился двоюродным племянником Кириллу Разумовскому. Когда же
молодого камергера стали часто видеть в обществе Панина, приемная его наполнилась
посетителями.
Торг с Орловым относительно условий его отставки продолжался почти месяц.
Только 28 сентября было объявлено о том, что прежний любимец отправлен в отпуск
сроком на один год. Екатерина распорядилась, чтобы Орлову и в Гатчине оказывали знаки
внимания, к которым он привык в Петербурге. Ему предоставили придворных поваров,
лакеев. Императрица лично выбирала для него постельное белье, скатерти, сервизы. Ее
поведение свидетельствовало об опасениях быть обвиненной в непостоянстве своих
сердечных привязанностей.
Жизнь, однако, шла своим чередом. По сведениям, проникавшим из внутренних
покоев, императрица переживала с Васильчиковым вторую молодость.
Во всей этой суете никто и не заметил, как наступило 20 сентября. А между тем,
это был знаменательный день – Павлу исполнилось восемнадцать лет. С
совершеннолетием великого князя его сторонники связывали большие надежды. Помня об
обстоятельствах прихода Екатерины к власти, Панин ожидал, что великий князь отныне
примет более деятельное участие в государственных делах. Однако этот день прошел тихо,
по-семейному. К праздничному столу, кроме Павла, Екатерина пригласила только Панина
и Сальдерна. Никаких наград и назначений не последовало. Вопреки ожиданиям,
достигшего совершеннолетия наследника престола даже не пригласили участвовать в
заседаниях Совета.
Сам великий князь не казался особенно огорченным этим обстоятельством.
Впрочем, Гуннинг доносил в Лондон в эти дни:
«Думаю, что великому князю небезызвестно то положение, в котором он находится;
беспечность, необдуманность, как кажется, не составляют его недостатков. Однако
критические обстоятельства, которые его окружают, до того развили в нем природную
скрытность, что он делает вид, что ничем не интересуется и не обращает внимание ни на
что, кроме пустых забав».
Надо отдать должное проницательности английского посла. Тогда полагали, что
летом-осенью 1772 года существовало несколько заговоров, направленных на то, чтобы
возвести на престол Павла. Даже Екатерина в ту пору как-то обмолвилась, что новые
послы Франции и Испании ехали в Петербург с надеждой на возможность революции в
пользу великого князя.
Еще в июле 1772 года Фридрих, внимательно следивший за обстановкой в России,
рекомендовал Екатерине вывести из Петербурга гвардию. Совет был услышан. 11 августа
Сольмс писал в Берлин:
«Меры предосторожности, предпринимаемые к гвардейцам, заключаются в том,
что их почти не пополняют набором, так что в каждом из полков не достает одной трети
против определенного положения. Затем тайно и без шума удаляют лиц, подозреваемых в
стремлении к возмущению, переводя их в армейские полки. Наконец, во всех этих полках
имеются майоры и несколько офицеров, доверенных немцев и лифляндцев, зорко
наблюдающих за поступками солдат, дабы иметь возможность погасить искру
возмущения. Вследствие этого весьма трудно составить заговор без того, чтобы не дошло
до сведения тех лиц, которые могли бы предупредить его».
Впрочем, не все действия Екатерины удостаивались одобрения прусского посла.
«Как согласить с ее здравым и просвещенным умом и замечательной
проницательностью свободу, с которой императрица допускает множество
злоупотреблений и чрезмерную снисходительность, оказываемую ею всем, столь дерзко
нарушающим свои обязанности?» – сокрушался Сольмс.
Читая ее депеши, Фридрих только усмехался. Ирод – так называла Екатерина
прусского короля в переписке с Гриммом – прекрасно понимал, что положение, в котором
оказалась императрица осенью 1772 года, требовало действий неординарных.
Ропот в гвардии был, однако, лишь частью тревожной, можно сказать критической
ситуации, в которой Екатерина встречала десятилетие своего царствования – 22 сентября,
через два дня после совершеннолетия Павла, была отмечена годовщина ее коронации.
Гораздо неприятнее было то, что с удалением Орлова произошел опасный крен в
балансе придворных партий, поддерживаемом ее знаменитым курц-галопом. Никита
Иванович почувствовав, что входит в силу, принялся громко высказывать недовольство
ложным положением, в котором оказался Павел после совершеннолетия. Панин намекал
даже, что если такое положение сохранится, то он вынужден будет удалиться от службы.
Брат Панина, Петр Иванович, живший после выхода в отставку в своем
подмосковном селе Михалкове, не стеснялся в выражениях. Екатерина называла его не
иначе, как своим «первым врагом и персональным оскорбителем». Петр Панин характером
был горяч, на язык несдержан, и императрице быстро стало известно, что он крайне
неуважительно отзывается как о нравах ее двора, так и об отношении к великому князю.
Московскому главнокомандующему князю Михаилу Никитичу Волконскому было
поручено установить негласное наблюдение за отставным генералом. Волконский
расстарался.
«Все и всех критикует», – доносил он в Петербург. Даже чумной бунт,
случившийся в Москве летом 1770 года, он, по показаниям какой-то унтер-офицерской
вдовы, связывал с кознями Петра Панина.
Отголоски крамольных речей и поступков Панина доносились до северной столицы
вплоть до осени следующего, 1773 года.
«Что касается до известного Вам болтуна, – наставляла Екатерина Волконского 25
сентября 1773 года, – то я здесь кое-кому внушила, чтобы до него дошло, что если он не
уймется, то я буду принуждена унимать его, наконец. Но как богатством я брата его
осыпала выше его заслуг на сих днях, то я чаю, что и он его уймет же, а дом мой
очистится от каверзы».
Обратим внимание на эти слова. Они ясно указывают на главную цель и заботу
Екатерины: очистить свой дом от каверзы.
В этом, надо полагать, и заключается скрытый смысл дальнейших событий.
9
Вечером 23 декабря 1772 года Орлов неожиданно явился в Петербург и
остановился у брата, графа Ивана. На другой день он был принят Екатериной в
присутствии Елагина и Бецкого. От императрицы Орлов прошел вместе с Паниным в
кабинет Павла Петровича и оставался с ним некоторое время один на один. Отобедав
затем у брата, Григорий вернулся во дворец и, как ни в чем не бывало, присутствовал на
всенощной по случаю наступающего Рождества. Иностранные послы сделали на всякий
случай Орлову визиты, который поспешил нанести им ответные в тот же день.
Относительно причин возвращения отставного фаворита двор терялся в догадках.
Между Екатериной и Васильчиковым, казалось, царила полная гармония. Орлов при
встречах с Васильчиковым вежливо раскланивался. Сольмс, наблюдавший за ним,
отправил в Берлин сообщение, что Григорий Орлов вел себя, как всегда, открыто и
дружелюбно. Разница состояла лишь в том, что «императрица как будто старалась не
замечать его».
Панин, для которого появление Орлова в Петербурге стало неприятной
неожиданностью, устроил императрице сцену. Явно не без влияния своего воспитателя
Павел также позволил себе морщиться при появлении «дурачины», как он назвал Орлова.
И в довершение всего камергеры Протасов и Талызин, обязанные своим счастьем
покровительству Орлова, но сумевшие своевременно переметнуться на сторону нового
любимца, разносили по петербургским гостиным всякие гадости о том, что происходило
во внутренних покоях Зимнего дворца.
Дошло до того, что Екатерина вынуждена была обратиться к Панину с просьбой не
отличать этих людей или, по крайней мере, не относиться к ним как к своим друзьям.
Панин, однако, холодно заявил, что Екатерина не должна стеснять его в выборе знакомств.
Кстати, жену Талызина, считали его любовницей, и он держал себя так, чтобы этому
верили. Екатерину все это страшно злило, но по укоренившейся привычке она
высказывала свое недовольство не Панину, а другим, подавая этим повод к новым
сплетням и пересудам.
В первых числах января 1773 года Орлов отбыл в Ревель, где рассчитывал остаться
до лета. Однако уже в марте вновь удивил всех своим появлением в Петербурге. Люди
проницательные связали это с прекращением мирных переговоров в Бухаресте, после
которых многочисленные недоброжелатели Панина принялись утверждать, что в провале
предыдущего, Фокшанского конгресса виноват вовсе не Орлов, а сам Никита Иванович.
Для Панина наступили тяжелые времена. Орлов вел себя так, будто наслаждался
обретенной свободой, появляясь на всех балах и во дворце, и в городе. Казалось, он даже
не думал мстить своим врагам – играл в шахматы с Никитой Ивановичем, хотя знал,
что тот настойчивее других хлопотал о его удалении от двора.
21 мая 1773 года неожиданно последовал высочайший указ о возвращении Орлова
на занимаемые им должностям «ввиду поправки здоровья». Это стало сильным ударом по
панинской партии. Никита Иванович оказался в глупейшем положении. Всем, в том числе
и Екатерине, было прекрасно известно, что в случае возвращения Орлова к делам он
грозился немедленно уйти в отставку.
Панин так растерялся, что повел себя не лучшим образом.
«Поведение графа, – замечал Гуннинг, – совершенно противоположно поведению
князя Орлова, ибо он, имея ввиду оклеветать князя, вступил в интриги, не достойные ни
его звания, ни характера. Рассчитывая слишком много на власть, которую это ему
доставит, и не обладая достаточной твердостью при исполнении высказанного им
намерения отказаться от должности в случае возвращения Орлова, он в настоящее время
находится в сильном унынии».
Летом 1773 года после приезда в Петербург ланд-графини Гессен-Дармштадтской,
Панин распустил слух о намерении Григория Орлова жениться на младшей из
дармштадтских принцесс и тем самым сравняться в положении с великим князем. Сольмс,
неосторожно сообщивший об этом в Берлин, уже в конце июля был вынужден
оправдываться:
«Граф Панин, опасаясь постоянных козней со стороны князя Орлова, видит
зачастую вещи в ненастоящем их виде; вражда к старому любимцу создает в его
воображении такие планы, которых у Орлова никогда и не бывало».
10
Даже спустя месяц после своей отставки Панин не мог разобраться в вызвавшем ее
причудливом взаимосцеплении причин и обстоятельств. Чем глубже он погружался в
размышления, тем сильнее ему казалось, что истинные причины ускользают от него.
Ровно за неделю до бракосочетания Павла Петровича с дармштадской
принцессой, 22 сентября 1773 года, в годовщину коронации Екатерины, которая всегда
праздновалась с особой пышностью, Никите Ивановичу пришлось освободить покои,
которые он более десяти лет занимал в Зимнем дворце. Его комнаты были в спешном
порядке переоборудованы для супруги Павла Петровича. Обои – розовые с золотыми
разводами – и мебель в спальню великой княгини выбирала сама императрица.
Причина переезда состояла в том, что Панин был отставлен от должности обер-
гофмейстера, которую исполнял без малого пятнадцать лет. За труды по воспитанию
наследника престола ему пожаловали «звание первого класса в ранге фельдмаршала»58 с
жалованием и столовыми деньгами по чину канцлера, четыре тысячи пятьсот двенадцать
душ в Смоленской губернии и три тысячи девятьсот душ в Псковской; сто тысяч рублей на
обзаведение домом; ежегодный пенсион в двадцать пять тысяч рублей. Для Панина было
повелено купить дом в Петербурге, который он сам выберет, и обставить его, а также
приобрести серебряный сервиз в пятьдесят тысяч рублей, провизии и вина на целый год.
Экипаж и лошади выделялись Никите Ивановичу из дворцовой конюшни, а его слуги
получали право носить придворные ливреи.
Награда, что и говорить, достойная. И, тем не менее, послы иностранные
предрекали скорое окончательное падение Панина. В подтверждение этого они ссылались
на письмо, собственноручно написанное Екатериной, в котором среди прочего содержался
и следующий пассаж: «Пусть дни старости нашей увенчаны будут благословением
Божьим и благополучием всеобщим после бесчисленных трудов и попечений». При
известной способности дипломатов читать между строк эти слова толковались как намек
на желательность полного самоустранения Панина от дел.
58 Звание действительного тайного советника (соответствующее, согласно Табели о рангах, высшему званию
фельдмаршала).
Это, однако, не входило в планы Никиты Ивановича.
«Je resterai exprès pour la faire enrager»59», – так передавал Штакельберг
Понятовскому слова, якобы сказанные ему Паниным.
Впрочем, формально Панину не на что было жаловаться. Наследник престола
достиг совершеннолетия, женился —странно и смешно выглядел бы при нем воспитатель.
Не должно было задевать его и то, что вместо него к великокняжескому двору назначили
Николая Ивановича Салтыкова. Одно дело быть наставником наследника престола и
совсем другое – приглядывать, и не только в смысле церемониальном, за молодым
двором.
Кроме того, Панин не только сохранил, но и упрочил свое положение руководителя
российской внешней политики. С начала октября 1773 года в протоколах Государственного
совета он именовался министром иностранных дел. Пожалуй, если и было ему на что
обижаться в смысле служебном, так только на то, что, получив первый, фельдмаршальский
класс согласно Табели о рангах, он не был официально назначен канцлером, чего ожидал и к
чему тайно стремился.
Оставаясь наедине с самим собой в гулком одиночестве нового дома, Никита Иванович не мог
не признать, что резоны, и весьма веские, поступить так с ним у императрицы были. Дело, конечно, не в
том, что и по прусским, и по польским, да и по турецким делам они все чаще не сходились во мнениях.
Никиту Ивановича устраивало уже то, что ему дозволялось высказывать свои взгляды. Случалось ведь,
и нередко, что с ним соглашались, хотя, как вскоре выяснялось, в основном по вопросам
второстепенным.
Дело было в другом. Он часто задумывался, почему именно ему доверила
императрица воспитание сына. Никогда, ни в июньские дни
1762 года, ни позже не скрывал он своего убеждения в законности прав Павла на
царствование. Не раз заводил разговор о желательности привлечь великого князя к
участию в государственных делах, чтобы заблаговременно подготовить его к высоким
обязанностям. Екатерина слушала внимательно, но советы его оставляла без последствий.
А между тем, чем старше становился Павел, тем более угнетало его вынужденное
бездействие. Учиться стал заметно хуже, преподаватели жаловались. Природная живость
характера превращалась во вспыльчивость, делавшую его похожим на покойного
родителя.
Сейчас уже, после дела, Никита Иванович не мог не признать, что в перемене нрава
и поведения великого князя была и его доля вины. Разговоры, происходившие между ними
59 Я останусь нарочно для того, чтобы злить ее (фр.). ГАРФ, ф.728, оп.1, ч.1, д.130 «Mémoires du roi Stanislas-
Auguste…», v.7, pp.100-102.
один на один, бывали порой весьма откровенными. Однако, обсуждая с великим князем
недостатки в отправлении государственных дел, Панин в силу возраста и опыта считал
достоинства екатерининского правления как бы самими собой разумеющимися. Великий
князь же с самоуверенностью и максимализмом юности делал свои выводы. Отношение
его к правлению матери становилось все более критическим.
Екатерина, конечно же, знала многое из того, что обсуждали между собой великий
князь и его старый наставник. И, тем не менее, Панина не трогали.
Почему?
Не находя ответа, Никита Иванович встал из-за обеденного стола, резким
движением отбросил салфетку и принялся мерить шагами роскошно убранную столовую.
Замерший у дверей дворецкий смотрел в никуда старческими стеклянными глазами.
«Сальдерн, – пронзило вдруг мозг Никиты Ивановича. – Вот оно, вот то самое
звено, которое потянуло за собой всю цепь. Вот та решающая ошибка, которую ему при его
опытности в обращении при дворе совершать не следовало».
11
Каспар фон Сальдерн60 был голштинским чиновником и сыном голштинского
чиновника. Отец его, Фридрих Сальдерн, был немцем из Ноймюнстера, мать, Анна-Мария
Кампфёвенер, – из зажиточной семьи торговцев датского городишки Апенраде. Диплом
доктора права, полученный, по семейной традиции, в университете Христиана-Альбрехта
в Киле, открыл ему дорогу для службы в канцелярии Голштейн-Готторпского княжеского
дома. Начав со скромной должности асессора, к началу 1750 годов Сальдерн был уже