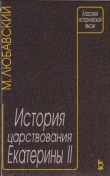Текст книги "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг"
Автор книги: Петр Стегний
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 45 страниц)
суждения о предмете, в котором ничего не понимают.
– Кстати, Дени, – продолжил Фальконе, – тот же вопрос, что и вы задала мне
недавно наша великая женщина.
– Императрица? – поднял брови Дидро.
– И я ответил, что готов не подписывать под этой статуей своего имени.
– И что же она?
– В этом вся суть, мой друг, в этом вся суть. Ее ответ был прелестен. «Как вы
можете полагаться на мой суд, – писала мне она, – когда я и рисовать не умею. Ваша
статуя будет, быть может, первой хорошей, виденной мной. Всякий школьник больше
моего смыслит в вашем искусстве».
– Какая женщина, какая удивительная женщина, – воскликнул Дидро. – Она
совершенно права, давая приблизиться к себе: чем ближе ее узнаешь, тем более она от
этого выигрывает.
– Да, – согласился Фальконе, – такой ответ сделал бы честь и Марку Аврелию.
К сожалению, окружают ее невежды и остолопы.
– А где иначе? – живо возразил Дидро. – Со времен Рима у трона императора
толпятся не философы, а подлецы. Да вспомните хоть наш Версаль, любой европейский
двор, ну, может быть, кроме берлинского...
– И все же такие дремучие дураки, как в России, для Европы редкость, – упрямо
продолжал Фальконе. – Возьмите хоть нашего здешнего наставника, Бецкого. Можете
себе представить, что этот Сфинкс, как она его называет, вполне серьезно давал мне совет
поставить памятник Петру Великому таким образом, чтобы тот одним глазом смотрел на
здание Сената, а другим – на Адмиралтейство, находящееся в противоположной стороне?
– Вы шутите? – вскричал Дидро, заливаясь от смеха.
– А сколько крови он испортил мне со змеей, ползущей под ногами коня? —
продолжал Фальконе, все более воспламеняясь. – Сколько ни объяснял я ему, что это
аллегория зависти, обычного спутника великих людей, как ни доказывал необходимость
дать тяжеловесной скульптуре третью точку опоры, как ни показывал сделанные мною
вычисления – он требовал, да и до сих пор требует ее уничтожения. Лишь сознание
важности доверенного мне дела и поддержка нашей августейшей покровительницы дает
мне силы бороться с этим чудовищем.
– Ecraser l’infâme – раздавить гадину, – еле выговорил Дидро, продолжая
хохотать, – мне кажется я где-то уже это слышал.
– Теперь вот эта история с отливкой, подумать только: потрачены сотни тысяч и,
клянусь, не меньше половины разворовано или пущено на ветер, а выписать знающего
литейщика из Европы считается делом чересчур дорогостоящим. Боже, где взять силы?!
– Что же императрица? – поинтересовался Дидро.
– Если бы я делал памятник ей, – в сердцах воскликнул Фальконе, – то змее
непременно придал бы физиономию Бецкого. Но зависть и невежество, друг мой, победить
нельзя. Императрица не отвечает на мои письма уже три недели.
– Я постараюсь увидеть ее, – сказал Дидро спокойно.
В конце августа 1775 года уже после отъезда Дидро из Петербурга, Фальконе
приступил, наконец, к отливке. Она, однако, не удалась. Из-за небрежности помощника
Фальконе Поммеля, не уследившего за рабочими, голову всадника и верхнюю часть коня
пришлось отливать заново. Только летом 1778 года памятник был вполне готов. Резец
скульптора сгладил шероховатые следы спайки.
В сентябре 1778 года, после двенадцати лет упорного труда, Фальконе покинул
Петербург, а еще через четыре года, 7 августа 1782 году, в столетнюю годовщину
вступления Петра на престол, состоялось торжественное открытие Медного всадника.
Когда полотняные щиты, укрывавшие его от взглядов бесчисленной толпы, были убраны,
на хмуром петербургском небе просияло солнце. Гвардейские полки в числе двадцати пяти
тысяч человек выстроились в каре вокруг памятника великому преобразователю России. С
Петропавловской крепости и подошедших к берегу военных судов грянули пушки.
Екатерина наблюдала за торжественным действом с балкона Сената. Когда звуки военной
музыки, оружейная и пушечная пальба прекратились, Бецкий поднес государыне
изготовленную по этому случаю медаль. На одной стороне ее был представлен памятник,
на другой изображена сама государыня.
На следующий день после открытия памятника Екатерина писала Гримму:
«Петр I, почувствовав себя под открытым небом, имел, как нам показалось, столь
же бодрый, сколь и величественный вид. Можно было думать, что он доволен своим
созданием. Долго я была не в силах смотреть на него, я была растрогана и когда
оглянулась кругом, то увидела, что у всех на глазах слезы. Его лицо было повернуто в
сторону, противоположную Черному морю, но его поворот головы говорил, что он
охватывает сразу весь горизонт. Он находился слишком далеко от меня, чтобы я могла с
ним говорить, но мне казалось, что он испытывал удовлетворение, которое передалось и
мне и придало мне желание работать в будущем еще лучше, если это в силах моих».
Что касается Фальконе, то ни в этот день, ни в последующие дни Екатерина, да и
никто другой в Петербурге про него не вспоминали.
3
С первого дня своего появления в Петербурге Дидро оказался в центре
политических интриг, замешанными в которых были персоны значительные – послы
Франции и Пруссии при петербургском дворе.
Фридрих II ревниво следил за поездкой Дидро. Он не хуже Екатерины понимал, что
тот, на чьей стороне были симпатии философов, заручался поддержкой общественного
мнения всей Европы. Кроме того, он опасался и, как мы вскоре увидим, не без основания,
что французская дипломатия не преминет использовать поездку Дидро во вред Пруссии. В
Берлине принялись распускать слухи о том, что в Версале крайне неблагоприятно
отнеслись к паломничеству Дидро ко двору Северной Семирамиды.
Между тем, перед отъездом Дидро был принят руководителем французской
внешней политики герцогом д’Эгильоном. Заинтересованный, чтобы не сказать больше,
прием встретил философ и у французского полномочного министра в Петербурге Франсуа
Мишеля Дюрана де Дистроффа.
А теперь несколько слов о Дюране. Поверьте, человек этот заслуживает нашего
внимания.
Дюран появился при дворе Екатерины осенью 1772 года, накануне
совершеннолетия великого князя. В Версале, как впрочем и при других европейских
дворах, ожидали в связи с этим важных перемен в российских государственных делах,
которые надеялись использовать для улучшения отношений между Францией и Россией.
Отношения эти в первые годы царствования Екатерины оставались натянутыми,
чтобы не сказать неприязненными. В Петербурге это связывали с кознями герцога
Шуазеля, остававшегося до конца 1770 года государственным секретарем Людовика XV
по иностранным делам. Екатерина считала Шуазеля своим первым врагом в Европе.
Действительно, ненависть герцога к российской императрице граничила с патологией. В
инструкциях французским послам, отбывавшим к месту службы, Екатерине давались
самые нелестные характеристики, причем, как ни странно, Шуазель, питавший, несмотря
на малый рост и огненно-рыжую шевелюру, склонность к прекрасному полу и
державшийся при дворе Людовика XV благодаря расположению всесильной маркизы
Помпадур, особенно сокрушался по поводу падения нравов в Петербурге.
А между тем, всего десять лет назад, накануне воцарения Екатерины, Россия и
Франция, казалось, стояли на пороге новой эры в своих отношениях. Помня о роли,
которую сыграл маркиз де ля Шетарди в восшествии на престол Елизаветы Петровны,
Екатерина поручила весной 1762 года своему секретарю Одару обратиться к
французскому послу с просьбой о тайной финансовой субсидии. Деньги нужны были для
агитации в гвардии.
Послом Франции в Петербурге был в то время барон Луи Огюст де Бретейль.
Коллеги по службе характеризовали его следующим образом: «Тщеславный и грубый, хотя
и беспардонный и безнравственный». Впрочем, Людовик XV и руководитель его тайной
дипломатии, так называемого Секрета короля, граф Шарль де Брольи относились к
Бретейлю более снисходительно. Он был посвящен в Секрет и поддерживал прямую
переписку с королем, игнорируя приказы Шуазеля, если они вступали в противоречие с
предписаниями Людовика XV (это, кстати говоря, случалось нередко). Король и его
министр иностранных дел сходились лишь в одном: крайней антипатии к России. В
инструкциях, данных Людовиком Бретейлю, об этом было сказано без обиняков:
– Vouz savez déjà et je repeterai ici bien clairement, que l’objet de ma politique avec la
Russie est de l’éloigner autant qu’il sera possible des affaires de l’Europe64.
64 Вы уже знаете это, но я повторю еще раз, что цель моей политики по отношению к России состоит в том,
чтобы удалить ее, насколько возможно, от дел Европы (фр.).
Как ни странно, но подобные заявления делались в Версале в разгар Семилетней
войны, в которой Россия и Франция выступали союзниками. Стоит ли после этого
особенно удивляться тому, что денег Бретейль Екатерине не дал?
Впрочем, отказ в деньгах сам по себе был бы небольшой бедой, поскольку
субсидировавший переворот английский посол Вильямс также не извлек особых
политических выгод из своей щедрости – после воцарения Екатерина аккуратно вернула
англичанам долг (Вильямс к тому времени умер), тепло поблагодарила – и только. Хуже
было другое. Опасаясь быть обвиненным в причастности к подготовке переворота,
Бретейль за две недели до воцарения Екатерины демонстративно отбыл в отпуск. Его
вернули с полдороги, но дела посла при екатерининском дворе явно не заладились, хотя
сама Екатерина зла, казалось, не помнила, беседовала с Бретейлем доброжелательно и
даже первое время отправляла через него письма Понятовскому, после переворота
рвавшемуся из Варшавы в Петербург. Возникли, однако, протокольные сложности.
Франция медлила с признанием императорского титула Екатерины. Бретейль был
единственным из аккредитованных в Петербурге дипломатов, не присутствовавшим при
коронации Екатерины.
Екатерина в споре о титуле заняла более жесткую позицию, чем Елизавета
Петровна и Петр III, давшие французским послам затребованный ими реверсаль —
документ, предусматривающий, что признание императорского титула не будет означать
изменения действовавшего протокола, обеспечивавшего preséance65 французских
дипломатов перед русскими. Давать реверсаль Екатерина отказалась категорически —
терять достоинство перед Людовиком XV, которого оценивала чрезвычайно низко, никак
не входило в ее планы.
Исправлять ошибки и оплошности, допущенные Бретейлем и его преемниками
(сменившему его поверенному в делах Беранже было и вовсе запрещено появляться при
дворе), предстояло новому полномочному министру Франции в Петербурге. Энергией и
опытом Дюран превосходил своих предшественников. На дипломатической службе он,
выходец из семьи депутата парламента от округа Мец, находился более четверти века. Еще
на Аахенском конгрессе, завершившем борьбу за австрийское наследство, Дюран показал
себя дипломатом умным, мужественным и скромным. Граф Шарль де Брольи, глава
Секрета короля, в полной мере оценил его профессиональные качества. В 1754 году
Дюран оказался на посту полномочного министра в Варшаве, совмещая
представительские функции с работой агента тайной дипломатии. После того, как была
65 Преимущество в занимаемом месте на протокольных мероприятиях.
перехвачена его секретная переписка с де Брольи, он попал в опалу, длившуюся вплоть до
отставки Шуазеля в 1770 году.
В 1771 году в Лондоне вспыхнул скандал с шевалье д’Эоном, присвоившим
секретный архив французского посольства в Англии – и Дюран снова при деле.
Направленный в Лондон графом де Брольи, он смог получить у д’Эона самый опасный
документ архива – письмо о проведении разведки английского побережья для возможной
высадки морского десанта с собственноручной подписью Людовика XV. Лондонский
успех принес Дюрану пост полномочного министра в Вене. Здесь, однако, его постигла та
же неудача, что Кэткарта в Петербурге. Канцлер Кауниц был так скрытен, что в Версале
узнали о разделе Польши только спустя несколько месяцев после подписания первых
соглашений между Россией, Австрией и Пруссией. (Кстати, известный Сабатье де Кабр,
предшественник Дюрана в Петербурге, весной 1772 года также не верил, что раздел
Польши уже фактически совершился.) Избежать неприятностей Дюрану удалось лишь
благодаря протекции Брольи, который рекомендовал его сменившему Шуазеля герцогу д’
Эгильону.
Пост посланника в Петербурге оказался последней услугой, которую успел оказать
де Брольи своему протеже. Времена изменились. Людовик XV, который и в лучшие годы с
гордостью говорил о себе: «Je suis un homme inéxprimable»66, с начала 1772 года, за два
года до своей кончины, перестал интересоваться чем-либо кроме охоты. Влияние
бесцветного д’Эгильона, благодаря благосклонности последней фаворитки короля мадам
Дюбарри, сделалось неограниченным. К счастью, Дюран был известен д’Эгильону – он
помогал ему составить мемуар, обосновывающий необходимость для Франции
заключения союза с малыми государствами Бурбонского дома – в противовес Северной
системе Панина. Д’Эгильон, успевший к тому времени сделать то, что не успел Шуазель,
– отправить в отставку де Брольи, – нашел, что Дюран, несмотря на близость к
опальному руководителю Секрета короля, – дельный человек. Герцог решил дать ему
шанс взять реванш за неудачу в Вене.
Дюран появился в русской столице в июне 1772 года. С первой задачей,
поставленной перед ним королем, он справился быстро. Спор о титуле был окончен
компромиссом, устроившим обе стороны. От требования реверсаля французы отказались,
настояв взамен, чтобы Екатерина в письмах к Людовику XV называла его не просто «Votre
majesté»67, но «Votre majesté très chretienne»68. Кроме того, поскольку по-французски новая
66 Я человек необъяснимый (фр.).
67 Ваше величество (фр.)
68 Ваше христианнейшее величество (фр.)
формула королевского титула звучала не вполне благозвучно, официальную переписку
было решено вести на латыни.
Это была маленькая дипломатическая победа Екатерины. «Die armen Leute»69, как
она называла французов, подразумевая, прежде всего, Версаль, после провалов своей
политики в Польше и Швеции, вынуждены были вести себя скромнее. Герцог д’Эгильон в
беседах с русским поверенным в делах в Париже Хотинским открыто винил Шуазеля в
недальновидности, признавая фактическую изоляцию Франции в Европе.
Однако союз России, Пруссии и Австрии, действовать против которого
предписывалось Дюрану, оказался неожиданно прочным. Главную причину этого
французский дипломат видел в пруссофильской политике Панина. Противодействовать ей,
по мнению посла, можно было, только поддерживая влияние при дворе Орловых. Дюран с
головой погрузился в интриги, паутиной опутавшие петербургский двор весной-осенью
1773 года. Григорий Орлов стал частым гостем в его доме. Дюран, однако, с удивлением
обнаружил, что отставной фаворит по натуре незлобив и, поругивая под настроение
Панина, вовсе не собирался мстить ни ему, ни сменившему его в будуаре императрицы
Васильчикову.
Никита Иванович же, напротив, узнав о намечающемся приятельстве Дюрана с
Орловым, принял меры. Прошло совсем немного времени – и француз почувствовал, что
вокруг него образовался вакуум. Словоохотливый прежде Панин стал при встречах
неожиданно лаконичен, приглашения присутствовать на Эрмитажных собраниях
поступали через раз. Даже во взгляде Орлова Дюрану чудилось некое сожаление. Такими
печальными оказались дела французского посла к моменту приезда Дидро.
4
«Рeu fréquentez notre Ambassadeur. On est disposé à regarder comme des espions ceux
qui sont assidus chez lui70», – так наставлял Фальконе своего друга, когда тот начал
осваиваться в Петербурге.
Совет благоразумный. Однако Дидро ему не последовал. Он не только не раз
встречался с Дюраном, но и попытался, по его просьбе, исправить представления
Екатерины о Франции и французской политике.
«Уничтожьте, если это окажется возможным, предубеждение императрицы против
нас. Дайте ей почувствовать, насколько ее слава могла бы приобрести блеска тесным
союзом с нацией, более чем всякая другая способной оценить выдающиеся способности
императрицы и придерживаться относительно нее благородного образа действий».
69 Никудышные люди ( нем.)
70 Поменьше посещайте нашего посла. На тех, кто с ним связан, принято смотреть как на шпионов (фр.).
Эта не лишенная вдохновения импровизация посла, прозвучавшая на одной из его
встреч с Дидро, ясно показывает, как верно понял он, что в беседах с философом следует
обращаться не столько к его разуму, сколько к чувствам.
Мотивы, которые побудили Дидро взяться за выполнение этого поручения, не
вполне ясны. Конечно, он сам не раз называл себя добрым французом и давал понять, что
за границей его патриотизм возрождается. Похоже, однако, что было еще кое-что.
Возможно, аукнулась история с предисловием к рукописи Гельвеция, так возмутившим
Версаль.
Дидро принялся за дело основательно.
– Если Ваше величество позволит, – говорил он, устраиваясь октябрьским
вечером в кресле напротив императрицы, – я бы хотел сегодня помечтать вслух.
Предметы наших бесед были настолько серьезны, что, право, надо же когда-то и
пофантазировать.
– И о чем же вы собираетесь мечтать, господин философ?
– О Франции и России, – живо отвечал Дидро, – о союзе и согласии этих двух
великих держав.
– Вы решили заняться дипломатией? – подняла брови Екатерина.
– Что вы, Ваше величество, дипломат и философ – антиподы. Послы
направляются в чужие страны, чтобы лгать на пользу своему государству. Философ же
обязан всегда говорить правду.
– В таком случае не думаю, чтобы вы могли бы сказать что-то в оправдание
политики вашего кабинета по отношению к России, разве что это действительно будут
мечты наяву.
– Возможно, Ваше величество, – отвечал Дидро, – но это будут мечты человека
честного из принципа. Для того, чтобы быть патриотом и гражданином, необходимо быть
правдивым даже в мечтах.
На лице Екатерины появилась слабая улыбка, как бы приглашавшая Дидро
продолжать.
– Я не дипломат, – Дидро говорил все быстрее, что являлось верным признаком
овладевавшего им энтузиазма. – И поэтому я действительно ничего или почти ничего не
могу сказать в оправдание той политической системы, которой Франция придерживалась
совсем недавно. Однако герцог Шуазель скоро уже два года находится в изгнании, а
политика нынешнего министерства состоит в том, чтобы разрушить всю работу
предыдущего. Может быть, это делается бессознательно, но сути дела не меняет. Важно
другое. К удалению господина Шуазеля двор отнесся со своим обычным равнодушием. В
обществе же это событие вызвало совсем другие чувства, и эти чувства очень походят на
ожидание перемен.
– Говоря об обществе, вы имеете в виду ваших друзей философов?
– Есть вопросы, в которых мы все сходимся. Думаю, для Вас не секрет, что во
Франции не любят прусского короля; в этом и двор и философы придерживаются единого
мнения, только мотивы у нас разные. Философы ненавидят его потому что видят в нем
самолюбивого, беспринципного политика, для которого нет ничего святого, вечную угрозу
для Европы. Двор же ненавидит прусского короля за то, что он великий человек и за то,
что он может помешать нашей теперешней политике.
Горячность Дидро, казалось, начинала нравиться Екатерине.
– Вы, кажется, не любите этого государя? – спросила она тоном, в котором вовсе
не чувствовалось неудовольствия.
– Он великий человек, но плохой король и при том фальшивомонетчик.
– Но и ко мне попала часть его монет, – заметила императрица, улыбаясь.
– Что вы, ваше величество, – вскричал Дидро, – во Франции все ясно видят
разницу между Вами и прусским королем! В Париже нет ни одного честного,
просвещенного и доброго человека, который не обожал бы ваше величество. За вас все
академики, философы, писатели, и они этого не скрывают. Ваши добродетели, ваш гений,
ваши поступки и в войне и в мире прославляются на тысячу ладов, и двор, по-моему, не
особенно доволен, что у прусского короля появилась такая соперница.
– Вам не кажется, что вы противоречите сами себе, господин Дидро?
– Отнюдь, я же не говорю, что наш двор или какой-то другой способен простить
вам ваше величие. Однако то, что в Версале чувствуют в данную минуту все выгоды
хороших отношений с державой, теперь уже весьма могущественной и большими шагами
идущей к еще большему могуществу, – в этом я не сомневаюсь.
Эти слова Дидро сопроводил эффектным взмахом руки. Екатерина невольно
отпрянула назад, но увлекшийся философ не заметил этого.
– Франции нет никакого резона мешать вам занять место среди могущественных
государств Европы в то время, как два ваших соседа сделают все, чтобы Россия оставалась
государством второстепенным. Несмотря на Парижский трактат, наш естественный
противник – Австрия, а ваш – Пруссия. Именно поэтому Франция охотно вступит в
союз с вами. Мы все убеждены, что могущество России прочно и непоколебимо. Успехи
же Пруссии временные, кто знает, кто будет править этим экипажем, когда постаревший в
войнах кучер, держащий сейчас вожжи, свалится с облучка?
– Да, теперь я вижу, что в своем стремлении говорить правду вы не знаете границ,
– задумчиво сказала Екатерина. – Но если вы правдивы из принципа, то не знаете ли вы
людей дурных из принципа?
Дидро был слишком возбужден, чтобы почувствовать предупреждение, таившееся в
этих словах.
– И даже из самого высшего круга! – воскликнул он. – Прежде всего, я назову
короля прусского.
– А я вас на этом остановлю, – холодно сказала императрица. – Ваши мечты
слишком конкретны, мне начинает казаться, что они не плод вашего воображения, а нечто
напоминающее политический мемуар, написанный во французском посольстве.
Дидро не смутил такой поворот разговора.
– Не скрою, ваше величество, – продолжал он, – часть из того, что я имел честь
только что изложить, навеяно беседой с нашим здешним представителем, господином
Дюраном. Впрочем, я думаю, что он поступил весьма основательно, предпочтя сделать это
через меня, – человека, говорящего правду из принципа. Господин Дюран достаточно
умен и образован, чтобы понимать: то, что может позволить себе философ, далеко не
всегда может позволить себе посол.
– А что он за птица, этот Дюран? – спросила Екатерина. – Он уже год, как здесь,
а я все не пойму, что у него на уме.
– Я нахожу его, может быть, излишне острым на язык, но честным и
здравомыслящим. Кроме того, его остроты не оскорбительны. На родине, где трудно
избежать клеветы и пересудов, он пользуется репутацией человека весьма достойного. Что
же касается его политических идей, то он много говорил мне о важности равновесия
между четырьмя главными державами, от которых зависят судьбы Европы – России,
Франции, Австрии и Пруссии. Он убежден, что без участия вашего императорского
величества установить такое равновесие невозможно, это его подлинное выражение.
Дидро немного помедлил:
– Конечно, Дюран – представитель нашего правительства и вынужден
действовать в его интересах. Однако не думаю, чтобы он с такой настойчивостью
добивался того, что не отвечало бы выгодам вашего императорского величества.
К сожалению, ни в архивах, ни в бумагах Дидро не сохранилось достоверных
указаний на то, как реагировала Екатерина на его дипломатические экзерсисы. Дюран
оценивал их оптимистически. Во всяком случае, в депешах герцогу д’Эгильону он
сообщал, что Екатерина в беседе с Дидро упрекала себя за раздел Польши, предавалась
мрачным рассуждениям о том, что скажет о ней потомство и печалилась, что Россия во
всем этом деле играла роль слуги Пруссии.
Стоит ли удивляться, что Дидро, проинструктированный Дюраном, поспешил
заверить Екатерину, что в Версале смотрят на раздел Польши, как на дело решенное.
Однако, сделал он это весьма своеобразно. Вряд ли Дидро подозревал, как он был прав,
говоря, что слишком правдив для того, чтобы быть дипломатом.
– Нет сомнений, что дележка барана, – втолковывал он Екатерине, имея в виду
Польшу, – станет когда-нибудь причиной ссоры, и продолжительной ссоры, между тремя
волками – Россией, Австрией и Пруссией. Я думаю, что это зрелище нас весьма
позабавит, тем более, если Австрии при этом хорошо достанется. Франция – четвертый
волк, и вот как она рассуждает: «Если когда-нибудь мой сосед, австрийский волк, вздумает
показать мне зубы, то для меня было бы выгодно, если бы в это время русский или
прусский волки начали кусать его за ляжки».
– Это взаимное опасение, возможно, будет сдерживать всех четырех, – заключил
Дидро и посмотрел на Екатерину невинными глазами.
После вопроса о разделе Польши всего полшага оставалось до темы, еще более
актуальной.
– Мы приходим в отчаяние от продолжительности настоящей войны, – говорил
Дидро. – Если бы она стоила лишь одного года вашего царствования, то и это было бы
слишком дорогой ценой, потому что война отвлекает вас от великих предначертаний,
задуманных вами для счастья вашего народа. Франция и только Франция может помочь
заключить вам выгодный и почетный мир. Мы ваш естественный союзник. Когда вы
заключите мир с Турцией, то мы во Франции не будем ни огорчены, ни обрадованы, но
прусский волк зарычит.
Разумеется, подобные беседы не могли долго сохраняться в тайне. Гуннинг
докладывал своему двору 12 ноября 1773 года:
«Чрезвычайно конфиденциально и под условием тайны граф Панин сообщил мне,
что г. Дидро, пользуясь постоянным доступом к императрице, вручил ей несколько дней
назад бумагу, данную ему г. Дюраном и содержащую условия мира с турками, которых
французский двор обязуется достигнуть, если его добрые услуги будут приняты
императрицей. Г. Дидро, извиняясь в этом поступке, совершенно выходящем за рамки его
сферы, объяснил, что не мог отказаться от исполнения требования французского
посланника из-за опасения быть по возвращении на родину отправленным в Бастилию. Ее
величество, как сообщил мне г. Панин, отвечала, что ввиду этого соображения она
извиняет неприличие его поступка, но с условием, что он в точности передаст посланнику,
что сделала она с этой бумагой. А императрица бросила ее в огонь».
Детали, сообщаемые английским посланником, слишком живописны, чтобы
выглядеть достоверными: каждый, кто занимался российской историей, остережется
принимать на веру рассказы дипломатов и мемуаристов об уничтожении важных
документов, причем непременно в огне каминов. Их слишком много.
Впрочем, обстоятельства эпизода с сожжением мемуара для нас несущественны. В
записках, даже скорее, в кратких эссе, которые Дидро составлял после бесед с Екатериной,
ясно видны следы его старательных и весьма добросовестных попыток выполнить
поручение Дюрана.
5
Биографы Никиты Ивановича Панина неохотно вспоминают о его ноябрьском
разговоре с Гуннингом, а если и вспоминают, то, перекрестившись, кивают на Макиавелли
либо же сокрушаются о том, как не соответствовали высоким целям панинской политики
негодные средства их достижения.
Сам же Никита Иванович вряд ли задумывался над столь тонкими материями.
Интрига для дипломата – естественная среда обитания. По этой логике агента Секрета
короля, немало, кстати, попортившего крови Панину по своей прошлой службе в Варшаве,
надлежало укоротить. И Никита Иванович проделал это не без изящества. Анекдот с
сожжением французского меморандума он поведал не Сольмсу, который живо докопался
бы до истины, проверив информацию через венский двор, а Гуннингу, возможности
которого в этом смысле были не в пример скромнее. В результате и французский, и
английский дипломаты оказались в превеликой конфузии. Стрела, посланная верной
рукой, попала в цель.
Внимательно приглядывать за Дюраном заставляли и поступавшие сведения о том,
что французские военные советники пытаются установить связи с Пугачевым. На
иностранный след, ведущий к Яику, намекал в беседах с Никитой Ивановичем и Сольмс.
Осенью 1773 года посол в Вене князь Дмитрий Михайлович Голицын получил
возможность читать дипломатическую переписку Дюрана, приходившую в Париж через
Вену (подкупив одного из секретарей французского посла в Австрии Луи де Рогана).
Письма эти, обошедшиеся русской казне в двадцать тысяч рублей, ясно доказывали, по
мнению Дмитрия Михайловича, «презрительную и мерзостную глупость
легкомысленного посла и бесовскую злость нрава его». Из них следовало, что
французские офицеры отправлялись к бунтовщикам «Черным морем, а потом пробирались
через Черкасскую землю и Грузию»71.
К чести Панина надо заметить, что при всей антипатии к Дюрану он смог
досконально разобраться с этой историей и сделать трезвые и объективные выводы.
Вот полный текст его шифрованной депеши Голицыну от 12 апреля 1774 года:
«Депеши Вашего сиятельства от 20/31 марта, с курьером отправленные, я исправно получил. Чем
важнее оных содержание, тем более заслуживает оно точного исследования в своей достоверности, тем
паче по моей к Вам искренней дружбе и всегдашнему истинному почитанию, поставляю за долг сделать
Вам, милостивый государь мой, примечания мои на сообщенные Вами пиесы, исследывая в точности
обстоятельствы их содержания.
Во-первых, открывается мне подлогом самой ключ, коим написана депеша, Дюрану приписуемая.
Вот какие неоспоримые причины имею я по сему подозрению. Многие шифрованные депеши как
предместников Дюрана, так и его самого имею я уже разобранными, следственно, известно мне
содержание оных, система цифирных ключей французского кабинета, стиль Дюрановых депеш и образ его
о вещах рассуждения. Все оное совершенно разнствует от депеш, сообщенных Вашему сиятельству, и сию
разницу здесь же изъясню вам подробнее.
Ключ оной состоит из одного алфабету, следственно, есть простейший и удобнейший к
разобранию каждого так, что не больше четверти часа потребно найти знаменование каждой цифры, а
потому уже нигде сей так называемый литерный ключ у европейских дворов не употребляется. Система
же цифирных ключей французского двора, как мне весьма известно, состоит в том, что каждая цифра
значит у них несколько слогов, особливо же каждое из тех имен собственных, кои чаще употребляются,
имеют свою цифру. Словом, один уже образ шифрования той депеши отъемлет всякое сумнение, чтоб
ключ ее был подложно вымышленный.
К сему ж еще присовокупить я должен Вашему сиятельству, что Дюран во всех своих депешах
никогда не называет меня Grand Chancelier, да и Ее величество не именует никогда же Sa Majesté Zarine,
как то в сей депеше именуется, а он пишет просто Catherine Seconde и иногда же иронически la Mаjesté
Impériale.
Сверх того стиль совсем не Дюранов. Ни оборот фразесов, ни экспресии отнюдь на него не
похожи; да и образ рассуждения совсем не его. Тут, например, в письме от 2-го февраля написано, что
Пугачевское возмущение совсем погасло, но в депешах истинных того времени ко двору его, кои я
разобранными имею, Дюран совсем не так судит об оном деле и считает, что оно произведет