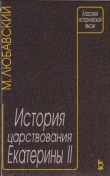Текст книги "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг"
Автор книги: Петр Стегний
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)
Увидев в толпе австрийского посла графа Кобенцеля, Екатерина остановилась около
него. Накануне пришло известие о том, что Суворов в союзе с австрийскими войсками
разбил на Рейне французского маршала Моро. Кобенцель, грузный, рыжеватый, страстный
любитель театра в жизни и политике, изобразил на лице приличное случаю выражение
глубокого удовлетворения.
После службы Екатерина долго оставалась в секретарской, где был выставлен только
что законченный портрет великой княгини Елизаветы Алексеевны, выполненный заезжей
французской художницей Элизабет Виже-Лебрен. Екатерина, недолюбливавшая европейскую
знаменитость, придирчиво рассматривала полотно, стоявшее в подрамнике на мольберте.
Елизавета была изображена на нем в пышном придворном платье с фижмами и длинными
рукавами. Лицо ее было чуть повернуто в сторону стоявшей рядом корзины с цветами.
– Ну это еще куда ни шло, – сказала, наконец, императрица стоявшему рядом
Зубову. – Хоть рук не заголила и декольте вполне приличное. Стало быть, урок пошел
впрок.
Зубов чуть приподнял левую бровь, изобразив, что и он скандализирован давним
инцидентом с последовательницей Анжелики Кауфман, на который намекала
императрица.
Виже-Лебрен жила в Петербурге уже год, но Екатерина все еще не могла забыть
впечатление, которое оказала на нее первая работа художницы: портрет великих княжон
Александры и Елены, дочерей Павла Петровича. Художница изобразила их в легких
муслиновых платьях с обнаженными руками. Сочтя это верхом легкомыслия и угрозой
нравственности, Екатерина не могла скрыть своего возмущения. Виже-Лебрен, обливаясь
слезами, – руки великих княжон, по ее мнению, ей особенно удались – быстро
пририсовала рукава. Екатерина, удовлетворенная ее покорностью, сменила гнев на
милость.
– Особенно удались розы, – сказал между тем Зубов, произнося слова, по своему
обыкновению, ни громко, ни тихо, но внушительно, – будто прямо от мсье Поммара.
Поммар был модным французским цветочником, державшим магазин на Невском.
Присутствующие понимающе заулыбались. Виже-Лебрен была обворожительной
женщиной. Среди петербургского высшего света многие, в том числе и Александр
Андреевич Безбородко, настойчиво добивались ее благосклонности.
Правда, без видимых результатов.
Безбородко, по слухам, каждое утро посылал в ателье французской знаменитости,
находившееся напротив Зимнего дворца, роскошные букеты роз, заказывая их у Поммара.
Из Тронной залы прошли в столовую, где, как было принято по воскресеньям, был
сервирован стол. В числе приглашенных находились великие князья Александр и
Константин с супругами. В этот день они видели свою державную бабку в последний раз.
Вечером 4 ноября в опочивальне императрицы собрался узкий круг приближенных.
Несмотря на полученное из Неаполя от посланника Андрея Кирилловича Разумовского
известие о кончине сардинского короля, Екатерина была в прекрасном настроении. Она
стращала смертью Левушку – Льва Александровича Нарышкина, – который в ответ
привычно дурачился: делал круглые глаза, бил по бокам руками и кудахтал, как толстая
неопрятная наседка.
На протяжении четырех десятилетий Нарышкин оставался одной из наиболее
влиятельных фигур в екатерининском окружении. Императрица доверяла ему
безраздельно. Еще до ее воцарения он и его прекрасная и ветреная Прасковья Брюс, были
поверенными сердечных тайн Екатерины. Они устраивали свидания с Понятовским,
предупреждая Екатерину о его появлении у дверей ее комнаты кошачьим мяуканьем.
Барин и сибарит, каких немного было при екатерининском дворе, Нарышкин
занимал официальную должность обер-шталмейстера. Однако, заведуя императорской
конюшней, он с гордостью говорил, что в жизни не ездил верхом. В присутствие перестал
ходить после того, как явившись однажды поутру, увидел, что на его столе сидит кошка.
Объявив публично, что считает себя смещенным, поскольку место его занято, отправился
домой, и на службе его больше никогда не видели. В свое время много говорили о
судебном процессе, затеянном им с соседкой – княгиней Дашковой, приказавшей рубить
нарышкинских свиней, случайно забредших в ее огород.
Призвание Нарышкина состояло в другом. Он был достойным преемником
елизаветинских карлиц, приживалок и чесательниц пяток, при той только разнице, что те
чудили по наитию, от природного таланта, а Нарышкин тщательно готовил свои шуточки,
подолгу репетируя.
Нарышкин был веселым гением эрмитажных собраний, душой интимного кружка
Екатерины. Излюбленной мишенью его острот была собственная жена, простая казачка,
родственница Разумовских, открыто жившая с камердинером.
В тот вечер Нарышкин явился в опочивальню императрицы переодетым в костюм
бродячего торговца: красная рубаха с кушаком, шаровары, приспущенные на смазанные
дегтем сапоги. Расхаживая между веселившимся от души обществом, с лотком на груди,
он предлагал императрице моря, горы, реки, короны.
– А вот кому город басурманский, – кричал он голосом рыночного зазывалы. —
А зовут его Стамбул, Святослав еще там бул. Теперь время Константина, внука свет-
Екатерины. А как сядет он в Царьграде, к вящей Франции досаде, и почнет он там
княжить, то-то славно будем жить.
У Екатерины от смеха случились колики, пришлось послать за Роджерсоном.
6
5 ноября, в среду, Мария Саввишна Перекусихина вошла в императорскую спальню
как обычно в восьмом часу утра. Заглянув за полуспущенный полог, Перекусихина
обнаружила, что императрица только что проснулась.
– Каково почивали, матушка? – спросила она приятным голосом.
– Давно такой спокойной ночи не проводила, – ответила Екатерина, улыбаясь.
Перекусихина привычно засновала по комнате, пересказывая придворные новости.
Похвалила погоду – с утра ударил крепкий здоровый морозец, – подала пеньюар.
Одевшись, Екатерина пила кофе и, пробыв несколько минут в кабинете, удалилась в
гардеробную.
Захар Зотов, по минутам знавший утренний распорядок императрицы, ждал
приказаний, кого из явившихся с докладами первым провести в кабинет.
Ожидание, против обыкновения, затянулось. Когда прошло полчаса, Захар,
привыкший к тому, что императрица никогда не оставалась в гардеробной более десяти
минут, обеспокоился. Камердинер Иван Тюльпин, – суетливый недотепа, вообразил, что
государыня пошла гулять в Эрмитаж. Однако недоверчивый Захар, заглянув в шкаф,
обнаружил, что все шубы и муфты императрицы, которые она всегда вынимала и надевала
самолично, были в наличии. Зотов пришел в еще большее беспокойство и, помедлив
несколько минут, решился зайти в гардеробную.
Он осторожно поскребся в затворенную дверь, покашлял деликатно, но изнутри не
доносилось ни звука. Подергал за ручку, приналег плечом – дверь не поддавалась.
Кликнул на помощь Марию Саввишну, Тюльпина и Ивана Чернова, тоже камердинера.
Поднажали всем миром – и дверь тихо, как бы нехотя приотворилась. В темном
полумраке коридора они увидели императрицу, сидящей на полу. Спина ее была
прислонена к стене, а неестественно вывернутая нога упиралась в дверь.
Перекусихина страшно закричала. Зотов, упав на колени подле государыни,
приподнял ее бессильно склонившуюся на грудь голову. Глаза Екатерины были закрыты,
цвет лица багровый, дыхание вырывалось из горла с резким хрипом. Попытались было,
толкаясь и мешая друг другу, приподнять тело императрицы, но не смогли из-за
необыкновенной его тяжести. Понадобилось шесть человек комнатной прислуги, чтобы
перенести Екатерину в спальную комнату. Однако, как ни старались, поднять Екатерину на
кровать – не смогли. Устроили на полу, на сафьяновом матраце. Здесь она и пролежала в
течение тридцати семи долгих часов начавшейся агонии.
Тотчас послали за докторами и за князем Зубовым. Зубов, как вспоминает
Ростопчин, оставивший описание последнего дня жизни Екатерины, по близости его
апартаментов прибежал первым, первым же и потерял рассудок. Простоволосый, в
шелковом шлафроке, распахнутом на груди, он метался по комнате, мешая всем.
Дежурный лекарь, стоявший на коленях у одра императрицы, просил позволения пустить
ей кровь. Зубов замахал руками и визгливо закричал:
– Извольте ждать Роджерсона!
Несмотря на мольбы Перекусихиной и Зотова, он так и не дал лекарю пустить в ход
свой ланцет.
Прошел час, прежде чем появились доктора. Первым приехал Роджерсон.
Присев у изголовья простертой на полу Екатерины, лейб-медик дотронулся
кончиками своих длинных сухих пальцев до покрытого испариной лба, приподнял веко,
глянул на пожелтевший, с синевато-розовыми прожилками глаз, и приказал подать ланцет,
таз и жгут. Кровь, черная и густая, медленно потекла из отворенной вены. По приказанию
лейб-медика Екатерине всыпали в рот рвотных порошков, поставили шпанские мушки, но
облегчения не последовало.
Отозвав Зубова в угол комнаты, Роджерсон прошептал:
– Готовьтесь к худшему, князь, надежды нет, удар последовал в голову.
Глаза Зубова остекленели.
Немедленно послали за отцом Саввою, духовником Ее величества, «чтобы он
исполнил над Ней обязанности своего служения; но так как не было никакой возможности
приобщить Ее Святых тайн по причины пены, которая выходила изо рта, то упомянутый
отец Савва ограничился чтением отходных молитв», – сообщает «Запись о кончине
Высочайшей, могущественнейшей и славнейшей государыни Екатерины II, императрицы
Российской», сохранившаяся в архиве канцелярии церемониальных дел.
Между тем за пределами опочивальни начались шевеления. Тихо, как мыши, в
комнате заседаний Государственного совета собрались братья Зубовы, Безбородко,
Салтыков, генерал-прокурор Самойлов, Алексей Орлов и митрополит Гавриил.
За плотно притворенными дверями решалась судьба империи.
Можно лишь предполагать, о чем шла речь на этом совещании. Достоверно
известно одно: первым немедленно уведомить Павла о случившемся предложил Алексей
Григорьевич Орлов-Чесменский.
Вскоре по парадной лестнице резво сбежал брат князя Зубова граф Николай
Александрович в медвежьей шубе, накинутой поверх генеральского мундира. Рванув на
себя дверцу придворного экипажа, он крикнул:
– Гони в Гатчину! – И из-под взвизгнувших полозьев взметнулось бриллиантовое
крошево чистого первого снега.
Д е й с т в о в т о р о е
Тихое правление Екатерины становилось в тягость,
многие желали бури, чтобы испытать прочность своих кораблей.
Ф. Ростопчин, 9 ноября 1796 года
1
Гатчину, бывшее имение Григория Орлова, Екатерина подарила Павлу в августе
1783 года по случаю появления на свет великой княжны Александры Павловны. При
дворе, правда, поговаривали, что Гатчинская мыза была отдана Павлу не без скрытого
умысла. Павловск, другое загородное владение великокняжеской четы, был расположен
совсем рядом с Царским Селом. После заграничной поездки, открывшей для широкой
публики всю степень неприязни, которую питал Павел и к матери, и к порядкам,
заведенным ею на Руси, жить по соседству с ним сделалось для Екатерины тягостным.
Когда двор жил в Царском, Monsieur et Madame Secondat могли нагрянуть в любой момент.
Из Гатчины же, находившейся на отшибе, ездить в Царское Село каждый день, даже для
Марии Федоровны, скучавшей по сыновьям, было не по силам. Общение малого двора с
большим поневоле сократилось.
Павел, и сам тяготившийся необходимостью регулярных поездок к матери, был рад
подарку. Он полюбил Гатчину с ее живописными окрестностями, лесами и перелесками,
раскинувшимися на округлых пригорках по берегам речки Теплой, притока Ижоры. Здесь,
в сельской тиши, где в глади озер отражались северные ели, как бы бродил дух Руссо,
которого Григорий Орлов в одно время приглашал поселиться в Гатчине.
Орлов устроился в Гатчине по-царски. Дворец его был построен по проекту
знаменитого Ринальди. Особую величавость этому обширному зданию, сооруженному из
желтоватого известняка, придавали четыре башни по углам и бельведер в центре
главного фасада с громоотводом, который был устроен знаменитым Эйлером. С
боковыми флигелями и службами дворец соединялся стройной колоннадой. К заднему
фасаду примыкал регулярный английский сад, устроенный лучшими мастерами садового
искусства, приглашенными из Англии. На лесных островках, расположенных в
бесчисленных заливах и извилистых рукавах Ижоры, они устроили высокие ротонды и
стройные павильоны на массивных мраморных столбах, называвшиеся в духе входившего
в моду сентиментализма Островами и Храмами любви. Здесь же высился стройный
Чесменский обелиск, воздвигнутый Орловым в память великой победы, одержанной его
братом над турецким флотом.
В отделке внутренней части дворца чувствовалась заботливая рука Екатерины.
Множество старинных бюстов, барельефов, огромная библиотека, делали честь
гатчинскому помещику, как называли Орлова. В Чесменской галерее взор останавливали
большие полотна живописца Геккера, изображавшие знаменитое сражение между русским
и турецким флотами.
Обосновавшись в Гатчине, Павел принялся тотчас же перестраивать и
переделывать все на свой лад. Перед дворцом был устроен обширный плац, засыпанный
гравием. Каждое утро великий князь принимал здесь вахтпарады гатчинского гарнизона. С
внешней стороны плац ограничивал кронверк, укрепленный массивными гранитными
глыбами, и ров, через который были перекинуты два каменных мостика. Архитектор
Бренна, приглашенный для перестройки дворца, нарастил башню и удлинил галерею в
соответствии с рыцарско-романтическим вкусом нового владельца.
В Гатчине Павел провел самые тяжелые годы своей жизни. Часами сидел он в
своем овальном кабинете, погруженный в чтение Библии, в особенности Псалмов и
Пророков. Особенно трогали его истории о древних израильских царях, несправедливо
отрешенных от престола, об обиженных и коварно обманутых героях. Предаваясь
тяжелым размышлениям о прошедшем, настоящем и будущем, «русский Гамлет» с все
возраставшим нетерпением ожидал минуты воцарения, опасаясь ежедневно, чтобы власть
не ускользнула из его рук.
К середине 80-х годов дремавшее в его душе подозрение в том, что мать собирается
отрешить его от престола, превратились в уверенность. Собираясь зимой 1788 года в
финляндский поход, он составил завещательное письмо и оставил его жене, великой
княгине Марии Федоровне. Этот редкий по откровенности документ приоткрывает завесу
над тем, что творилось в душе Павла Петровича. Находясь во власти тяжелых
предчувствий, вызванных преувеличением опасностей, которые ждали его в Финляндии,
он (как в 1781 году Панину) поручил жене на случай внезапной кончины Екатерины
«собрать при себе в одно место весь собственный кабинет и бумаги государыни,
запечатать их государственной печатью, приставить надежную стражу и сказать волю
мою, чтобы наложенные печати оставались в целости до моего возвращения. Буде бы в
руках правительства или какого-нибудь частного человека остались мне неизвестные
какие бы то ни было повеления, указы или распоряжения, в свет не изданные, оным до
моего возвращения остаться не только без всякого и малейшего действия, но и в той же
непроницаемой тайне, в какой по тот час сохранялись».
Впрочем, предусмотрительность, проявленная Павлом, оказалась напрасной.
Пребывание его в действующей армии было, как известно, недолгим. В Финляндии Павел
чувствовал себя таким же лишним и ненужным человеком, как и в Петербурге. Это
окончательно надломило его. Обида несносная коверкала душу, затмевала разум.
Возвращенный из армии строгим приказом Екатерины, Павел зажил в Гатчине
анахоретом. Почитая себя несправедливо отстраненным от государственных дел, он не
стеснялся отныне открыто критиковать действия Екатерины. Слова его, нередко в
искаженном и преувеличенном виде немедленно становились известными, благодаря
стараниям находившемуся при малом дворе множеству штатных и добровольных шпионов
и наушников. При большом дворе Павел появлялся теперь чрезвычайно редко, приезжая в
Петербург только на зиму – к Екатерининому дню – 24 ноября. Когда, обычно в начале
февраля, он покидал столицу, все, начиная с камер-лакеев и кончая императрицей,
вздыхали с облегчением.
Особенно пагубными оказались 90-е годы. Французская революция перевернула
весь склад мышления и психики Павла. Не понимая ни логики, ни смысла происходившей
на его глазах грандиозной ломки мира, он принялся строить в Гатчине модель новой
России, в которой не было места либерализму, гнилой распущенности екатерининского
двора.
Примером служила Пруссия, казавшаяся Павлу единственным оставшимся в Европе
незыблемым бастионом порядка и дисциплины. Гатчина превратилась в огромный военный
лагерь, где все было устроено по прусскому образцу: казармы, кордегардии, гауптвахты. На
каждом шагу путь преграждали шлагбаумы, окрашенные в черный, оранжевый и белый
цвета, как в Потсдаме. Возле них свечками стояли часовые, обряженные в странную, будто
срисованную со старых картинок, форму эпохи Фридриха-Вильгельма I. В 1796 году
гатчинские войска состояли из шести батальонов пехоты, егерской роты, четырех
кавалерийских полков, пешей и конной артиллерии при 12 орудиях. Имелся и морской
батальон. Всего в гатчинском гарнизоне числилось две с половиной тысячи человек, в том
числе девятнадцать штабов и сто девять обер-офицеров.
Новая Россия строилась под дробь барабана и заунывный свист флейты. По средам
– маневры, на которых обязательно присутствовали великие князья Александр и
Константин, ставшие командирами гатчинских батальонов. В жару и стужу, зной и
зимнюю слякоть солдаты в темно-зеленых длиннополых мундирах с синими обшлагами,
отбивали шаг на плацу. Офицеры в непомерной величины шляпах, сапогах, с голенищами
выше колен и перчатках, закрывающих локти, с казарменным вдохновением задавали ритм
коротенькой тростью.
Гатчинское воинство было достойно своих командиров. Изгнанные из полков за
дурное поведение, пьянство или трусость, многие из гатчинцев из-за куска хлеба готовы
были безропотно сносить унижения, а иногда и побои. Досада на злую судьбу, зависть
безмерная к петербургским барчукам – надушенным и изнеженным гвардейским
офицерам – питала их души. Верили гатчинские капралы, что настанет их час и полетят
они в рессорных экипажах по Луговой-Миллионной, привлекая благосклонные взоры
столичных барышень.
Павел Петрович был их кумиром.
– Ракальи, – говорил он сыновьям добродушно после очередной экзекуции. —
Сто шомполов получил, а глядит молодцом. Видите, дети мои, что с людьми следует
обращаться как с собаками. Из любого Робеспьера или Марата шпицрутенами хорошего
солдата сделать можно.
Александр и Константин внимали поучениям отца не без некоторого внутреннего
дискомфорта. Изредка преодолевая трепет, который вызывало у них вечно недовольное
лицо великого князя, вступались они за обиженных. И Павел, случалось, сменял гнев на
милость. При этом суровое лицо гатчинского губернатора Алексея Андреевича Аракчеева,
верной тенью стоявшего за Павлом на вахтпарадах, смягчалось от умиления. Во взгляде
его, обращенном к молодым великим князьям, прочитывалось чувство столь глубокое, что
они невольно подтягивались, расправляя плечи и топорща длинные краги. Закипала кровь,
шевелилось в душе сокровенное – и гатчинский воздух казался им несравненно чище
петербургского.
Аракчеев был злым гением Гатчины. Высокий, сутулый и жилистый, с нечистым
лицом, оттопыренными мясистыми ушами упыря, он был нем, невероятно точен и
вездесущ. Свинцово-серые глаза его видели все, от тяжелого взгляда их каменели и
новобранцы-рекруты, и испытанные в боях гренадеры. Там, где появлялся Аракчеев,
мгновенно воцарялся мертвящий порядок. Даже Павел никогда не повышал голос в его
присутствии.
Сын бедного сельского дворянина, волею случая принятый на казенный кошт в
кадетский корпус, всем, чего добился в жизни, был обязан только самому себе.
Обладавший способностями к артиллерийскому делу и невероятной усидчивостью, после
выпуска из корпуса Аракчеев был произведен в офицеры и оставлен преподавателем
геометрии. И в корпусе, и в артиллерийском полку, куда он вскоре был переведен,
Аракчеев возбуждал всеобщую ненависть своими замашками тирана.
Прибыв в распоряжение великого князя осенью 1792 года в чине капитана,
Аракчеев за четыре года сделал карьеру. К лету 1796 года он был уже полковником,
инспектором пехоты, начальствовал и исправлял должность гатчинского губернатора и
заведовал военным департаментом. Павел нашел в нем незаменимого исполнителя,
службиста по складу своей натуры, слепо, но без раболепия преданного начальству,
жесткого и требовательного по отношению к подчиненным.
Аракчеев был рожден солдатом, служба государева являлась смыслом его
существования. Усердие к ней, однако, сухим огнем выжгло в нем все человеческое. Такие
характеры рождаются раз в столетие, когда, говоря словами принца датского, распадается
связь времен.
Фигурой шекспировского масштаба на гатчинской сцене был и Иван Павлович
Кутайсов, великокняжеский брадобрей, затем камердинер. Родом турчонок, попавший в
Россию во время войны с османами, он обладал редким талантом использовать слабости
Павла Петровича в личных видах.
Возвышение Кутайсова стало следствием – а, если вдуматься, то и одной из
причин – неурядиц, обнаружившихся в семье великого князя в конце 80-х годов. Павел
был сентиментален и влюбчив, под его прусским мундиром билось рыцарское сердце.
Однако многочисленные амурные истории великого князя были окрашены некоей
ребячливостью, незрелостью ума и натуры. На протяжении нескольких лет он
афишировал страсть к Екатерине Ивановне Нелидовой, фрейлине великой княгини Марии
Федоровны. Нелидова была немолода —тридцати семи лет, нехороша собой, petite
monstre258, как называла ее Екатерина. Маленькая, сухая, излишне смуглая, она походила
на неуклюжего галчонка с задатками мадам де Ментенон. Тем не мнее остроумная и
блестящая causer’ка259, легкая в обращении, к тому же воспитанная в Смольном институте,
она обладала способностью очаровывать.
В обществе Нелидовой Павел преображался, становясь галантно-вежливым и
непринужденно-веселым. На балах в Павловске и Гатчине свой любимый танец – менуэт
– он танцевал только с ней – оба были превосходными танцорами. Зная, что перед
свиданиями с Нелидовой он становился мягким как воск и охотно расточал милости
направо и налево, этими не слишком частыми минутами просветления великого князя
многие пользовались.
Впрочем, ряд персонажей из ближнего круга Павла и первый из них – Кутайсов,
научились гораздо более действенно пользоваться посещавшими его периодами затмения.
Гейлинг, остроумный летописец будней гатчинского двора, следующим образом
реконструировал сложный механизм, приводивший в действие потаенные пружины этого
причудливого мирка. «Орудием, которым агитаторы всегда пользуются столь же ловко, как
и успешно, всегда служили дураки, – вполне справедливо замечает он в своих
воспоминаниях. – Для привлечения их на свою сторону агитаторы начинают с того, что
сверх меры превозносят их честность; дураки хотя внутренне и удивляются этим
незаслуженным похвалам, но так как они льстят их тщеславию, то они беззаветно
отдаются в руки коварных льстецов. Таким-то порядком произошло и то, что Кутайсов
вдруг оказался образцом преданности своему государю, стали приводить примеры его
бескорыстия; стали даже приписывать ему известную тонкость ума и выражать
притворное удивление, как это государь не сделает чего-нибудь побольше для такого
редкого любимца. Кутайсов, в конце концов, сам начал верить, что его приятели правы».
Подобно Яго, Иван Павлович, поощряемый гатчинским обществом, сделался
наперсником в сердечных делах великого князя. Стремясь усилить свое влияние, он не
остановился даже перед тем, чтобы поссорить Павла с супругой. Как-то утром, заботливо
258 Маленькое чудовище (фр.).
259 Говорунья (фр.).
поправляя парик у сидевшего под пудромантелем Павла Петровича, сказал невнятно,
будто ни к кому не адресуясь, что великая княгиня позволяет себе без должного уважения
отзываться о Нелидовой. Мария Федоровна, женщина строгих правил и немецкого
воспитания, к тому же преданная мужу безоглядно, до полного самоотречения,
действительно восприняла появление Нелидовой около своего мужа как тяжелую,
незаслуженную обиду и на первых порах не могла скрывать обуревавших ее чувств.
Павел вспылил. Своеволие даже со стороны жены делало его невменяемым.
Вопреки законам логики и морали, он не только сам прекратил общение с нею, но и
потребовал того же от своих сотрудников. Возле Марии Федоровны остались только
самые близкие – Плещеев, Лафермьер, чета Бенкендорфов.
К чести великой княгини надо сказать, что она, в конце концов, сумела справиться с
семейными неурядицами. Вполне достойно вела себя и Нелидова, сделавшая первый шаг
навстречу Марии Федоровне. Женщины объяснились, поплакали – и договорились о том,
чтобы вместе «помогать великому князю, вопреки ему самому». В сентябре 1793 года
Нелидова с разрешения Екатерины удалилась в Смольный монастырь, но жизнь
продолжала вести вполне светскую. Вместе с Марией Федоровной, ставшей ее близкой
подругой, они стремились, как могли, смягчить необузданную натуру Павла Петровича,
удерживать его от новых безумств.
Впрочем, со временем размолвки с мужем великая княгиня еще не раз имела
случай убедиться в том, что даже с помощью Нелидовой она не может оградить Павла от
дурного влияния Кутайсова. Возможно, поэтому она ни словом не обмолвилась о
признании Александра, посвятившего ее в тайну предложения, сделанного ему бабушкой.
Мария Федоровна полагала, и не без оснований, что в сложившихся обстоятельства только
сама она в состоянии понять и защитить мужа.
2
Были, однако, в гатчинской жизни и другие, светлые стороны. Готовясь стать
государем «одинаково добрым и справедливым» для всех своих подданных, Павел
заботился о гатчинских обывателях и крестьянах близлежащих сел. Среди бумаг,
оставленных им Марии Федоровне перед отъездом на шведскую войну, был и Наказ об
управлении государством, в котором имелись и следующие знаменательные строки:
«Крестьянство содержит собой все прочие части своими трудами, следственно, особого
уважения достойно»…
Свое гатчинское хозяйство Павел вел таким образом, будто хотел дать пример
дворянам всей империи, как следовало заботиться о благе своих крепостных. Крестьяне
«гатчинского помещика» были переведены на оброк, тем из них, кто исправно работал,
великий князь помогал и денежными ссудами, и прирезкой земли. Заведенные в Гатчине
стеклянный и фарфоровый заводы, суконная фабрика и различные мастерские
обеспечивали крестьянам дополнительный заработок.
Школы и больницы, устроенные в Гатчине заботами Павла, находились в
образцовом состоянии. Замечательна была веротерпимость великого князя, выстроившего
за свой счет православную, лютеранскую, католическую и финскую церкви. Содержание
священников и церковного причта он осуществлял из личных средств. Павел одобрял и
всячески поддерживал благотворительные дела, в которые с увлечением погрузилась
Мария Федоровна. Устроенные великокняжеской четой госпиталь, солдатские и сиротские
дома, школы – все это рождало и в среде простого гатчинского люда, и в окружении
Павла самые благоприятные ожидания в отношении будущего царствования.
Среди тех, прямо скажем, немногочисленных персонажей малого двора, кто
связывал с воцарением Павла надежды на перемены к лучшему не только из личных
видов, но и ради пользы государственной, выделяется самобытная фигура Федора
Васильевича Ростопчина. Этот человек, сыгравший столь яркую роль в павловском и
александровском царствованиях, заслуживает того, чтобы о нем было сказано особо.
«Русский Герострат», чьим именем после Ватерлоо была названа площадь в
Ливерпуле, – в конце жизни публично отрекся от своей роли в поджоге Москвы в 1812
году. Архитектор недолгого, но яркого альянса Павла с Наполеоном – и автор «Мыслей
вслух на Красном крыльце», отзывавшийся накануне Аустерлица устами своего героя
«старого русского» дворянина Силы Андреевича Богатырева о Бонапарте как о
«мужчинишке, в рекруты не годящемся: ни кожи, ни рожи, ни видения» – эти и многие
другие противоречивые – но всегда, хотя бы по видимости, искренние – мнения
уживались в голове Ростопчина легко и естественно.
Впрочем, начнем по порядку.
В Гатчине Федор Васильевич появился летом 1796 года, в возрасте Христа – в
марте ему исполнялось тридцать три года. Выше среднего роста, плотного сложения, он
обладал запоминающейся внешностью: выразительные голубые глаза, лоб обширный,
голова, покрытая шапкой курчавых волос, с намечающимися залысинами. Вздернутый нос
придавал ему некоторое сходство с великим князем.
«Я был рожден татарином, но в душе всегда оставался римлянином», – писал
впоследствии Ростопчин в своей шутливой автобиографии. Происхождение из крымских
татар, от Чингисхана, было предметом его особой гордости. Отец Ростопчина дослужился
в Семилетнюю войну до майорского чина и, выйдя в отставку, проживал в своем имении
Ливны Орловской губернии.
Будучи записан десяти лет от роду в Преображенский полк, Ростопчин получил
обычное по тем временам домашнее образование. «Меня обучали сразу целой куче вещей
и разным языкам. Благодаря тому, что я обладал некоторой долей бесстыдства и
шарлатанства, меня принимали порой за мудреца. Моя голова скоро превратилась в
библиотеку, ключ от которой хранился у меня», – в этих словах, написанных, правда, в
зрелом возрасте, весь Ростопчин, всегда готовый посмеяться над собой, но никогда не
позволявший это делать другим.
Окончив кадетский корпус в 1782 году, Федор Васильевич за семь лет дослужился
до скромного чина капитан-поручика преображенцев. Служба в гвардии его, однако, мало
прельщала: не располагая ни состоянием, ни влиятельными знакомствами в столичных
кругах, он не мог рассчитывать на быструю карьеру. В 1786 году последовала заграничная
поездка – Берлин, Париж, Лондон. Во французской столице Ростопчин, как Наполеон,
изучал математику и фортификацию, в Лейпцигском университете слушал лекции по
философии, в Лондоне осваивал приемы бокса. В Англии он познакомился с российским
послом Семеном Романовичем Воронцовым, который на долгие годы стал его старшим
другом и покровителем.
Вернувшись в Россию в 1786 году, Ростопчин предпочел продолжению службы в
гвардейском полку действующую армию, участвовал в шедших тогда войнах со шведами и
турками. Воевал отменно (одно время – под началом Суворова, с похвалой
отзывавшегося о его храбрости), но когда доходило до наград, его как будто начинал
преследовать какой-то злой рок. Один за другим безвременно ушли из жизни его
покровители – сначала принц Ангальт-Беренбургский, затем – принц Вюртембергский.
После знаменитого морского сражения со шведами летом 1790 года принц Нассау-Зиген