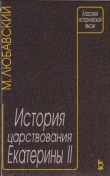Текст книги "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг"
Автор книги: Петр Стегний
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
– Но без перемены в положении крестьян никакие другие реформы невозможны,
– пытался возразить Дидро. – Одно вытекает из другого...
– Россия, – перебила его императрица, – страна, в которой далеко не всегда одно
вытекает из другого.
4
Когда дверь за Дидро закрылась и Том Андерсон, придирчиво обнюхав
освободившееся кресло, вернулся на канапе, Екатерина отложила рукоделие.
– Экий странный человек, право, – произнесла она задумчиво, как бы про себя,
– рассуждает то как столетний мудрец, то как десятилетний ребенок.
Услышав голос хозяйки, пес успокоился, лег вытянувшись во всю длину, и замер,
положив морду на передние лапы. Влажный взгляд его полуприкрытых веками выпуклых
глаз был устремлен на кресло, с которого только что поднялся Дидро.
Тома Андерсона подарил Екатерине шотландский доктор Димсдэйл, прививший ей
оспу в 1768 году. Императрица шагу не ступала без своей любимой левретки, она
сопровождала ее и на прогулках, и на заседаниях Государственного совета.
С осени прошлого года, когда закрутилась вся эта канитель с условиями отставки
Григория Орлова, Екатерина начала разговаривать с псом. Том оказался благодарным
слушателем. Он не льстил и не спорил. После общения с ним на душе у императрицы
становилось спокойнее.
Потребность в собеседнике была одной из главных причин, объяснявших
настойчивость, с которой Екатерина приглашала Дидро в Россию.
Тем большим было ее разочарование.
Не в Дидро, разумеется. В тонком искусстве интеллектуальной беседы ему не было
равных, темперамент и увлеченность его импонировали императрице.
Неожиданным оказалось другое: у Дидро не было ответов на заботившие ее
вопросы. Все, что он говорил, было умно и правильно.
Но все это она уже знала.
«Противно христианской вере и справедливости делать невольниками людей (они
все рождаются свободными), – писала она в 1765 году, делая наброски первых глав
Наказа. – Один собор освободил всех крестьян (прежних крепостных) в Германии,
Франции, Испании и пр. Осуществлением такой меры нельзя будет, конечно, заслужить
любовь землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков. Но вот удобный
способ: постановить, что отныне при продаже имения с той минуты, когда новый владелец
приобретает его, все крепостные этого имения объявляются свободными. Таким образом,
в сто лет все или, по крайней мере, большая часть имений переменит господ и вот народ
освобожден».
И в другом месте:
«Если крепостного нельзя признать персоной, следовательно он не человек; тогда
извольте признать его скотом, что к немалой славе и человеколюбию нам послужит».
Екатерина встала с канапе и подошла к письменному столу. Взгляд ее упал на
томик «Наказа комиссии по составлению проекта нового Уложения», изданный Академией
наук в 1779 году. Она открыла переплетенную в малиновый бархат книгу. На каждом листе
в четыре столбца был напечатан текст на русском, немецком, французском и латыни.
Невольно вспомнились полтора года каторжного труда. Сколько часов провела она
за письменным столом? Счастливое время – она была в гармонии с миром и собой. Чем
выше становилась стопка листов, исписанных крупным спотыкающимся почерком, тем
меньше оставалось закладок в «Духе законов» Монтескье и знаменитом труде аббата
Беккария «О преступлениях и наказаниях». Из 526 параграфов, вошедших в
окончательный текст Наказа, около половины было заимствовано у Монтескье, чуть
меньше у Беккария. Многое, впрочем, бралось и из статей Энциклопедии.
Откуда взялась эта страсть к законотворчеству, охватившая ее на третьем году
правления?
Конечно, перед глазами был пример Фридриха II, собственноручно написавшего
прусский свод законов. Но Россия – не Пруссия. Фридрих лишь оформил,
регламентировал порядок, складывавшийся в его владениях веками. В основе его —
уважение к законам и собственности, врожденная дисциплина, без которых в
Бранденбурге немыслимо не только благоденствие, но и само выживание нации.
В России же, огромной медвежьей шкурой накрывшей треть карты мира, от Тихого
океана до Балтики, законы писать мудрено. Сам Петр Великий не раз пытался привести
Соборное Уложение Алексея Михайловича в соответствие со шведским законодательным
кодексом – не получилось. Да и какие законы, если гонец с царским указом из Петербурга
на Камчатку два с половиной месяца скачет, а обратно и того дольше. Если, конечно,
повезет.
На дворе, однако, стоял восемнадцатый задорный век. Молодым энтузиастам
показалось, что еще чуть-чуть – и разум победит человеческую природу, в мире наконец-
то все устроится рационально, к всеобщему удовольствию и гармонии.
Екатерина была натурой сложной, в которой неизменная прагматичность в делах
государственных сочеталась с высоким энтузиазмом. Иллюзии эпохи вдохновляли ее,
питали страсть к действию. Знаменитый аббат Фенелон, автор запрещенной и оттого еще
более читаемой книги «Приключения Телемаха», разбудил воображение, сравнив
придуманное им идеальное общество с розой без шипов – образ из Мильтоновского
«Потерянного рая». Монтескье открыл механизм разделения властей, в котором видел
основу социальной стабильности. Вольтер – кумир Европы, подтвердил ее собственную
веру в то, что историю делают великие личности, умеющие обратить к своей пользе
благоприятные и неблагоприятные обстоятельства, в которых им приходится действовать.
Так начался путь Екатерины к Наказу. Итогом его стала книга, потрясшая Европу.
Первые две тысячи экземпляров, переведенные на французский язык конфисковали по
приказу Людовика XV. При его жизни во Францию не было разрешено ввозить ни одно из
24-х изданий Наказа на иностранных языках.
Впрочем, осуждать короля Франции за это не стоит – собственного мнения о труде
российской императрицы он не имел и иметь не мог, поскольку, как единодушно
подтверждают современники, ни Наказа, ни Энциклопедии не читал. Если бы случилось
невероятное и Людовик нашел время познакомиться с сочинением, объявленным им
крамольным, то он понял бы, что написано оно аристократкой, более того, аристократкой,
из принципа не только не ставившей под сомнение благотворность абсолютной монархии
как наилучшей формы правления, но и отвергавшей любую возможность ее ограничения.
Идеал государства – как он изложен в Наказе – «роза без шипов» или
самодержавие, ограниченное здравым смыслом. Главная функция монархической власти
– гарантия порядка в государстве и благоденствия подданных путем строгого соблюдения
законов. Дворянство – главная опора просвещенного монарха и законности.
Нетрудно убедиться в том, что идеи эти весьма далеки от конституционных
убеждений Монтескье, если не противоположны им. И, тем не менее, «Дух законов»,
ставший основным источником Наказа, Екатерина называла своим молитвенником. Что
это – лицемерие или, выражаясь современным языком, популизм? Скорее всего, ни то ни
другое. Мышлению Екатерины была свойственна некая естественная парадоксальность.
Убежденная в своем высоком назначении, она легко заимствовала из произведений
философов то, что соответствовало ее взглядам, отсекая ненужное без малейших
нравственных колебаний. «Обобрав президента Монтескье на пользу России», как она
выражалась, Екатерина просто проигнорировала его весьма скептическое отношение к
России, которую он считал обреченной на тираническую форму правления из-за
гигантских размеров территории и азиатско-византийского наследия в политике.
Императрица перелистнула страницу лежавшей перед ней книги. Параграф шестой
Наказа гласил: «Россия есть европейская держава».
В том, что будущее России зависело от того, насколько быстро и разумно будет
перенят европейский опыт, Екатерина, привыкшая смотреть на себя как на
продолжательницу дела Петра Великого, считала само собой разумеющимся.
Не все, однако, обстояло так просто. Любимый ею Монтескье был не одинок в
своем пессимизме относительно судьбы российской государственности. Не любимый
императрицей Руссо в своем «Общественном договоре» высказывался на этот счет еще
более определенно:
«Les Russes ne seront jamais vraiement policés, – мрачно пророчествовал он, —
parce qu’ils l’ont été trop tôt. Pierre avait le genie imitatif, il n’avait pas le vrai genie, celui qui
cree et fait tout de rien… Il a d’abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait
faire des Russes, il a empeche ses sujets de jamais devenir ce qu’ils pourraient être…»41
И завершал совсем уж зловеще:
«L’Empire des Russes voudra subjuger l’Europe et sera subjuguée elle-même. Les
Tartars, ses sujets et ses voisins, deviendront ses maitres et ees nôtres; cette revolution me parait
infaillible».42
Вольтер высмеял эти мрачные пророчества в своем «Философском словаре».
Аргументы его, однако, звучат своеобразно. Залог великого будущего России он видел,
главным образом, в ее территориальной экспансии на Восток и на Запад. Даже начатая
Петром милитаризация страны казалась ему процессом благотворным, поскольку давала,
по его мнению, дополнительный рычаг воздействия на косных помещиков,
препятствовавших освобождению крестьян. Ну что же, энтузиасты, а Вольтер, как и
Дидро, были из их числа, – плохие пророки.
Энтузиазм Екатерины совсем другого рода. Его питали масштабы России и ее
государственная ответственность. Императрице казалось, что огромная, богатая
41 Русские никогда не смогут по-настоящему устроить свою государственную жизнь, т.к. они попытались
сделать это слишком рано. Петр был гениальным имитатором, он не обладал настоящей гениальностью,
которая создает все из ничего… Он начал делать немцев, англичан, тогда как ему надо было создавать
русских, и тем самым помешал своим подданным стать такими, какими они могли бы быть… (фр.)
42 Империя русских захочет подчинить себе Европу, но сама окажется подчиненной. Татары, ее подданные и
соседи, станут ее и нашими хозяевами: эта революция мне кажется неминуемой. (фр.)
природными ресурсами и людьми страна просто не может не иметь великого будущего. К
прошлому России и ее завтрашнему дню она не могла относиться равнодушно. В таком
приподнятом состоянии духа трудно, однако, различить детали. К тому же Екатерине, по
ее собственному признанию, всегда был чужд педантизм. Отсюда – упрощенная ею схема
русской истории, в которой все темное исчезло бесследно, и остались только светлые
стороны.
В знаменитом «Антидоте», появившемся в начале 1772 года, она писала, что с 1561
года до смерти Иоанна Грозного в 1596 году «Россия управлялась, имела приблизительно
те же нравы, шла тем же путем и находилась почти на одном уровне, как и все государства
Европы». Правлением своих князей и царей Россия всегда была довольна, «росла в
могуществе и силе, все это время подданные не жаловались на форму правления».
Заявление удивительное, даже если принять во внимание те немногие источники по
русской истории, имевшиеся в ее распоряжении, – древнюю российскую «вивлиофику»
Николай Иванович Новиков начал печатать только через год, в 1773 году. И все же – ни
слова о татаро-монголах, византийских интригах, которыми собирались русские земли
вокруг Москвы, и главное, как бы и не было отчаянного замечания автора «Начальной
летописи» о том, что «земля наша велика и обильна, наряда в ней лишь нет».
Некоторые «примеры строгости», впрочем, признавались Екатериной в отношении,
скажем, правления Ионна Грозного. «Но, – возражала она сама себе, – имеется ли такое
государство, в котором не производились бы, по крайней мере, в то же время ужасные
истязания?» И сама же отвечала: «Если бы нам не было противно останавливаться далее
на таком предмете, мы доказали бы, что как розги и кнут перешли к нам от римлян, то так
и все подобные ужасы, к несчастью, заимствованы нами у других народов».
Идеализация патриархальных российских нравов у Екатерины была естественна и
потому поэтична. «В семьях царствовало согласие, – писала она, – разводы были почти
неизвестны, дети имели большое уважение к своим отцам и матерям, но что лучше всего
изображает нравы того времени, это оговорка, которую вставляли во все договоры; вот эта
заключительная оговорка от слова до слова: «Если же мне случится отказаться от моего
слова или не сдержать его, то да будет мне стыдно».
«Итак, – заключала Екатерина, – стыд был тогда наисильнейшей сдержкой,
которую налагали на себя как non plus ultra, полагая, что нет страны, которая могла бы
представить в пользу своих нравов свидетельство столь же красноречивое, как эта
формула».
Чистота нравов, по мнению Екатерины, пострадала в эпоху смуты, но явился Петр
и просветил свой народ. Правда, и после Петра случались нехорошие времена (Анны
Иоанновны и Бирона), но, возражала Екатерина, «как бы ни было строго царствование, мы
уверены, что правление хваленого кардинала Ришелье вынесет с ним сравнение». Затем —
два десятилетия благополучного царствования Елизаветы, которую, к несчастью, сменил
Петр III, мало способный к управлению государством и окруживший себя не теми
людьми. Однако на престол взошла Екатерина и своим мудрым законодательством снова
принесла стране процветание.
Знание Дидро русской истории ограничивалось сочинением французского врача
Левека и панегириком Вольтера, пропетым Петру Великому. Однако даже если бы он
лучше знал предмет, вряд ли взялся бы спорить на эту тему с императрицей
всероссийской.
Дидро был фанатиком идеи просвещенного абсолютизма, и незнание русской
истории лишь еще более разжигало его энтузиазм. Он мог и не знать о существовании
Соборного уложения Алексея Михайловича —ему это было не нужно. В эпоху, когда
разум побеждал веру, старые порядки только мешали. Россия представлялась Дидро
благодатным полем для утверждения разума и силы новых законов, основывающихся на
естественном праве. В этом смысле Наказ, представлявший собой конспект идей
Монтескье и Беккариа, казался ему программой действий, уточнить в которой предстояло
лишь некоторые детали, а Екатерина – разумной и активной правительницей, способной
осуществить грандиозный эксперимент, о котором мечтали философы.
Различие между Екатериной и Дидро заключалось в малом. Дидро приехал в
Петербург, чтобы побудить Екатерину действовать, а она считала, что все необходимое
уже сделано. В «Антидоте» она призывала народы мира последовать «нашему примеру,
если они разумны, и преобразовать свой уголовный суд на основании главы X Наказа».
Основа внутренней стабильности, по представлениям Екатерины – в соблюдении
баланса интересов различных групп общества. Когда этот баланс присутствует, опасно
что-либо менять. Иллюзии, что в России все спокойно, императрица сохраняла до осени
1773 года, когда разразилось восстание Пугачева.
Взгляд Екатерины скользнул дальше по страницам Наказа.
«Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная с его
особой власть не может действовать сходно с пространством столь великого государства...
Всякое другое правление не только было бы для России вредно, но и вконец
разорительно... Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним
господином, нежели угождать многим».
И вот, наконец, главное – параграф тринадцатый.
«Какой предлог самодержавного правления? Не тот, чтобы у людей отнять
естественную вольность, но чтобы действия их направить к получению самого большего
от всех добра».
Императрица подняла голову. Вспомнилось, какие ожесточенные споры вызвали
эти утверждения, казавшиеся ей самой неоспоримыми в декабре 1767 года, накануне
созыва Большой комиссии, когда она решилась, наконец, показать Наказ людям, чье
мнение уважала. Отзывы их, однако, оказались весьма различными. Лишь Григорий
Орлов, наиболее близкий к ней в то время, одобрил труд Екатерины, прибавив, впрочем,
по своему обыкновению, что лучше бы спросить людей более сведущих. Никита Панин,
его давний оппонент, назвал Наказ собранием «axiomes á renverser les murailles»43.
Драматург Сумароков, выражаясь, в отличие от Панина, без обиняков, заявил, что
рассыпанные в тексте Наказа призывы освободить крепостных, привели его в ужас.
Прикрепление крестьян казалось ему частью извечного порядка, существовавшего на
русской земле. Тронь его – и начнется ужасное несогласие между помещиками и
крестьянами, междоусобная брань.
Ведь – подумать страшно! – «скудные люди ни кучера, ни повара, ни лакея иметь
не будут», а между тем «примечено, что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень
любят, а наш низкий народ никаких благородных чувств еще не имеет».
Большинство из тех, кому был показан проект Наказа, рассуждали, как Сумароков.
«Я думаю, что не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили бы
гуманно и как люди», – признавала впоследствии Екатерина. В результате едва ли не
половину из написанного за полтора года пришлось вымарать.
Впрочем, Екатерина и не рассчитывала, что ее поймут те, кто опасается лишиться и
кучера, и повара, и лакея. Глаза на истинное настроение общества во многом открыла ей
давняя история с объявлением в 1765 году Вольным экономическим обществом конкурса
на тему: «Нужно ли крестьянину для общенародной пользы иметь земельную
собственность или только одну движимую?» Конкурс удался, из России и из Европы было
прислано 160 сочинений. Лучшим единогласно признали труд профессора Дижонской
академии Беарде де л’Аббе.
Ход рассуждений дижонского профессора показался членам Общества, в основном,
людям ученым, почитывавшим и гамбургские газеты, и Локка с Монтескье, неоспоримым:
«Люди равны и от природы, и перед Богом, следовательно, государство обязано
вернуть крестьянам то, что у них противозаконно отнято, – утверждал он. – Не может
43 Аксиом, способных разрушить стены (фр.)
быть благополучным общество, пока те, кто создают его богатства, бедны сами. Лучший
способ поощрить крестьянина – дать ему свободу и землю, потому что две тысячи
подневольных не сделают за год того, что за то же время сотня свободных».
Хвалить дижонского профессора сделалось модным, тем более, что, по его мнению,
спешить с осуществлением высказанных им идей не следовало. Надо было твердо обещать
российскому народу вольность и землю, а тем временем энергично работать над его
образованием, чтобы он стал достоин свободы и мог пользоваться ею на благо общества.
Вот она – «роза без шипов».
Екатерина наугад перелистнула Наказ и с удивлением обнаружила, что томик как
бы сам собой открылся на параграфе 260.
«Не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа
освобожденных», – прочитала она.
Это все, что осталось от пространной статьи, которую она писала особенно истово,
по нескольку раз исправляя написанное.
Впрочем, и этого, наверное, было бы немало, если бы после начала турецкой войны
Сенат не приказал держать Наказ «под замком», разослав его только в высшие
учреждения, где его читали не без опаски – как читают запрещенную книгу.
«Наказ есть не исторический, а патологический момент в истории нашего
законодательства», – язвительно констатировал спустя полтора века В.О. Ключевский.
5
Порой казалось, что сигналы, посылаемые императрицей, производили свое
действие. Дидро оставлял на время высокие материи и обращался к вещам практическим.
Устраиваясь за столиком напротив Екатерины, он раскладывал перед собой бумаги
с заготовленными вопросами о земледелии в России, количестве зернового хлеба,
состоянии виноделия, производстве шерсти и шелка. Екатерина, однако, в отличие от
Фридриха II, который, не задумываясь, по памяти мог назвать имя старосты деревушки
Шварцвальд в Богемии и количество лошадей в любой из областей Пруссии, затруднялась
с ответами на столь конкретные вопросы и предложила представлять их письменно.
Дидро сформулировал 88 вопросов, касающихся населения, землевладения,
земледелия, производства и торговли зерновым хлебом, вином и водкой, маслом,
коноплей, табаком, лесом, смолой, дегтем, варом, ревенем, рогатым скотом, лошадьми,
шерстью, шелком, медом и воском, мехами и кожами.
Императрица обиделась.
Дидро спрашивал, к примеру:
– Какими пошлинами обложено вино, сделанное из русского винограда?
Екатерина отвечала:
– Даже аббат Феррайль затруднился бы обложить пошлинами вещь
несуществующую.
Дидро спрашивал:
– Имеются ли в России ветеринарные школы?
– Бог хранит нас от них, – отвечала Екатерина.
Впрочем, на 28 вопросов императрица не смогла ответить. Пожав плечами, она
просто сказала: «Je n’en sais rien»44 и рекомендовала Дидро обратиться за сведениями к
графу Миниху, который «по должности этим занимается».
Миних, занимал пост главы таможенного ведомства и по должности, и по складу
характера был человеком подозрительным. Он не спешил удовлетворить
любознательность Дидро, хотя тот не скрывал, что статистические сведения о
российском хозяйстве нужны ему для написания им большой статьи о России в новом
издании Энциклопедии. В том, что статья эта так и не была написана, отчасти
повинен Миних.
Впрочем, Дидро не оставлял надежды найти тему, обсуждение которой вызовет
энтузиазм императрицы.
Выбор его пал на вопрос о народном представительстве, конкретнее – о созванной
Екатериной летом 1767 года Комиссии для составления проекта нового Уложения. Идея
состояла в том, чтобы придать Комиссии статус постоянного представительного
учреждения.
– В противоположность нашему парламенту, послушно регистрирующему волю
монарха, необходимо, чтобы у вас монарх утверждал предложения, исходящие от
Комиссии, – убеждал Дидро. – Наши парламентарии говорят: «Мы хотим того же, что
хочет король», Ваше же величество и Ваши преемники скажут: «Мы соглашаемся на то,
чего желает нация, высказываясь устами своих представителей». Это большая разница. —
И продолжал с нараставшим воодушевлением, – однако, не менее, а, возможно,
неизмеримо более важно то, что благодаря этому в вашей стране постепенно образуются
те три сословия, которые Ваше величество желает создать по примеру Европы. Даже если
эта постоянная комиссия законодателей будет на первых порах бестолкова и беспокойна,
это хорошо повлияет на дух нации. Народ должен быть свободен или хотя бы должен
верить, что он свободен; такая вера всегда дает хорошие результаты. Так создайте же,
44 Мне ничего об этом не известно (фр.)
Ваше величество, эту великую действительность или этот великий фантом свободы.
Убежден, что именно такой совет дал бы вам Монтескье.
Замечание Екатерины о том, что депутаты сами ходатайствовали о роспуске
Большой комиссии, лишь еще больше распалило Дидро.
– Если члены Комиссии оказались недостойны оказанной им чести, то нельзя ли
помочь делу, уменьшив число депутатов? Признаюсь, что размышляя об этом, я прихожу к
мысли, что избрать достойнейших можно лишь путем равных для всех выборов, а также
предоставлением провинциям права отзывать недостойных. Сделайте это – и вы
обеспечите будущее России.
6
Вот тогда-то, как мы полагаем, Екатерина и произнесла те знаменитые слова,
которые приводит в своих воспоминаниях французский посол в Петербурге Луи Филипп
де Сегюр:
– Господин Дидро, я с большим удовольствием слушала все, что внушил вам ваш
блестящий ум. Из ваших великих принципов, которые я очень хорошо понимаю, можно
составить хорошие книги и лишь дурное управление страной. Во всех своих
преобразовательных планах вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь
только над бумагой, которая все стерпит, она гладка, покорна, не доставляет препятствий
ни вашему воображению, ни перу. Между тем как я, бедная императрица, работаю на
человеческой шкуре, которая, напротив, раздражительна и щекотлива.
Эти слова (разумеется, если они были произнесены, а не пришли в голову
Екатерине задним числом – она беседовала с Сегюром о Дидро через несколько лет после
отъезда философа из Петербурга) приобретают особый подтекст, если вспомнить, что ко
времени разговора императрицы с французским послом основной политической
новостью, обсуждавшейся в Европе и России, был роспуск Людовиком XVI Генеральных
штатов.
Внимательно наблюдая за событиями во Франции накануне революции, Екатерина
невольно сравнивала действия короля со своими собственными. Непоследовательность
французской политики приводила ее в сильнейшее разочарование. Власть остается
властью, пока сохраняет способность подчинять обстоятельства своей воле.
Вряд ли кто-то понимал это лучше, чем сама Екатерина, когда 30 июля 1767 года в
аудиенц-зале Московского Кремля она принимала депутатов Комиссии по составлению
нового Уложения. Она пристально вглядывалась в лица представляемых ей генерал-
прокурором Вяземским дворян, купцов, крестьян-однодворцев, инородцев, ставших
первыми в России депутатами.
В Грановитой палате были рядами поставлены длинные скамьи, как в английском
парламенте. Пятьсот шестьдесят четыре депутата, представлявшие все провинции и
сословия России, занимали места не по старобоярскому принципу местничества, а в
зависимости от времени приезда в Москву. От крепостных крестьян и духовенства был
лишь один представитель Синода.
Чтение Наказа депутаты слушали с увлажненными глазами, некоторые рыдали. В
порыве чувств решили было воздвигнуть памятник Екатерине и добавить к ее титулу слов
«Великая, Премудрая Матерь Отечества».
Депутатам, поднесшим императрице новый титул, было сказано:
– О званиях, кои вы желаете, чтобы я от вас приняла, ответствую: 1) на Великая —
о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) Премудрая —
никак себя таковою назвать не могу, ибо один Бог премудр и 3) Матери Отечества —
любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю; быть любимою
от них есть мое желание.
Ответ этот был дословно занесен в дневную книгу заседания комиссии, которую
вел отставной гвардии поручик Николай Иванович Новиков. На следующий день запись
эту читали публично.
«Иные ее переписывали, а иные переводили на разные языки», – было отмечено в
очередной записке.
В целом, однако, первый опыт русского парламентаризма был не лучше и не хуже,
чем последующие. Пока речь шла о вещах отвлеченных, в зале царило редкое
единодушие.
«Мы – люди и подвластные нам крестьяне суть подобные нам. Разность в случае
возвела нас в степень властителей над ними; однако мы не должны забывать, что и они —
суть равные нам создания».
Эти речи князя Михаила Щербатова, предводителя родового дворянства
встречались неизменным одобрением, хотя многие из депутатов еще помнили времена,
когда услышавшему такие слова впору было кричать «Слово и дело!» Теперь же
недовольные, а их в Грановитой палате было немало, предпочитали помалкивать.
Щербатов говорил, в соответствии с духом Наказа, и тем самым как бы заодно с
императрицей.
Просматривая ежедневно протоколы заседаний, Екатерина и сама удивлялась тому,
как быстро ее Наказ стал мерилом истины и справедливости.
Представитель козловского дворянства поручик артиллерии Коробьин представил
записку о мерах пресечения жестокого обращения помещиков с крестьянами.
«Есть помещики, кои промотав свои пожитки и набрав много долга, продают за
него своих людей, отлучая их от земледелия, – говорилось в ней между прочим. – Есть и
такие, что проматывая получаемые от крестьян доходы, прихотям своим предела не ставят,
разлучают семейства единственно из своей корысти, но, что всего хуже, это то, что
являются между ними и такие, кои, увидев своего крестьянина, стяжавшим трудами рук
своих малый достаток, лишают вдруг его всех плодов стараний».
Обличения Коробьина, запальчивые, но справедливые, вызвали бурю возмущения,
причем не только со стороны дворян, составлявших треть членов Комиссии, но и купцов и
государственных крестьян. На бедного поручика обрушился град насмешек и упреков в
молодости и неопытности. Примечательно, однако, что попытки Коробьина найти
подтверждение своим мыслям в Наказе были единодушно осуждены, как заключающие в
себе «ошибочные толкования мыслей императрицы».
И, тем не менее, Коробьин сделался общим любимцем. Во время выборов в
различные комиссии он удостаивался значительного числа голосов. Впрочем, выволочки,
устроенной ему, не забыл: говорил осмотрительно, выбирал выражения. Понял, надо
думать, что рассуждать о естественном равенстве всех людей перед законом – это одно, а
хулить вековые порядки, на которых стояла и стоит русская земля, – совсем другое.
Подавляющая часть депутатов твердо стояла на том, чтобы подтвердить «в ныне
сочиняемом проекте нового Уложения» исконную «власть помещиков над их людьми и
крестьянами».
Екатерина особо не удивлялась. Гораздо более беспокоило ее то, что основное дело,
ради которого была собрана Комиссия, – сочинение законов – продвигалось из рук вон
плохо. Пыталась, и не раз, ввести регламент ведения заседаний, надеялась обратить
энергию депутатов в русло государственных интересов, но все усилия оказались
напрасны. Свежие идеи тонули в сословных дрязгах и пререканиях. Дворянство
ополчалось на купцов, требуя расширения собственных прав в области торговли и
промышленности, купечество отбивалось, как могло, пользуясь тем, что среди самих
дворян грызни и склок хватало. Родовитые депутаты, кичась древними привилегиями,
вели себя высокомерно. Представители служилого дворянства напирали на права,
предоставленные им Петром Великим. Их поддерживали представители военного
сословия. Лишь крестьяне, наученные вековым опытом, что синица в руках лучше
журавля в небе, ходатайствовали больше о вещах сугубо практических. Их мнения
походили на челобитные. Просили, к примеру, снизить плату за пользование
общественными банями в деревнях.
Надо ли говорить, что за полтора года работы Комиссия так и не приняла ни одного
закона. Начавшаяся осенью 1768 года война с турками стала удобным поводом для
роспуска депутатов. И тем не менее Екатерина не только никогда не сожалела о созыве
Комиссии, но и гордилась недолговременной работой первого русского парламента.
На это у нее были свои причины.
– Комиссия Уложения... подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело
имею и о ком пещись должно, – говорила она.
7
Хронологию записок Дидро восстановить сложно. Специалисты, изучавшие его
заметки, высказывают на этот счет различные точки зрения45. Ясно, однако, что темы,
которые философ обсуждал с императрицей, не могли не быть так или иначе связаны с
событиями, происходившими при екатерининском дворе. Отсюда вывод: к концу октября
беседы приобрели исключительно острый характер.
– Человек, осмеливающийся беседовать с гениальной женщиной и такой матерью,
как Ваше величество, о воспитании сына, должен быть нахалом, если не дураком, – так
начал Дидро одну из своих октябрьских бесед с Екатериной. – Я это знаю и приму любой
из эпитетов, который Вам угодно будет мне назначить. Пожалуй, и оба, лишь бы только