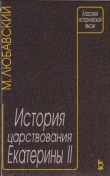Текст книги "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг"
Автор книги: Петр Стегний
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
открытой проповеди безбожия. Екатерина согласилась, что надо бы изыскать средства
побудить Дидро к молчанию в подобных вопросах.
Далее произошло следующее. Дидро сказали, что некий член Академии наук
предлагает представить на его суд доказательства бытия Божьего посредством
98 В шею около ушка (фр.)
алгебраических формул. Дидро, не подозревавший подвоха, заявил, что будет очень рад
выслушать эти доводы, которым он, однако, заранее не верит.
Назначили день и час для предстоящих прений.
В условленное время при немалом стечении публики молодой человек,
представленный Дидро как русский философ, с важным видом подошел к своему
французскому коллеге и возгласил тоном, каким, как ему казалось, велись дебаты в
академическом собрании:
– Милостивый государь а минус один плюс в в степени n, деленное на z, равно x,
следовательно, Бог существует.
С этими словами он строго посмотрел на Дидро и сказал:
– Отвечайте же.
Говорят, что едва ли не впервые в жизни, блестящий полемист не мог найти
соответствующего обстоятельствам ответа. Когда Дидро выходил из наполненной
публикой залы, он невольно прятал взгляд: старому философу неловко было смотреть в
глаза устроителям этой злой мистификации.
Говорят, что Платон, когда ему рассказывали об ученом диспуте с участием Дидро,
произнес:
– Рече, безумец, в сердце своем: несть Бог.
10
С начала января Дидро засобирался в обратный путь. Гримм настойчиво уговаривал
его ехать вместе, предлагая завернуть по пути в Берлин, где их ожидал прусский король.
Станислав-Август также звал их остановиться в Варшаве. Дидро, однако, решил
возвращаться в Париж тем же путем, что приехал – через Гаагу. К тому же в конце
февраля петербургское простудное поветрие добралось и до Гримма – он заболел и
довольно тяжело, Екатерина направляла к нему придворного лекаря.
Свой последний разговор с русской императрицей Дидро записал сам (в письме к
матери, отправленном из Гааги 9 апреля 1774 года):
«Едва я приехал в Петербург, как негодяи стали писать из Парижа, а другие негодяи
распространять в Петербурге, что я под предлогом благодарности за прежние деяния явился
выпрашивать новых; это оскорбило меня, и я тотчас же сказал себе:
– Я должен зажать рот этой сволочи.
Поэтому-то, откланиваясь Ее императорскому величеству, я представил нечто вроде прошения, в
котором говорил, что прошу ее убедительнейше и даже под опасением запятнать мое сердце не
прибавлять ничего к прежним милостям. Как я и ожидал, она спросила меня о причине такой просьбы.
– Это, – отвечал я, – ради Ваших подданных и ради моих соотечественников;
ради Ваших подданных, которых я не хотел бы оставить в том убеждении, о котором они
имели низость намекать мне, будто не благодарность, а тайный расчет на новые выгоды
побудили меня к путешествию. Я хочу разубедить их в этом, и необходимо, чтоб Ваше
величество были столь добры поддержать меня; ради моих соотечественников, перед
которыми я хочу сохранить полную свободу слова, чтоб они, когда я буду говорить им
правду о Вашем величестве, не предполагали слышать голос благодарности, всегда
подозрительный. Мне будет гораздо приятнее заслужить доверие, когда я стану
превозносить Ваши великие достоинства, чем иметь более денег.
Она возразила мне:
– А вы богаты?
– Нет, государыня, – сказал я, – но я доволен, а это гораздо важнее.
– Что же я могу сделать для Вас?
– Многое: во-первых, Ваше величество не пожелает ведь отнять у меня два-три года жизни,
которыми я Вам же обязан, и оплатит расходы моего путешествия, пребывания здесь и возвращения,
приняв во внимание, что философ не путешествует знатным барином.
На это она отвечала вопросом:
– Сколько Вы хотите?
– Полагаю, что полутора тысяч будет довольно.
– Я дам Вам три тысячи.
– Во-вторых, Ваше величество, дайте мне какую-нибудь безделицу, ценную лишь потому, что она
была в Вашем употреблении.
– Я согласна, но скажите, что Вы желаете?
Я ответил:
– Вашу чашку и Ваше блюдечко.
– Нет, это разобьется и вас же опечалит; я подумаю о чем-нибудь другом.
– Или резной камень.
Она возразила:
– У меня был один только хороший, да я отдала его князю Орлову.
Я отвечал:
– Остается вытребовать его у него.
– Я никогда не требую обратно того, что отдала.
– Как, государыня, Вы настолько совестливы с друзьями?
Она улыбнулась.
– В-третьих, дайте мне одного из Ваших служащих, который проводил бы меня и доставил
здоровым и невредимым в мой дом или, скорее, в Гаагу, где я пробуду месяца три ради служения Вашему
величеству.
– Это будет сделано.
– В-четвертых, Вы разрешите мне прибегнуть к Вашему величеству в том случае, если я впаду в
разорение вследствие операций правительства или по какой-нибудь другой причине.
На этот пункт она отвечала мне:
– Мой друг (это ее слова), рассчитывайте на меня; Вы найдете во мне помощь во
всяком случае, во всякое время. Но Вы, значит, скоро уезжаете?
– Если Ваше величество позволите.
– Да вместо того, чтобы уезжать, почему вам не выписать сюда ваше семейство?
– О, государыня, – отвечал я, – моя жена женщина престарелая и очень хворая, и с нами живет
ее сестра, которой скоро уже будет восемьдесят лет!
Она ничего на это не отвечала.
– Когда же Вы едете?
– Как только позволит погода.
– Так не прощайтесь же со мною; прощание наводит грусть».
Через несколько дней Дидро передали подарок Екатерины: перстень с камеей, на
которой был вырезан ее портрет.
Дидро выехал из Петербурга вечером 5 марта в оттепель. В провожатые Екатерина
дала ему грека Бала, служащего канцелярии опекунства иностранных, которую возглавлял
Орлов. Для путешествия была специально изготовлена удобная английская карета,
сломавшаяся, однако, в Митаве.
Ровно через месяц, 5 апреля, философ был в Гааге, где его радушно встретил и
Голицын. Первой заботой Дидро в Голландии было договориться о печатании
«Учреждений и уставов, касающихся до воспитания и обучения в России юношества
обоего пола», переведенных на французский язык Клерком. В ноябре печатание книги
было закончено, а в январе 1775 года она появилась в продаже. Сам Дидро в конце мая
был уже в Париже.
На этом история наша закончена.
Что-то мешает, однако, поставить точку. Что же?
Может быть, это – вот еще один отрывок из письма, направленного Дидро жене из
Гааги:
«Накануне моего отъезда из Петербурга Ее императорское величество велела передать мне три
мешка по тысяче рублей в каждом. Я пошел к нашему послу и обменял эти деньги на французскую монету.
Разница в курсе, которая была в этот момент очень благоприятной, превратила три тысячи рублей в 12
тысяч 600 ливров нашей монетой. Если вычесть из этой суммы стоимость эмалевых подвесок и двух
картин, которые я подарил императрице, путевые расходы и стоимость подарков, которые надо бы
сделать Нарышкину (он был так добр, относился ко мне как к брату, дал пристанище, кормил и
освобождал от всяких расходов на протяжении пяти месяцев), то нам останется от 5 до 6 тыс. франков
может быть, немного меньше.
Не могу поверить, однако, что это все, чего мы могли бы ожидать от государыни,
представляющей собой воплощенную щедрость, тем более, что ради нее я в мои весьма
почтенные годы проехал более полутора тысяч лье и ради которой я работал практически
день и ночь на протяжении пяти месяцев. (Кстати, мой провожатый уверяет меня в
обратном.) Если же даже все останется так как есть, то и тогда мне не следует жаловаться.
Она была так щедра ко мне раньше, что требовать больше, значило бы признаться в
ненасытной жадности. Нужно подождать, возможно, весьма долго, прежде, чем приходить
к окончательному заключению. Она знает, что ее дары не обогатили меня. А я знаю, что
она уважает и, я бы даже осмелился сказать, питает дружбу ко мне.
Я как-то предложил переиздать для нее Энциклопедию, она сама вернулась к этому
проекту, сказав, что он ей нравится. Все, что имеет характер величия, увлекает ее...
Суммы, выделенные на это издание, весьма значительны. Речь идет не менее, чем о
40 тыс. рублей, т. е. 200 тыс. франков, от которых нам будет идти сначала полная, затем
частичная рента в течение почти 6 лет. Таким образом у нас будет около 10 тыс. франков
на ближайшие шесть месяцев, 5 тыс. франков на последующие и т.д. Вместе с нашими
текущими доходами это весьма хорошо уладит наши дела.
Следует хранить полное молчание на этот счет. Во-первых, дело это, хотя и вполне
вероятно, но еще не кончено, во-вторых, когда деньги придут, следует молчать о них из-за
наших детей, которые будут докучать нам просьбами дать взаймы, тогда как деньги эти
нужно будет свято хранить. Есть и другие соображения, о которых ты знаешь без моих
объяснений. Так что, мой друг, готовься переезжать...
Слушай, что если я подарю мои часы провожатому – ей же станет известно об этом? Кроме
того, я ими мало пользуюсь, да и вообще хотел подарить их господину Нарышкину...»
ПОСТСКРИПТУМ
По возвращении во Францию Россия сделалась главным предметом разговоров
Дидро. Это, впрочем, не помешало ему еще в Гааге написать свои «Замечания на Наказ
Екатерины II», в котором он назвал русскую императрицу «деспотом, отрекшимся на
словах».
Дидро умер 20 июля 1784 года. Незадолго до смерти Екатерина сняла для него по
ходатайству Гримма великолепную квартиру на улице Ришелье. Наконец-то Дидро смог
переехать из старого парижского дома на улице Вьей Эстрапад, подниматься на четвертый
этаж которого ему было уже не по силам. Однако в новой квартире он прожил только 12
дней. В книге записей приходской церкви св. Рокка значится: «1784 года августа первого
дня в сей церкви погребен Дени Дидро, 71 года, член Берлинской, Стокгольмской и Санкт-
Петербургской академии наук, библиотекарь Ее императорского величества Екатерины II,
императрицы России». Екатерина назначила вдове Дидро пенсию в двести ливров в год.
Библиотека великого энциклопедиста была получена в Петербурге и выставлена в
Эрмитаже в начале 1786 года. Обнаружив среди находившихся в ней рукописей
«Замечания на Наказ», Екатерина прочла их и назвала вздором. После смерти Екатерины
библиотекой мало интересовались.
1774 год стал годом окончания русско-турецкой войны. 10 июля фельдмаршал
Румянцев подписал в болгарской деревушке Кючук-Кайнарджи мирный договор,
открывший России выход к Черному морю и обеспечивший ей присоединение Крыма в
1783 году. Кючук-Кайнарджийский мир составил славу екатерининского царствования.
В январе 1775 года с плахи, установленной на Болотной площади в Москве,
покатилась голова Емельки Пугачева. Подавлением восстания руководил брат Никиты
Ивановича, генерал-аншеф Петр Панин. Конвоировал Пугачева в Москву бригадир
Александр Суворов.
Никита Иванович Панин до осени 1782 года сохранял за собой пост
первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел. Прежнего значения в делах он,
однако, уже не имел. Умер он в 1783 году. Последние годы жизни Никита Иванович
посвятил воспитанию сына своего брата, Никиты, которого взял в свой дом в 1775 году в
пятилетнем возрасте. По иронии судьбы Никита Петрович, занимавший при Павле
должность вице-канцлера, женился на дочери младшего из Орловых, Софье
Владимировне. Отец его, Петр Иванович, забыв старую вражду, сам сделал предложение
ее отцу.
Григорий Орлов так и не смог восстановить своего былого влияния при дворе. В
1777 году, будучи сорока трех лет от роду он женился на своей двоюродной сестре,
Екатерине Николаевне Зиновьевой. Из-за близкой степени родства этот брак хотели
признать незаконным. Орлову грозило заточение в монастырь, но Екатерина вступилась за
бывшего фаворита. Летом 1781 года Екатерина Николаевна в одночасье скончалась в
Лозанне; Орлов, страстно любивший молодую жену, тяжело заболел. Он умер в 1783 году,
почти одновременно со своим старым недоброжелателем Никитой Ивановичем Паниным.
Потемкин смог выдержать при дворе Екатерины недолго. В Петербурге ему было
тесно. В 1776 году он был назначен генерал-губернатором Новороссийского края, а с 1782
года начал выезжать в южные губернии, сумев, однако, и вдали от столицы сохранить
положение второго лица в государстве.
Год 1773 Екатерина считала переломным в тридцатичетырехлетней истории своего
царствования.
«Только с 1774 года почувствовала я, что мои приказы исполняются
беспрекословно», – признавалась она впоследствии своему статс-секретарю
Храповицкому.
Впрочем, смысл этих слов Екатерины в свете дальнейших событий остается не
вполне ясным. В апреле 1776 года великая княгиня Наталья Алексеевна умерла родами.
Объяснения врачей, связывавших причину смерти великой княгини с дефектом
позвоночника, выгнутого не в ту сторону, мало кого удовлетворили. Сальдерн, к примеру,
в «Истории Петра III», увидевшей свет после его смерти в Германии, обвинил Екатерину в
отравлении невестки. Впрочем сочинение это настолько вздорное, что с достоверностью
судить по нему можно разве что о характере автора.
Павел Петрович на похоронах жены не присутствовал. Сразу же после ее смерти
Екатерина увезла его, находившегося в состоянии полупомешательства от горя, в Царское
Село, где показала ему письма покойной, не оставлявшие сомнений в преступном
характере ее связи с Андреем Разумовским. «Придворная эха» решила, что речь идет об
обычном адюльтере. Известно, однако, что летом 1775 года на праздновании Кючук-
Кайнарджийского мира, проходившем в Москве, Разумовский сказал Павлу, указывая на
толпы народа, приветствовашие его с бóльшим энтузиазмом, чем Екатерину: «Ах, мой
друг, если бы Вы только захотели..».
Покои великокняжеской четы в Зимнем дворце были перестроены – Екатерина
находила, что в комнатах великой княгиги воняло, – мебель отдала архиепископу
Платону, исповедовавшему умирающую.
В июле, еще до истечения траура, назначенного по великой княгине, Павел в
сопровождении брата прусского короля принца Генриха, появившегося в Петербурге за
месяц до смерти Натальи Алексеевны, отбыл в Берлин, где Фридрих II уже подыскал ему
новую невесту – принцессу Вюртембергскую Марию-Луизу, предварительно расторгнув
ее помолвку с принцем Гессен-Дармштадтским, братом покойной Натальи Алексеевны.
В новом браке Павел, по крайней мере, первые пятнадцать лет был счастлив.
Впрочем, его отношения с матерью испортились навсегда.
К Р А С Н Ы Й К А Ф Т А Н
Д е й с т в о п е р в о е
Историю Екатерины II нельзя читать при дамах.
А.И. Герцен
1
В знойный послеобеденный час, когда даже птицы утихли за окнами Большого
Царскосельского дворца и сонная тишина распространилась в его пустынных залах, перед
увитыми золотой резьбой дверями Голубой гостиной стоял Захар Константинович Зотов,
камердинер Ее императорского величества.
Впрочем, слово «стоял» не передает всего своеобразия позы, в которой по
необходимости находился Захар Константинович. Если кому-либо вздумалось
приблизиться к Голубой гостиной, скажем, со стороны малой официантской, то перед ним
открылась бы прелюбопытная картина. Добротные кожаные башмаки, полусогнутые в
коленях ноги в белых бумажных чулках, а над ними – округлый зад, обрамленный
фалдами кармазинового ливрейного кафтана. Короче говоря, Захар Константинович стоял
в классической позе соглядатая – враскоряку.
Взопревшее от волнения лицо его с маленькими любопытными глазками было
обращено к замочной скважине. События, происходившие по ту сторону плотно закрытых
дверей, безусловно, заслуживали внимания Захара Константиновича, хотя видимость, надо
признаться, была скверная. В вырезе замочной скважины ему представала лишь часть
корпуса – от талии до подбородка – стройного и, по всей видимости, молодого человека,
затянутого в красный мундирный кафтан с генерал-адъютантским эполетом на левом
плече. Красный Кафтан99 стоял неподвижно, будто позируя невидимому художнику.
Локтем левой руки (правая была безвольно опущена вниз), он опирался на пузатый
секретер итальянской работы с бронзулетками.
Немного.
Однако для Захара Константиновича и этих скупых деталей было довольно, чтобы
понять трагический смысл происходящего.
– Грех тебе жаловаться на мою холодность, – доносился до Зотова знакомый
женский голос, приятный грудной тембр которого был сегодня, как бы несколько
надсажен. – И каково мне слышать это от тебя, когда ты после всякого публичного
собрания, где присутствуют дамы, становишься сам не свой.
– Я уже имел честь объяснить вам причины своего поведения, и жду ответа, —
глухо прозвучал ответ молодого генерал-адъютанта.
– И советов моих давно не слушаешь, – женский голос то приближался, то
отдалялся от двери, – сколько раз говорила: хочешь съехать из дворца – воля твоя...
Красный Кафтан переменил позу, поворотившись в сторону своей собеседницы.
Усыпанный бриллиантами эполет на его плече рассыпал гроздья холодных искр. Теперь
Захару Константиновичу была видна лишь тугая, безупречной формы ляжка молодого
человека. Слова ее обладателя сделались совсем неразличимыми, но ответы, видимо, были
неловки, так как та, к которой они были обращены, внезапно вскрикнула, зайдясь в
вибрирующей скороговорке французских фраз.
2
Врожденное благоразумие и многолетний опыт подсказали Захару
Константиновичу, что пора ретироваться. С хрустом, распрямив одеревеневшую спину, он
оправил камзол на тугом животе, осмотрелся и скользящей походкой направился прочь.
99
«L’Habit Rouge» (в лексике XVIII века «красный кафтан») – так называла Екатерина А.М. Дмитриева-
Мамонова в переписке с Ф.-М. Гриммом.
Путь его лежал в то крыло циркумференций, где имел казенную квартиру кабинет-
секретарь Ее императорского величества Александр Васильевич Храповицкий.
Выйдя за кавалергардов, дежуривших у входа на личную половину, Захар
Константинович приосанился, и в наружности его произошла замечательная
метаморфоза. Здесь, в парадных покоях, он ощущал себя персоной значительной. В голове
начинали струиться легкие, приятные мысли. В мечтах он воображал себя сенатором,
поспешающим на высочайший доклад, либо же лихим гусарским полковником, прибывшим
из действующей армии с реляцией о блестящей победе и размышляющим, что
предпочесть: внеочередное производство в генеральский чин или пятьсот душ в
Могилевской губернии. В груди закипал восторг, заурядная физиономия Захара
Константиновича приобретала выражение государственное. Даже поступь его делалась
вальяжной, совсем как у старого графа Кирилла Григорьевича Разумовского, кумира
дворцовой челяди.
Мерное пошлепывание его казенных башмаков по сверкающему паркету долго
нарушало гулкую тишину вытянувшихся в бесконечную анфиладу зал.
А за окном стоял июнь, месяц веселый. В царскосельских садах и рощах цвели
липы, и аромат их, смешиваясь с запахом молодой, нескошенной травы, кружил голову.
Лишь у двери Храповицкого Захар Константинович стряхнул с себя сладкое
наваждение. Поскребся скорее для приличия – свои люди – и, не ожидая ответа,
протиснулся внутрь. Кабинет-секретарь стоял спиной к двери за бюро, на котором в
беспорядке были разбросаны бумаги и книги в желтых переплетах свиной кожи. Поза его
была неестественна.
– Не пужайся, Александр Васильевич, друг сердешный, это же я, – молвил Захар
Константинович и осторожно потянул в себя воздух, в котором витал сладковатый запах
ерофеевки.
Плечи Храповицкого, обтянутые тесным для его полной фигуры кафтаном,
расслаблено опустились. Не оборачиваясь, он сделал знак короткой ручкой с зажатым в
ней гусиным пером. Зотов поспешил к пузатому угловому шкафчику. Секундное
размышление перед дюжиной разнокалиберных бутылок – массивные золотые перстни
звякнули о стекло. Привычно скривившись, камер-лакей заглотил янтарную настойку и
замер, переживая.
– Бальзам души, – выдохнул он, – амброзия, ядреный корень.
Только сейчас Храповицкий повернулся к Зотову. Его слегка одутловатое лицо с
чистым покатым лбом, бровями вразлет, тонким шляхетским носом с хищно вырезанными
ноздрями было бледным и усталым.
Гость был не ко времени.
– Погоди, Константиныч, – сказал Храповицкий, приноравливаясь к лексике
камердинера императрицы, – я мигом.
Он быстро дописал строку, бросил перо и присыпал масляно поблескивающие
чернила песком. Затем взял лист и, играя модуляциями бархатного секретарского голоса
прочитал:
Куда хочешь, поезжай,
Лишь об пол лба не разбивай,
И током слез из глаз твоих
Ты не мочи ковров моих.
Захар Константинович, вновь потянувшийся было к настойке, обессмертившей
имя лекаря Преображенского полка Ерофеича, замер, польщенный доверием своего
просвещенного друга. Его подвижное лицо мгновенно приняло пристойное случаю
выражение – губы, влажные, разлапистые, сложились дудочкой, белесые бровки
заиграли, скакнув под парик, совсем как у графа Александра Сергеевича Строганова —
друга муз.
– Манифик, – продребезжал он, – по мне, Александр Васильевич, так ты первый
наш пиит, лучше Державина, право лучше. Звончей.
Храповицкий посмотрел на Захара Константиновича без удовольствия и собрал в
стопку исписанные мелким почерком листы, соединив их с нотной партитурой. За
литературной славой он не гнался. Комическая опера «Горе-богатырь Косометович»,
сочинение Ее императорского величества самодержицы всероссийской Екатерины
Алексеевны, была готова к отправке в Москву Николаю Петровичу Шереметеву,
задумавшему поставить ее на сцене своего останкинского театра.
3
«Горе-богатыря», нравоучительную сказку à la russe, в русском духе, императрица
вчерне набросала еще в прошлом году. Придворный капельмейстер Мартини положил ее
на музыку, и сказка, превратившись в комическую оперу, была показана в конце января
1789 года в Эрмитажном театре. Представление вызвало немалое замешательство
присутствовавших на нем иностранных дипломатов, усмотревших в «Горе-богатыре»
пародию на шведского короля Густава III, с которым Россия находилась в состоянии
войны. С постановкой оперы на публичном театре в Петербурге по совету Потемкина
решено было повременить, чтобы не раздражать лишний раз дипломатический корпус.
Оперу было дозволено представить в Москве. Либретто ее отдали на доработку
Храповицкому.
Александр Васильевич трудился долго. Работа продвигалась медленно, через силу.
Текст был сырой: слог тяжел, юмор натужен, изложение нестройно. Но дело было даже не
в этом.
В строчках, написанным столь знакомым Храповицкому крупным ровным
почерком, чудился ему другой, потаенный смысл. Мнилось, что становится он невольным
соучастником затеи недостойной и – кто знает? – небезопасной по своим последствиям.
Впрочем, судите сами.
Отправляясь завоевывать Океан-море, Горе-богатырь напяливает картонные латы,
вооружается деревянным мечом (Густав III питал пристрастие к рыцарским доспехам) и
приглашает арзамасских барышень на пир, который намерен устроить на его берегу
(накануне похода король пригласил стокгольмских дам на бал в Зимнем дворце). С
привезенной ему лошади «богатырь» падает (намек на то, что в 1783 году, перед
свиданием с Екатериной во Фридрихсгаме Густав III упал с лошади и сломал себе руку), а
когда в сопровождении верных телохранителей Кривомозга и Торопа идет на штурм
ветхой избушки, то однорукий старик обращает его в бегство (неудачная осада слабо
укрепленной Нейшлотской крепости, которую отстоял однорукий комендант Баранов с
горсткой инвалидов).
Казалось бы, сходство со шведской войной не вызывает сомнений.
Так, да не так.
Отец Горе-богатыря, прозванный Косометом за то, что косо метал бабки, смахивает
на покойного императора Петра Федоровича, также сохранившего в зрелые годы
пристрастие к детским забавам.
Далее: «Горе-богатырь» был по седьмому году, когда отец его Косомет умер. Но и
наследнику Павлу Петровичу было столько же в год смерти Петра III.
Единственная, кто пытается удержать сына от безрассудного поступка, мать
Горе-богатыря Локмета – все помнят, как прошлой осенью противилась императрица
желанию великого князя выехать в действующую армию. И поездка эта закончилась так
же быстро и бесславно, как и поход Горе-богатыря.
Впрочем, эта статья особая. Уж кому-кому, а Храповицкому, прекрасно
осведомленному в хитрой механике придворных интриг, были известны подлинные
причины внезапного отзыва Павла из действующей армии. Начавшаяся в Финляндии
странная переписка великого князя с герцогом Зюдермандландским, братом шведского
короля, мистиком и масоном, поддерживавшим связи с братьями в России, лишь разбудила
дремавшие дотоле подозрения...
4
Когда кабинет-секретарь поднял, наконец, свое обрюзглое, усталое лицо от бюро,
Зотов, истомившийся в ожидании, тут же поймал его взгляд и протянул Храповицкому
загодя наполненную пузатенькую рюмку зеленоватого венецианского стекла. Маслянисто
поблескивавшая в ней настойка источала тонкий аромат целебных трав.
– Слышь, Александр Васильевич, – прошелестел камердинер в самое ухо
Храповицкому, – у нас новости. – И, сделав приличную столь неординарным
обстоятельствам паузу, выдохнул: – Паренек на волю просится, и его, кажись, отпущают.
Кабинет-секретарь замер с рюмкой в руке.
– Mais c’est impossible100, – непроизвольно вырвалось у него.
– Поссибль, поссибль, – дурно зафранцузил Зотов, горячась, – только что в
Голубой гостиной состоялось решительное объяснение. Самолично слышал, как матушка
ему сказала: хочешь съехать из дворца – воля, мол, твоя... Да ты же знаешь, я уж давно
почуял, что неладно у них. Было время, паренек каждый вечер шастал через верх в
опочивальню, а теперь и зовут – не идет, все на грудь жалуется. Зимой светлейшему
прямо заявил: жизнь во дворце, мол, считаю тюрьмой.
Храповицкий, оправившись, наконец, от изумления, в которое его повергло
сообщение Зотова, одним глотком опустошил рюмку.
– Тюрьмою, говоришь, – задумчиво протянул он. – Что-то не припомню я,
чтобы кто-то из прежних любимцев сам из этой тюрьмы на волю просился. Под ручки
выводить случалось: а этот – смотри ты... Это же, душа моя, маленькая революция.
Д е й с т в о в т о р о е
Не нужно было ни ума, ни заслуг для
достижения второго места в государстве.
А.С. Пушкин
1
– Революция...
100 Это невозможно (фр.).
Не случайно, ох, не случайно спорхнуло это загадочное, вибрирующее темной
энергией слово с языка Храповицкого. В то последнее лето эпохи Просвещения – июнь
1789 года! – оно было у всех на устах.
Грозным призраком вставало оно, острое, как нож гильотины, над douce France, la
belle101, над далеким Парижем.
Впрочем, на берегах Невы слово «революция» чаще употреблялось применительно
к пищеварению.
– Какая у меня, друг мой, от вчерашних устерсов революция в брюхе
приключилась, не приведи Господь, – жаловался, случалось, Храповицкому большой
гурман и гастроном Александр Андреевич Безбородко.
Революциями было принято называть и дворцовые перевороты, время от времени
случавшиеся в северной столице: революция 1741 года, подарившая престол дочери Петра
– Елизавете Петровне, революция 1762 года, открывшая екатерининскую эпоху.
Но та «маленькая революция», о которой случилось обмолвиться Александру
Васильевичу, была особого рода.
Храповицкий понимал, что подслушанный Зотовым разговор императрицы с ее
фаворитом Александром Матвеевичем Дмитриевым-Мамоновым – именно его окрестил
пареньком вездесущий Захар – мог дать только начало событиям непредсказуемым.
Впрочем, начнем, как говорят французы, с начала – commençons par
commencement.
2
А начали мы, помнится, с вынесенной в эпиграф фразы Герцена о том, что историю
Екатерины II нельзя читать при дамах.
Фраза броская, но абсолютно безосновательная. Оставим ее на совести Александра
Ивановича, имевшего веские основания очень не любить в своем эмигрантском далеке
императора Николая Павловича, а заодно и всех его родственников. Историю Екатерины II
можно и нужно читать и при дамах, и при детях, если, разумеется, она не написана,
используя выражение В.С. Пикуля, дегтем на кривом заборе.
При всем при том фаворитизм – тема настолько деликатная, что, прикасаясь к ней,
невольно рискуешь, как это, на наш взгляд, случилось с Герценом, опуститься до
политических или того хуже – обывательских банальностей. Поэтому переворачивая эту
страницу славного екатерининского царствования, мы считаем необходимым сделать две
оговорки. Во-первых, фаворитизм в России XVIII века был не лучше и не хуже
101 Прекрасная Франция (фр.).
фаворитизма, скажем, во Франции, Англии или Испании. Если подходить с
нравственными мерками к этой стороне жизни коронованных особ века Просвещения, то
похождения Людовика XV в Оленьем парке или вполне нетрадиционные юношеские
увлечения Фридриха Великого дают куда больше оснований для морализирования, чем
частная жизнь Екатерины. Во-вторых, фаворитизм как реалия екатерининского
царствования интересует нас лишь постольку, поскольку он являлся частью того сложного
механизма, который обеспечивал формирование и, особенно, реализацию политических
решений, превратившись при этом в некоторое подобие государственного института.
Сделав это краткое, но важное предуведомление, вернемся к нашему герою.
«Случай» Александра Матвеевича Дмитриева-Мамонова начался летом 1786 года,
когда его предшественник Ермолов, самонадеянный молодой человек, затеял интригу
против того, кому был обязан своим счастьем – против князя Григория Александровича
Потемкина-Таврического.
Это был весьма неосторожный, если не сказать опрометчивый, шаг.
Дело в том, что после своего короткого, длившегося менее двух лет романа с
императрицей, Потемкин сумел не только не утратить доверие Екатерины, но и
существенно нарастить свое влияние на ход государственных дел. Глава военного
ведомства, член Государственного совета, шеф легкой иррегулярной конницы (ему
подчинялись все казачьи войска), он сосредоточил в своих руках невиданные доселе
полномочия. Доверенное ему управление южными губерниями России, простиравшимися
от устья Волги до устья Днепра, и вовсе превратило Потемкина в соправителя Екатерины.
Современники не могли постичь причудливой логики происходивших перед их
глазами событий: фавориты императрицы – Завадовский, Зорич, Корсаков, Ланской,
наконец, Ермолов менялись, а власть и влияние Потемкина продолжали расти. Прочность
положения Светлейшего казалась необъяснимой его многочисленным завистникам, и
лишь немногим, весьма немногим удавалось проникнуть в тайну, которой были опутаны
отношения Екатерины и Потемкина. Одним из этих посвященных был, по всей видимости,
французский посланник в Петербурге граф Луи-Филипп де Сегюр. В депеше,
отправленной в Версаль 10 (21) декабря 1787 года, поясняя самостоятельность,
проявлявшуюся Потемкиным при начале русско-турецкой войны, он пишет: «Особое
основание таких прав – великая тайна, известная только четырем лицам в России.
Случай открыл мне ее, и, если мне удастся вполне увериться, я оповещу Короля при