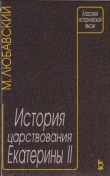Текст книги "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг"
Автор книги: Петр Стегний
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 45 страниц)
2-е. Перенеся во дворец ваше пребывание, и поставив себя по воле моей
попечителем детей моих, поручаю вам созвать немедленно полное собрание Сенату,
Синода и прочесть (пред ними к протоколу – зачеркнуто – П.П.) сиё мое к вам письмо,
котораго содержание в тот же самой час и возымеет силу моей точной воли и
повеления.
Далее следует самое важное: «Равным образом составьте тогда немедленно и во
дворце моем на время моего из отечества отсудствия и до моего возвращения особенной
Верховный совет из особ, заслуживших мою доверенность, кои есть: Граф Петр Иванович
Панин, Фельдмаршал Князь Голицын, Фельдмаршал Граф Румянцев, оба брата Графы
Чернышевы, Граф Брюс, Князь Репнин, Фельдмаршал Граф Разумовский, генерал-аншеф
248 Там же, л.1об.
249 Там же, л. 4об.
250 РГАДА, ф.1, д.52, л.6об.
Кн. Долгорукой, генерал-аншеф Вадковский и Чичерин, коим заседать по старшинству
чинов своих.
Симу Совету прочтите также сие письмо, содержащее в себе точную волю мою и
объявите ему моим именем, что до возвращения моего вверяю вам обще с ними сохранение
ненарушимости государственнаго уже заведеннаго порядка и общей тишины, вследствие чего
…».251
Оба последних абзаца перечеркнуты крестом, из чего, как и из надписи Марии
Федоровны на конверте, можно сделать заключение, что мы имеем дело лишь с
черновиком. Неясно, решился ли в конечном итоге передать его Павел Панину, однако
несомненно, что именно этот круг вопросов обсуждался во время таинственных
разговоров великого князя со своим бывшим воспитателем, о которых сохранились
многочисленные упоминания очевидцев отъезда великокняжеской четы.
Не менее интересны и остальные распоряжения Павла:
«3-е. Сенат, Синод, три первые коллегии, все протчие гражданские, военные и
судебные места, шефы разных команд и установлений, словом сказать все места и все
шефы без изъятия, должны без малейшей остановки отправлять по их званиям все
обыкновенные текущие дела…
4-е. вам мой искренний друг поручаю особенно в самой момент предполагаемого
нещастия, от котораго храни нас Бог, весь собственной кабинет и бумаги Государынины
собрать при себе в одно место, запечатать Государственною печатью, приставить к ним
надежную стражу, и сказать верховному Совету волю мою, чтобы наложенные Вами
печати оставались в целости до моего возвращения.
5-е. Буде в каком ни будь правительстве, или в руках частнаго какого человека,
остались мне неизвестные какие бы то ни было повеления, указы или распоряжения в свет
не выданные, оным до моего возвращения остаться не только без всякаго и малейшаго
действия, но и в той же непроницаемой тайне, в какой по тот час сохранялись.
Со всяким же тем, кто отважится сие нарушить, или подаст на себя
справедливое подозрение в готовности преступить сию волю мою, верховный совет
имеет поступить по обстоятельствам как с сущим, или же с подозреваемым
Государственным злодеем, представляя конечное судьбы его решение самому мне по моем
возвращении. За сим пребываю Вашим верным и благожелательным
Павел»252.
251 РГАДА, ф.1, д.52, л.7об.
252 РГАДА, ф.1, д.52, весь текст письма – РГАДА, ф.1, д.52, лл.6-8. Полный текст письма см. в Приложениях.
Если предположить, а для этого есть вполне весомые основания, что письмо или
даже факт его написания стали известны Екатерине, то логичные объяснения обретают и
отставка Н.И. Панина с поста руководителя Коллегии иностранных дел, последовавшая
сразу же вслед за отъездом Павла, и утвердившееся среди историков екатерининского
царствования мнение о том, что первые достоверные свидетельства о планах Екатерины
передать корону всероссийскую, минуя Павла, любимому внуку Александру, относятся к 1782
году, времени возвращения графа и графини Северных из путешествия по Европе.
2
Казалось, обстоятельства благоприятствовали перевороту, задуманному
Екатериной. Порядок престолонаследия по прямой мужской линии был отменен еще
Петром после дела царевича Алексея. Принятый им закон 1722 года отдавал
решение вопроса о судьбе престола на полное усмотрение царствующей
императрицы, несмотря на то, что в манифесте 1762 года о восшествии Павел был объявлен
наследником-цесаревичем.
Сразу после окончания шведской войны Екатерина начала готовить почву для
переворота. В переписке с Гриммом она сначала полунамеками, а затем вполне откровенно
изложила свои планы: «Сперва мой Александр женится, а там, со временем, и будет
коронован со всевозможными торжествами и народными празднествами. Все будет
блестяще, величественно и великолепно. О, как он сам будет счастлив, и как с ним будут
счастливы другие!» Имеются и другие указания на то, что к этому времени намерение
устранить Павла от престола перестали составлять тайну для близких императрицы.
Судя по всему, первая реакция собеседников была понята Екатериной как
достаточно благоприятная. Казалось, общественное мнение и в России, и за рубежом
формируется согласно ее плану, тем более что Павел своим безрассудным поведением,
подозрительностью и жестокостью настраивал против себя всех, кто с ним соприкасался.
Сам он называл гатчинский период своей жизни «упражнением в терпении», однако
проявлялось оно весьма своеобразно. Дня не проходило, чтобы из Гатчины не привозили
новых анекдотов о творившихся там «нелепах». В любой оплошности своих сотрудников
великий князь видел признаки неуважения к себе, косица неуставной длины или дурно
застегнутый мундир казались ему покушением на государственные устои.
Нехорошо влияло на Павла и общение с французскими монархистами,
наводнившими после казни Людовика XVI Петербург и Павловск. «Вы увидите
впоследствии, сколько вреда наделало здесь пребывание Эстергази, – писал близкий к
Павлу Ф.В. Растопчин в Лондон С.Р. Воронцову, – он так усердно проповедовал в пользу
деспотизма и необходимости править железной лозой, что государь наследник усвоил себе
эту систему и уже поступает согласно с нею. Каждый день только и слышно, что о
насилиях, мелочных придирках, которых постыдился бы всякий честный человек». Граф
Валентин Эстергази представлял в Петербурге французских эмигрантов.
Для успеха задуманного предприятия следовало заручиться согласием Александра.
Зная доверие, с которым тот относился к своему воспитателю швейцарцу Фридриху-
Цезарю Лагарпу, Екатерина 18 октября 1793 года, спустя три недели после свадьбы внука,
пригласила к себе старого республиканца. Расчет при этом, надо думать, делался и на то,
что Лагарп, не скрывавший своих республиканских убеждений и воспитавший
Александра в уважении к ним, не захочет способствовать воцарению тирана. Кроме того,
было прекрасно известно, что Павел терпеть не мог Лагарпа, называл его не иначе как
якобинцем, а при встрече отворачивался, не желая подавать руки. Всего этого, казалось,
было достаточно для того, чтобы рассчитывать на сочувственное отношение Лагарпа к ее
плану.
Ошибка и ошибка жестокая. Два часа, проведенные в беседе с императрицей,
честный швейцарец называл впоследствии нравственной пыткой. За все время разговора
Екатерина так и не сказала прямо, чего она ожидала от наставника своего внука, хотя ее
мрачные предсказания печального будущего России в эпоху Павла были прозрачны.
«Догадавшись, в чем дело, – пишет Лагарп, – я употребил все усилия, чтобы
воспрепятствовать государыне открыть мне задуманный план и вместе с тем отклонить в
ней всякое подозрение в том, что я проник в ее тайну».
Ровно через год, 23 сентября 1794 года, граф Салтыков, вызвав Лагарпа с урока,
который он давал Александру, заявил, что в его услугах больше не нуждаются и он может
ехать на родину.
Александр пришел в отчаяние.
Оставшиеся до отъезда месяцы Лагарп посвятил попыткам примирения Павла с
сыновьями. После долгого ожидания он добился личной аудиенции у великого князя, во время
которой торжественно заклинал его иметь к ним полное доверие, общаться «лично, а не через
третье лицо». Павел благосклонно выслушал наставления Лагарпа, и с этого момента началось
его сближение с Александром и Константином.
Это, впрочем, не помешало Павлу, став императором, дать накануне Швейцарского
похода тайное приказание Суворову о розыске и аресте Лагарпа. Узнав об этом, Лагарп
направил ему письмо, в котором прямо напомнил, что он – тот «человек, неподкупности
которого Вы, по всей вероятности, обязаны своим существованием, подвергавшимся
сильной опасности в 1793 и 1794 годах».
Детали этой истории хранит пара тонких лайковых перчаток из московского Архива
древних актов.
В том же деле – записка, написанная по-французски, как установлено, Лагарпом.
Вот ее текст.
«Эти перчатки дал мне Его Императорское Высочество Великий Князь Павел
Петрович в Гатчине в мае 1795 года, в день рождения его сына Константина, бывший за
несколько дней до моего отъезда из Петербурга.
Во время бала в Гатчине Ее Императорское Величество Великая Княгиня Мария
Федоровна оказала мне честь, пригласив на полонез. Я попал в неловкое положение, так как
не имел перчаток, и Великий Князь, с которым я беседовал в это время, предложил мне
свои.
Я сохранил их как память о счастливых часах, когда я пользовался его
благоволением и, прежде всего, как воспоминание о дне, когда я выполнил свой великий
долг.
В течение нескольких лет государь демонстрировал по отношению ко мне весьма
неприятное для меня охлаждение, но я решился не покидать Россию, не узнав причины
этого.
Такая возможность представилась в связи с моим отъездом. Я имел с этим
несчастным принцем, которого так мало знали, беседу, продолжавшуюся два часа в его
кабинете. Во время ее я снял груз со своего сердца. Глубоко тронутый этим, он
засвидетельствовал мне это столь сердечным образом, что я сохранил воспоминания о ней
навсегда. Он особенно оценил те предостережения, которые я считал важным ему сделать.
Когда он взошел на трон, я принимал участие в деятельности, которая дала
Швейцарии новое государственное устройство. Не составило труда представить эту
деятельность в дурном свете. Вследствие этого, я был лишен моего ордена и пенсии, но
был неизменно уверен в том, что когда-нибудь это будет исправлено. Я не ошибся:
Император Павел I, вспомнив обо мне за несколько дней до смерти, сказал своему сыну
Александру, что он никогда не забыл то, как я с ним попрощался перед отъездом, и
проявил ко мне самый живой интерес, который этот прекрасный принц не мог
удовлетворить, поскольку переписка между нами была прекращена вследствие данного
ему на этот счет приказания.
Когда я вернулся в Петербург в 1801 году, император повторил мне слова своего
отца, попросив меня объяснить их смысл. Мои объяснения весьма его удивили: он и не
подозревал о тех потрясениях, которые мне тогда пришлось пережить.
Эти перчатки, на мой взгляд, стоят самой высокой награды; они
свидетельствуют, что тот, ради которого я мужественно выполнил свой великий долг,
оценил это. Удел государя – быть окруженным льстецами; ему редко случается иметь в
своем окружении людей, для которых превыше всего выполнение своего долга, несмотря
на все опасности, которым им при этом приходится подвергаться»253.
С 1795 года Александр начал ездить в Павловск вместо одного – четыре раза в
неделю, занимаясь там маневрами, учениями, парадами. Командуя батальоном своего
имени, он мало-помалу увлекался фрунтом, муштрой и прочими мелочами военной
службы, приводя в отчаяние бабку, вынужденную следить, как отдаляется от нее любимый
внук.
В конце 1794 года после отъезда Лагарпа Екатерина, судя по всему, завела разговор
о необходимости устранения Павла от наследования престола в Государственном совете.
Ответом ей было тяжелое молчание, хотя большинство членов совета в душе разделяли
опасения императрицы. Слишком свежи еще были воспоминания о несчастьях, которыми
оборачивался для России беспорядок в вопросе престолонаследия.
Впрочем, Совет, кажется, был готов подчиниться воле императрицы, если бы не
граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин, предположивший, что «нрав и инстинкты
престолонаследника могут перемениться, когда он сделается императором». Мусина-
Пушкина неожиданно поддержал дальновидный Безбородко, напомнивший, что имя
Павла Петровича возглашается по всей России на церковных ектеньях в качестве
законного наследника престола. Народ привык считать его цесаревичем, и если Александр
будет провозглашен императором в обход отца, это может вызвать возмущение. Екатерина
была вынуждена смириться.
Но не отказаться от владевшей ею мысли.
25 июня 1796 года, в четвертом часу утра, в Царском Селе Мария Федоровна дала
рождение третьему сыну Павла. Появление на свет «рыцаря Николая», как сразу же
назвала его бабка, побудило Екатерину еще раз попытаться заручиться поддержкой в деле
отстранения Павла от престола, обратившись на этот раз непосредственно к Марии
Федоровне. Воспользовавшись тем, что сразу же после рождения сына Павел отбыл в
253 РГАДА, ф.5, д.251, лл.1-2об.
Гатчину, а Мария Федоровна оставалась в Царском Селе до начала августа, она передала
ей на подпись бумагу с требованием к Павлу отречься от престола в пользу Александра.
Трудно сказать, на что рассчитывала Екатерина на этот раз. Она, конечно, знала, что
после появления в 1785 году при гатчинском дворе Екатерины Ивановны Нелидовой
супружеская жизнь великого князя дала трещину. Доводили до ее сведения и то, что
Мария Федоровна, в отличие от мужа, всегда была осторожна в своих оценках того, что
происходило при большом дворе, и вообще стремилась смягчить или загладить неловкость
и грубость его поведения.
Сохранившиеся письма Марии Федоровны С.И. Плещееву, опубликованные Е.С.
Шумигорским через сто лет после того, как они были написаны, наводят, однако, на мысль
о том, что Екатерина плохо представляла себе, что творилось в душе ее неизменно
вежливой и любезной невестки. «Настоящее жестоко, но будущее внушает мне
чрезвычайный ужас, – признавалась великая княгиня своему ближайшему другу еще
летом 1794 года, – потому что, если мужа моего постигнет несчастье, то не он один
подвергнется ему, но и я вместе с ним»254.
Спасение Мария Федоровна видела только в демонстрации полной покорности
воле императрицы. Павлу она советовала «быть почтительным и послушным сыном»,
чтобы не «вооружать» против себя императрицу и ее окружение. Самое любопытное
заключается в том, что и Нелидова, которую великая княгиня подозревала в дурном
влиянии на мужа, как выяснил тот же Шумигорский, не хуже ее понимала опасность,
грозящую Павлу, и пыталась примирить его с матерью255.
Словом, и на этот раз Екатерину ждало горькое разочарование. Невестка не только
отказалась скрепить своей подписью предъявленный документ, но и не скрыла своего
негодования.
Оставалось последнее: обратиться непосредственно к Александру. Решиться на
подобную крайнюю меру Екатерину побудило то подавленное, близкое к отчаянию
состояние, в которое повергла ее неудачная помолвка шведского короля.
3
16 сентября, во вторник, всего через пять дней после того, как Густав не явился в
Зимний дворец, Екатерина пригласила к себе Александра. На этот раз было не до
экивоков. Глядя внуку прямо в глаза, она предельно ясно и, как ей казалось, логично,
разъяснила необходимость задуманного переворота.
254 Е.С. Шумигорский «Императрица Мария Федоровна», СПб, 1898 г., стр. 403, примечания.
255 Е.С. Шумигорский «Императрица Мария Федоровна», СПб, 1898 г., стр.59, примечания
– Я не могу быть безучастной к тому, в какие руки попадет империя после моей
смерти. Не желаю и не могу допустить, чтобы из России сделали страну, зависящую от
воли Пруссии, – говорила Екатерина. Красные пятна, проступившие на ее щеках,
выдавали огромное внутреннее волнение.
На глазах Александра выступили слезы.
– Я знаю, как мучительно для вас то, о чем я говорю, – продолжала императрица,
– но вы уже взрослый человек и должны понять горькую необходимость моих
требований. Поддержать меня – ваша священная обязанность перед Россией.
– А что будет с батюшкой?– наконец выдавил из себя Александр.
– Это уже не ваша забота, я все беру на себя. Возможно, какое-то время, пока не
охолонет, придется пожить вдали от Петербурга.
– Я подумаю, – еле слышно произнес Александр.
Дни, последовавшие за этим разговором, были наполнены для него горькими и
мучительными раздумьями.
24 сентября секретарь подал Екатерине запечатанный конверт.
«Ваше императорское величество, – писал Александр, – я никогда не буду в
состоянии достаточно выразить свою благодарность за то доверие, которым Ваше
величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать
собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что Ваше величество, судя
по усердию моему заслужить неоцененное благоволение Ваше, убедитесь, что я вполне
чувствую все значение оказанной милости. Действительно, даже своею кровью я не в
состоянии оплатить за все то, что Вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для
меня. Эти бумаги с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые
Вашему величеству благоугодно было недавно сообщить мне, и которые, если мне
позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам
Вашего императорского величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь
быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью.
Вашего императорского величества всенижайший, всепокорнейший подданный и
внук
Александр»
Двусмысленность выражений этого письма, обнаруженного после смерти
Екатерины в бумагах Платона Зубова, скорее всего, и уберегла его от массового
уничтожения, которому подверглись документы конца екатерининского царствования при
Павле.
Страшная тяжесть легла в эти дни на плечи Александра. Тайные замыслы
Екатерины неведомым образом докатывались до Москвы, где еще весной 1796 года
императрицу ожидали для «сложения короны и отдания оной наследнику, ею
назначенному», и даже до далекой Тулы, где славный Андрей Тимофеевич Болотов
записал в свой дневник: «Слухи о несогласии в Петербурге: что великий князь Александр
Павлович формально и почти на коленях от наследства отказался и что императрица за то
на него гневается».
По этой записи можно представить, как широко обсуждалось дело с
престолонаследием. Вся страна пересказывала тайны Зимнего дворца и, что самое важное,
«народ во мнении своем содрогался от одного помышления о том, что законный порядок
вещей будет нарушен».
Вряд ли стоит сомневаться в том, что Александр если и не знал, то угадывал мнение
народное. Еще 10 мая 1796 года он признавался в письме к своему другу В.П. Кочубею: «Я
сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для
предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или иным
образом». Осенью же 1796 года от него слышали такие высказывания:
«Если верно, что хотят посягнуть на права моего отца, то я сумею уклониться
от такой несправедливости. Мы с женой спасемся в Америку и будем там свободны и
счастливы, и про нас больше не услышат».
Владевшими им сомнениями Александр, скорее всего, поделился с матерью.
Сохранилось написанное в эти дни письмо Марии Федоровны к сыну, в котором имеются
следующие строки: «Во имя Господа, придерживайтесь избранного слова. Мужество и
твердость, мой сын. Господь никогда не покинет невинность и добродетель». И
выразительный эпиграф: «Сожгите мое письмо, как я сжигаю ваше».
Надо отдать должное удивительному присутствию духа и твердости характера,
которые проявила в этот критический момент Мария Федоровна. Зная нрав своего
супруга, она, по крайней мере, до октября ни словом не обмолвилась ему ни об июньском
разговоре с императрицей, ни о признаниях Александра.
Единственными своими советчиками Мария Федоровна избрала Сергея Ивановича
Плещеева и его молодую супругу Наталью Федоровну, которым доверяла безраздельно. В
архиве Плещеева сохранилась следующая записка великой княгини, доказывающая, что
она общалась в эти дни с сыном при посредстве Сергея Ивановича.
«Je ne pourrai vous voir que ce soir tard. Ainsi, mon enfant, dites par quelques mots ce
qui vous arrive de nouveau. Tenez-vous au nom de Dieu au plan arrêté, du courage et de la
fermeté, mon enfant. Dieu n’abandonne l’innocense et la vertue. Berthaume vous enverra seci de
chez-lui, comme une lettre que vous est arrivée de la Crävenitz, et vous répondez moi en mettant
sur le couvert l’adresse à Mad. de Grävenitz et envoyez la à Berthaume chez lui. Brulez mes
billets, je brule les vôtres»256.
Екатерина не знала о содержании их бесед, однако, интуицией, тем шестым
чувством, которое получает особенное развитие у стареющих политиков, понимала, что
пришло время решительных действий.
4
…Вечером в опочивальню был призван граф Николай Иванович Салтыков,
воспитатель великих князей Александра и Константина.
При входе в апартаменты императрицы граф не мог скрыть своего удивления.
Екатерина сидела у окна, опершись на край резного рабочего столика. Юбка ее
была подоткнута до колен, а ноги опущены в запотевший таз с зеленоватой водой, на
поверхности которой плавали кусочки льда.
Усадив Салтыкова, Екатерина усмехнулась.
– Извини, Николай Иванович, что принимаю тебя, – императрица помедлила, —
так, по-домашнему. Но мы свои люди. Этот неаполитанец, знаешь, который служит у
Рибаса, прознал, видно, что у меня на ногах открылись язвы, и передал через Осипа
Ивановича старинное средство, которым пользуются в их местах, чтобы лечить мою
болезнь. Приказала привезти из Петергофа морской воды и сижу теперь каждый вечер.
Кажется, помогает.
Екатерина приподняла опухшую, посиневшую от холода ногу, наклонилась,
внимательно рассматривая ее.
– Ну все лучше, чем пилюли эти, которыми Роджерсон потчует.
Салтыков был того же мнения. Он любил рассказывать, что вылечился от почечных
колик, глядя несколько часов в кадушку с водой, в которой плавала щука.
Императрица повернулась к сидевшей рядом Перекусихиной:
– Ты, пожалуй, ступай, Мария Саввишна, нам потолковать надо.
– А ледку не добавить ли, матушка? – осведомилась Перекусихина.
– Не надо, и так еле терплю.
256 «Я смогу увидеть вас сегодня только поздно вечером. Жду, что вы, мой сын, в нескольких словах
расскажете мне о том, что еще с вами приключилось. Именем Господа заклинаю вас придерживаться
выработанного плана, мужество и твердость, мой сын. Господь не покидает невинность и добродетель. Эту
записку вам передает Бертом (доверенный камердинер великой княгини – П.П.), как будто ее послала
Гревениц (жена вюртембергского офицера, бывшая фрейлина Марии Федоровны – П.П.). Отвечайте мне,
поставив на конверте адрес Гревениц, и отправьте его через Бертома. Сожгите мои записки, я сжигаю ваши»
(фр.).
Когда дверь за Перекусихиной затворилась, Екатерина медленно повернулась к
Салтыкову.
– Ну что, Николай Иванович, какие новости из болот гатчинских? Я чаю, ты ездил
туда сегодня.
– Точно так, Ваше величество, ездил. Все маршируют, из пушек по воробьям
палят, словом, забавляются.
– А сам-то monsieur le Secondat257 как, каково настроение? Ты с ним говорил?
– Как всегда, не в духе. Во втором батальоне у Константина Павловича у солдата
пуговицу обнаружил незастегнутую, а у офицера, не помню его фамилию, молоденький
такой, плюмаж на шляпе не того цвета показался, желтоват. Очень гневаться изволил.
– Ну и что, наказал?
– Шпицрутенами. И при экзекуции лично присутствовал.
– Что за гнусность, – возмутилась Екатерина, – совсем сдурел.
Салтыков тяжело вздохнул и поиграл глазами, показывая, что разделяет
негодование гатчинскими порядками.
– А что Александр, видел он это безобразие?
– Как не видеть. Все тамошнее воинство при сем присутствовало.
– Бедный мальчик, – вздохнула Екатерина, – за что ему такие испытания?
Салтыков кашлянул. Взгляд его на секунду сделался отсутствующим. Графу,
ежедневно наблюдавшему гатчинские нравы, лучше, чем кому-либо другому было
известно, что Александр все более проникается поэзией вахтпарадов и шагистики, видя в
них верное средство восстановить дисциплину в разнеженных гвардейских полках.
–Ну ладно, – Екатерина позвонила в колокольчик. Немедленно, будто она все это
время стояла за дверью, появилась Перекусихина.
– Добавь-ка ледку, Саввишна, – сказала Екатерина. – Что-то вода тепла стала.
Когда Перекусихина, бултыхнув льду в таз, исчезла, Екатерина повернулась к
Салтыкову.
– Теперь о наших делах. Я здесь поразмыслила, посоветовалась с князем
Платоном Александровичем и думаю, что не стоит откладывать оглашение известного
тебе манифеста до 1 января. Сделаем это в Екатеринин день, 24 ноября. Бумагу, которую
князь Платон подготовил, я посмотрела, да и ты посмотри. Все, что там про колобродства
и дурные инстинкты великого князя понаписали, вычеркнула. Это наше дело, семейное,
публике знать о том необязательно. Провозглашение Александра наследником-
257 Господин Заместитель (фр.). Этим насмешливым прозвищем Екатерина называла Павла в переписке с
Гриммом
цесаревичем – акт необходимый для счастья и благополучия государства российского, об
этом и надо писать в манифесте, а не о том, что отец его сумасшедший.
Слушая, Салтыков кивал головой.
– Завтра князь Платон эту бумагу Безбородко покажет. Может, тот еще чего
удумает, голова у него крепкая.
Салтыков не мог скрыть изумления.
– Как, и хохол согласен? Помнится, он был другого мнения.
– Все вы другого мнения, когда вместе соберетесь, а поодиночке куда деваться? Я
его характер уже двадцать лет знаю. Да, вот еще, пошли курьера к графу Орлову, в Москву,
скажи, что хочу его видеть в столице. Его да Румянцева, как героев прошлой войны, народ
любит. Их подписи под манифестом не помешают.
Салтыков согласно наклонил голову.
– Кстати, – вспомнила вдруг Екатерина, – а Мари где сейчас, в Гатчине или
Павловске?
– В Павловске, – ответил Салтыков. – Занимается делами воспитательного дома
для солдатских сирот.
– Вот и хорошо. Чем меньше она в эти дни в Гатчину ездить будет, тем лучше.
Понял?
– Точно так, матушка, – поклонился Салтыков.
Когда он выходил из спальни императрицы, на лицо его вернулось обычное
выражение тревожной озабоченности. Старый куртизан уже обдумывал, что будет
говорить при завтрашней встрече с Павлом.
Больно и печально видеть, в чьи руки попадают порой судьбы империи.
Павел, судя по всему, знал все или почти все. С 12 сентября, когда он давал бал по
случаю дня рождения Анны Павловны и вплоть до самого дня смерти Екатерины он ни
разу не был в Петербурге.
5
Во второй половине октября здоровье Екатерины настолько окрепло, что она вновь
стала появляться на публике. На бал по случаю тезоименитства великого князя
Александра дамы явились в трауре – накануне пришло известие о смерти королевы
Португалии. Императрица также была одета в черное, что случалось с ней чрезвычайно
редко. За исключением весьма немногочисленных случаев она носила лишь полутраур.
– Не праздник, а немецкие похороны – черные платья, белые перчатки, – сказала
Екатерина, присаживаясь подле графини Варвары Николаевны Головиной. Лицо
императрицы было бледно, взгляд рассеян.
В окне двухсветной танцевальной залы всходила луна. Императрица сказала:
– Какая красивая луна сегодня, надо бы посмотреть на нее в телескоп. Я обещала
шведскому королю показать его, когда он вернется.
Описывая этот вечер в своих знаменитых «Записках», Головина вспоминает, что когда
английский король подарил Екатерине телескоп, изобретенный астрономом Гершелем,
императрица велела привезти его в Царское Село немецкому профессору, служившему в
Академии наук, в сопровождении Ивана Петровича Кулибина. Телескоп установили в зале,
Екатерина смотрела через него на Луну. Стоя за креслом императрицы, Головина слышала, как
та спросила у немца, удалось ли ему сделать какие-то новые открытия при помощи этого
телескопа.
– Нет никакого сомнения, – с важностью ответил тот, – что Луна обитаема. Ее
поверхность пересечена долинами и горами, можно разглядеть и деревянные сооружения.
Екатерина выслушала этот ученый ответ, с трудом сохраняя серьезное выражение
лица. Когда немец удалился, она подозвала Кулибина и спросила у него вполголоса:
– А ты, Кулибин, открыл на Луне что-нибудь?
– Я не так учен, как господин профессор, – ответил тот, – и не увидел там ровно
ничего.
Императрица с удовольствием вспоминала потом этот ответ.
После бала был накрыт ужин. Екатерина, никогда не садившаяся за стол вечером,
на этот раз изменила своей привычке, прошла в столовую и незаметно устроилась за
спинами Головиной и ее приятельницы графини Толстой. Варвара Николаевна, закончив
есть, подала, не оборачиваясь, свою тарелку через плечо. Каково же было ее удивление,
когда она увидела, что тарелку приняла красивая белая рука с великолепным солитером на
пальце. Головина вскрикнула в крайнем смущении от допущенной ошибки, но Екатерина
успокоила ее, сказав:
– Что же, вы боитесь меня?
– Я в растерянности, Ваше величество, – отвечала графиня, – что заставила вас
убирать мои тарелки.
– Пустое, я пришла, чтобы на вас полюбоваться.
Она еще немного пошутила с Головиной и Толстой, заметив, что пудра с шиньонов
падает им на плечи точно так же, как у графа Матюшкина, весьма забавного персонажа,
который, вернувшись из Парижа, приказывал припудривать себе спину, считая, что это
было последним криком моды во Франции.
Перед тем как подняться, Екатерина оперлась о плечо Головиной. Та поцеловала ей
руку, будто предчувствуя, что это была их последняя встреча.
В воскресенье, 2 ноября, Екатерина в последний раз появилась на большом выходе. В
ожидании императрицы публика собралась в кавалергардском зале, а двор – в примыкавшей
к ней секретарской комнате. Направляясь к заутрене, Екатерина обычно проходила прямо
через секретарскую и столовую в примыкающее к внутренней церкви Зимнего дворца
помещение, через окно которого она могла следить за службой. Окно было устроено, чтобы
избавить императрицу от утомительных спусков и подъемов по лестнице, которая вела в
церковь. На обратном пути Екатерина тем же путем возвращалась в секретарскую,
посылая показаться публике Павла Петровича или кого-нибудь из внуков.
На этот раз Екатерина направилась в церковь через кавалергардский зал. Она все
еще носила траур, но выглядела намного лучше, чем раньше. Лицо ее светилось улыбкой,
седые волосы были убраны под черный платок, ниспадавший до середины лба.
Приветствуя легким наклоном головы знакомые лица, встречавшие ее в огромной толпе,
императрица прошествовала в церковь. За ней шли великие князья Александр и
Константин, Зубов, Салтыков и Алексей Орлов, только что приехавший из Москвы.