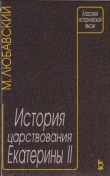Текст книги "Хроники времен Екатерины II. 1729-1796 гг"
Автор книги: Петр Стегний
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
соблазна съязвить насчет «натализации» дармштадтской принцессы (из Вильгельмины в
Наталью). Отповедь, последовавшая из Петербурга, по тону была резкой, по существу
двусмысленной (глубокая внутренняя связь между лютеранством и православием).
Впрочем, для Екатерины, в свое время также сменившей веру, тема эта оставалась, надо
полагать, непростой.
Ассебург, кстати, при переговорах в Дармштадте, по-видимому, не совсем четко
разъяснил требования Екатерины относительно смены религии избранницей Павла. Во
всяком случае ланд-граф Людвиг включил в состав свиты своей жены президента
дармштадтских земельных коллегий Карла фон Мозера, поручив ему договориться в
Петербурге, чтобы дочь его осталась лютеранкой. Однако попытки Мозера выполнить
данное ему поручение успеха не имели. Он с горя заболел, бормоча о «ненужности своей
поездки с самого начала».
Каролина, не желавшая осложнять отношения с Екатериной вмешательством в
столь щекотливый вопрос, послала в утешение мужу, считавшемуся лучшим
барабанщиком Германии, барабан российского императорского кавалергардского полка.
Екатерина успокоила волновавшегося Мозера другим способом. Приняв и обласкав
его, она сказала между прочим, что принадлежит к числу немногих монархов, читавших
его книгу «Господин и его слуга» (в 1766 году изданную в России на русском языке с
посвящением Екатерине). Стоит ли говорить, что и Мозер, и второй известный
немецкий писатель Иоганн Генрих Мерк, также сопровождавший ланд-графиню в
поездке, после возвращения на родину влились в толпу поклонников Екатерины? Мерк
знакомил читателей немецких журналов с новинками русской литературы, а Мозер,
рассказывая о своих впечатлениях от поездки, говорил, что Россия, управляемая
«философом на троне», стала «отечеством для гениев и умных голов со всего мира».
И еще одно. В многотысячных толпах, которые собирали в эти дни торжественные
выходы Екатерины, было немало заурядных иностранцев, имевших, однако, похвальную
привычку писать письма, сохраняя таким образом живое восприятие событий,
свидетелями которых им довелось стать. Вот письмо некоего француза по фамилии
Марбо, адресованное в Париж парламентскому адвокату де Сервалю:
«Весь блеск двора и местной знати можно было наблюдать во время торжественной процессии в
честь Св. Александра Невского, день которого праздновался сегодня22. Императрица принимала в ней
участие, следуя пешком, как и Великий князь, будущая Великая княгиня и императорская свита, состоявшая
из всех выдающихся и заслуженных вельмож государства. Их величества и высочества со всем этим
блестящим кортежем вышли из Казанского собора и проследовали пешком до Александро-Невской лавры,
находящейся на расстоянии около одного французского лье за городом. Выстрел из пушки,
подействовавший на мои барабанные перепонки, известил о их возвращении с этого паломничества,
длившегося три часа. Я не буду рассказывать вам о священнослужителях, которые шли перед процессией.
Вы сами легко представьте себе их длинные одеяния и бороды, лысые головы и круглые высокие шапки,
придающие им сходство то ли с еврейскими раввинами, то ли с древними патриархами. Вам, однако, вряд
ли удастся представить себе их физиономии, одновременно постные, тупые и злобные. Не буду описывать
также бесчисленные экипажи, роскошные мундиры и платья, ливреи, шитые золотом, – все это легко
представить тому, кто видел праздники в Версале»23.
Пасквиль, конечно, но вспомнился Гете – «Бог – в деталях».
Впрочем, мы, кажется, снова отвлеклись. При выходе молодых из дворца Екатерина
выглядела вполне довольной. Только очень опытный и внимательный наблюдатель мог бы
уловить затаенную тревогу в ласковом взгляде, обращенном на сына и невестку,
устроившихся напротив нее в парадной карете, направлявшейся к Казанскому собору.
По бокам кареты, запряженной восьмеркой лошадей цугом, верхами ехали обер-
шталмейстер Лев Нарышкин и петербургский губернатор граф Яков .Брюс. За ними
выступали кавалергарды с обнаженными палашами. Впереди на белом норовистом коне —
шеф кавалергардского корпуса князь Григорий Орлов в серебряной кирасе и шлеме с
пышным черным пером. В замке кавалергардов ехал младший брат Григория, Алексей,
прибывший в Петербург из Ливорно, где он командовал действиями русского флота на
Средиземном море. Могучие фигуры братьев Орловых привлекали всеобщее внимание.
22 30 августа 1773 года.
23 АВПРИ ф. секретнейшие дела (Перлюстрации) оп. 612, д. 31, лл. 398, 398 об.
Григорий, всего лишь год назад бывший всесильным фаворитом императрицы, был,
видимо, рад вновь оказаться в центре внимания. Суровое лицо Алексея – Алехана, как
называли его братья, – обезображенное шрамом, пересекавшим щеку, хранило
непроницаемость.
При приближении к Казанскому собору императорский кортеж встретил
благовест; камергеры и камер-юнкеры, спешившись, встали шпалерами.
Внутри собора, справа от императорского места, под зеленым балдахином, для
великого князя и его невесты были поставлены кресла покрытые красным сукном с
золотым позументом. У северного входа собрались иностранные дипломаты, облаченные в
цветные камзолы с орденскими лентами через плечо.
Екатерина, взяв Павла за правую, а Наталью Алексеевну за левую руку, под
стройное пение церковного хора отвела их на место для новобрачных.
По свершении брачного таинства архиепископ Псковский Иннокентий произнес
проповедь.
Ланд-графиня Каролина, слушая обращенные к ее дочери проникновенные, но
непонятные ей наставления, поминутно прикладывала к глазам кружевной платочек. Сын
ее, граф Людвиг Гессенский, прибывший накануне свадьбы, чтобы проводить сестру под
венец, внимательно следил за незнакомым ему церковным обрядом. Время от времени он
чуть поворачивал голову к стоявшему подле него прилично одетому человеку лет
пятидесяти в прусском парике с буклями. Сосед графа, не размыкая тонких губ, кончики
которых были приподняты в вежливой полуулыбке, что-то шептал ему на ухо, не отрывая
взгляда от происходившего у алтаря священнодействия.
Стоит ли пояснять, что этого человека звали Фридрих Мельхиор Гримм?
8
Гримм прибыл в Петербург за две недели до Дидро. В отличие от последнего
проблем с ночлегом в русской столице у него не возникло. Гримм жил в Летнем дворце,
где остановилась ланд-графиня Каролина со своими детьми и свитой.
Литературный критик, журналист, теоретик музыки – Гримм обладал
многочисленными талантами, главным из которых был талант устраивать собственные
дела. С Дидро, д’Аламбером, Гольбахом он близко сошелся еще в конце 40-х годов, когда
впервые появился в Париже в качестве наставника детей графа Шенберга. Выпускника
Лейпцигского университета и начинающего литератора одинаково радушно приняли и в
кругу философов, и в аристократических салонах. Впрочем, в доме Шенберга Гримм
оставался недолго. Он стал чтецом принца Саксен-Готского, а затем секретарем графа фон
Фризена, племянника маршала Морица Саксонского.
Известность в Париже, а впоследствии и во всей Европе, принесла Гримму его
«Литературная корреспонденция». Этот рукописный журнал, сообщавший о последних
новостях художественной и литературной жизни Парижа, по просьбе просвещенной
герцогини Луизы-Доротеи Саксен-Готской начал издавать аббат Рейналь в 1747 году.
Гримм, приглашенный Рейналем для сотрудничества в 1753 году, быстро поставил дело на
широкую ногу. За 300 франков в год владетельные государи многочисленных немецких
княжеств могли дважды в месяц получать обстоятельные описания луврских Салонов и
вернисажей, спектаклей в «Комеди франсез». С 1763 года к подписчикам «Литературной
корреспонденции» присоединился Фридрих II, а с 1766 года – Екатерина. С этих пор имя
Гримма приобрело европейскую известность.
Ближайшим сотрудником Гримма по «Литературной корреспонденции» был Дидро,
из-под пера которого почти два десятилетия выходили самые блестящие статьи этого
уникального издания. Случалось, что пока Гримм отсутствовал в имении мадам д’Эпине,
проводя время в беседах с политиками и финансистами, Дидро ночь напролет писал о
картинах Вьена, Греза и Ван Лоо, скульптурах Гудона и Фальконе для очередного выпуска
«Литературной корреспонденции». Без особой натяжки можно сказать, что слава Гримма
покоилась на труде Дидро.
Как ни странно, такое положение удовлетворяло обоих. В отношениях с собратьями
по философскому кружку Дидро был наивен, как ребенок или, вернее, как гений. Он не
знал чувства зависти. На перешептывания (и при жизни Гримма, и после его смерти) об
умении его друга извлекать пользу из чужого труда или о сомнительных услугах,
оказываемых им многим европейским дворам, Дидро отвечал ясной улыбкой человека,
неколебимо верящего в добро.
Когда Гримм по своему обыкновению бочком, как человек светский, но
проводящий много времени за письменным столом, вошел в гостиную Нарышкина,
радости Дидро не было предела. Забыв о своих недомоганиях, он вскочил с дивана и
заключил друга в объятия. Гримм, терпеливо снес бурное проявление чувств своего
экспансивного товарища, бережно отстранил его со словами:
– Ты несносен, Дени. Можно ли так вести себя? Вот уже три месяца, как я не
получаю от тебя никаких известий. Подумай сам: выезжаешь из Парижа весной, а
приезжаешь сюда только осенью. Ты пропустил весь belle saison24.
По-французски
Гримм выражался не совсем правильно, как бы с некотором усилием, но недостаток этот
24 Теплое время года (фр.).
вполне компенсировал приятный бархатистый тембр его голоса и несколько небрежная, но
располагавшая к себе манера держаться.
Дидро, усадив своего товарища в удобное кресло, стоявшее возле изразцовой печи,
принялся рассказывать о своих дорожных приключениях. Гримм внимательно следил за
оживленной жестикуляцией, которой сопровождал свои слова сидевший напротив него
взъерошенный человек с профилем хищной птицы. Привычно доброжелательное
выражение его лица отражало радость узнавания чудачеств старого друга. Так
умудренный опытом отец смотрит на озорного, увлекающегося, но достойного одобрения
сына.
Давайте же оставим ненадолго двух друзей, – после полугодовой разлуки им есть,
что сказать друг другу – и присмотримся повнимательнее к двум философам,
появившимся в Петербурге осенью 1773 года. Это поможет нам лучше понять смысл и
логику дальнейших событий.
Дидро и Гримм, как Кастор и Полидевк, перенесенные в век Просвещения, были
едины в своей противоположности. Оба принадлежали к среднему сословию. Отец
Гримма был лютеранским пастором в Регенсбурге, ставшим впоследствии
суперинтендантом. Дидро родился в семье ножовщика, впрочем, вполне почтенной.
Представители ее два века занимались этим ремеслом в родном Лангре.
Дидро не находил ничего зазорного в своем низком происхождении. До конца
жизни он сохранил любовь к жителям Лангра, все время открывая в них какие-то
особенно привлекательные черты характера. Он говорил, что из-за сильных ветров,
нередких в тех местах, обитатели Лангра стали похожи на флюгеры, устойчивые к
переменам судьбы и восприимчивые к новым веяниям. Сам Дидро также, подобно
флюгеру из Лангра, чутко улавливал флюиды эпохи.
Гримм не любил вспоминать о своей жизни до приезда в Париж. Франция стала его
духовной родиной. И по образу жизни, и по складу ума он был скорее французом, чем
немцем.
Ученик и воспитанник иезуитов, Дидро яростно выступал против католической
церкви. Он был убежден в том, что человеческая природа совершенна, мир Божий
прекрасен и зло лежит вне его. Оно есть следствие дурного образования и дурных
учреждений. Во времена, когда француз, не проявивший должного почтения к
религиозной процессии, рисковал быть ошельмованным и даже казненным, такая позиция
была серьезным протестом против ханжества в религиозно-нравственных вопросах
феодального абсолютизма, формализма в искусстве и обскурантизма в мышлении.
В апреле 1771 года Дидро писал своей русской знакомой, княгине Екатерине
Дашковой:
«Каждый век имеет свое особое направление, которое его характеризует.
Направление нашего века заключается, по-видимому, в свободе. Первая атака против
суеверия была очень сильна, сильна не в меру. Однако раз люди осмелились атаковать
предрассудки теологические, самые устойчивые и наиболее уважаемые, им невозможно
уже остановиться. От них они рано или поздно обратят свои взоры и на предрассудки
земные».
Дидро, возможно, самый глубокий мыслитель века Просвещения, был одним из
тех, кто произвел революцию в умах.
Гримм был личностью совершенно другого масштаба. Талант его заключался в:
необыкновенном умении понимать характеры людей и мотивы их поведения, проникать
умственным взором в суть сложных взаимосцеплений политических конъюнктур своего
века. Кроме того, Гримм был литературным критиком, с живым и быстрым умом и
чрезвычайно тонким вкусом.
В каком-то смысле Гримм был более цельной натурой, чем Дидро. Космические
масштабы мышления француза, его гигантская эрудиция имели свои недостатки. Эстетика
Дидро противоречива – он одинаково любил сурового бытописателя Шардена и
сентиментально красивого Греза, шаловливых амуров Фальконе и классически
совершенные бюсты Гудона. Дидро творил легко, был нетерпелив и неусидчив – и в то
же время три десятилетия кропотливо трудился над изданием Энциклопедии.
Энциклопедия стала прижизненным и посмертным памятником Дидро,
увековечившим его имя. После Гримма остались «Литературная корреспонденция»,
многочисленные статьи да пара модных в свое время памфлетов. Самый известный из них
– «Маленький пророк из Богемишброде», в котором Гримм, выступив арбитром между
приверженцами старинной музыки и новой (ее вождем и символом был Глюк, вывезенный
из Вены Марией-Антуанеттой), решительно встал на сторону последней.
И еще одно. Дидро был добр по натуре. Он, если так можно выразиться, был
энтузиастом добра.
«На меня, – говорил он, – производят более сильные впечатления прелести
добродетелей, нежели безобразия порока. Я тихонько отворачиваюсь от плохого человека
и бросаюсь в объятия хорошего. Если в каком-нибудь произведении, картине, статуе есть
хоть что-нибудь хорошее, мои глаза останавливаются именно на этом. Я ничего не вижу,
кроме хорошего, и ничего другого не удерживаю в памяти».
Гримм с его талантом распознавания людских характеров не мог не ценить этого.
Ну, разумеется, и пользоваться в своих целях.
Вот и теперь он больше слушал своего словоохотливого друга, чем говорил сам.
– Однако, я, кажется, заговорил тебя, – спохватился наконец Дидро. – Как ты
нашел Петербург?
– С’est un vrai tourbillon, mon cher, un vrai tourbillon25, – произнес Гримм. Каждый
день – молебны, балы, обеды. Эти праздники меня доконают.
– А что императрица, видел ли ты ее?
– Я был представлен ей вместе с графом Людвигом и, надо признаться, принят ею
чрезвычайно милостиво.
– Какой ты ее нашел? – Дидро, не отпускавший во время беседы руку своего
друга, порывисто потянулся к нему.
– Это великая женщина, – просто ответил Гримм. – Она величественна и
проста. Скажу тебе по правде, Дени, из европейских монархов я мог бы сравнить ее только
с Фридрихом. Тот же масштаб, та же порода – и эта удивительная естественность...
Дидро, не любивший прусского короля, поморщился.
– Но вот незадача, мой друг, – продолжал между тем Гримм, – генерал Бауэр, он
служит здесь при дворе, объявил мне от имени императрицы, что Ее величеству угодно
принять меня в свою службу.
– Поздравляю, – воскликнул Дидро, – ты будешь прекрасным воспитателем
великого князя.
– Ты забываешь, мой друг, что великий князь достиг совершеннолетия и не далее
как третьего дня женился, – отвечал Гримм со спокойной усмешкой. – Впрочем, он
представился мне, и я нашел его вполне достойным молодым человеком.
– Так в чем же должны состоять твои обязанности?
– Генерал не уточнил, – сказал Гримм. – Впрочем, это не имеет значения, я
решил отказаться.
– Но почему? – воскликнул Дидро.
– Думаю, что по той же причине, что и ты, мой друг, столько медлил с приездом.
Екатерина – великая государыня, но она правит странной страной. Впрочем, это еще и не
страна, так, набросок, мираж. Карикатура на Европу, написанная рукой турка.
– Однако ты зол сегодня, – проговорил Дидро.
– Ничуть, – спокойно отвечал Гримм. – Не скрою, я растерян, потому что не знаю,
как отказаться. Что же касается России, о, ты сам все увидишь.
25 *Суета, мой друг, суета. (фр.)
Гримм помедлил, остро глянул на своего друга и добавил:
– Если захочешь, конечно.
Только спустя несколько дней, под конец свадебных торжеств, Гримм нашел случай
объясниться с императрицей. Вот как он сам описывал впоследствии состоявшийся между
ними разговор:
«Войдя в комнату, я увидел государыню с тем величавым выражением достоинства,
которое в ней было так естественно и не имело ничего строгого, а между тем меня
смутило.
– Ну что же, – сказала она, – вы желали переговорить со мною. Что имеете вы сказать?
– Если Ваше величество, – отвечал я, – сохранит этот взгляд, то я должен буду удалиться, потому
что чувствую, что голова моя не будет свободна и что, следовательно, напрасно было бы злоупотреблять
минутами, которыми Вам угодно мне пожертвовать.
Улыбка просияла на ее лице.
– Садитесь, – сказала она, – и потолкуем о наших делах.
Успокоенный таким милостивым обхождением настолько же, насколько я был скован перед этим,
я высказал, что если бы я безусловно тотчас согласился бы принять сделанное мне предложение, то
доказал бы этим лишь готовность во что бы то ни стало воспользоваться счастием, что подобного рода
людей у государыни найдется вдоволь под рукой; что предложение это вскружило бы голову и покрепче
моей; что, тем не менее, оно заставило меня задуматься; что как бы я ни был счастлив посвятить ее
службе остаток дней своих, тем не менее даже ее всемогущество не может изменить того, что я две
трети своего существования провел вдали от нее; что мне было уже за 50 лет и что я не в праве
надеяться изучить русский язык; что по моему убеждению нельзя быть полезным деятелем, не зная языка
того края, которому служишь»26.
Гримм упомянул и об интригах и происках, так часто встречающихся при дворе,
высказал опасение насчет неизбежной зависти, которая заставит его делать промахи.
Екатерина, улыбаясь, отвечала, что не понимает таких тонкостей.
Не сказал Гримм Екатерине в тот раз лишь одного. Главного, в чем он признался
лишь спустя много лет:
«Не лета мои, не невозможность изучить русский язык, не двор, с окружающими
его опасностями, не страх ошибок удерживали меня от исполнения столь лестной и
счастливой для меня воли государыни, меня удерживало опасение, что столь блестящая
перемена в службе моей не может быть продолжительной. Я предпочитал полное лишение
предлагаемого неверной возможности его потерять».
Признание любопытное, и к тому же доказывающее, что Гримм, был если и не
искренним, то, во всяком случае, чрезвычайно умным человеком. А это, согласитесь,
немало.
9
26 Цитируется с сохранением стилистики оригинала по «Автобиографической записке» Ф.-М. Гримма,
опубликованной в Сборнике императорского российского исторического общества, т. 2,. СПб, 1868 г., стр.
324-393.
Точная дата представления Дидро Екатерине достоверно не известна. С
уверенностью можно сказать только то, что первая встреча императрицы и философа
произошла не позже 5 октября, то есть через пять-шесть дней после приезда Дидро в
российскую столицу.
По признанию самого Дидро, он был настолько взволнован во время этой встречи,
что решительно не помнил, о чем говорил. Должно быть, однако, слова его доставили
удовольствие Екатерине, во всяком случае, тронули ее своей искренностью.
После часовой беседы она сказала ему:
– Господин Дидро, видите дверь, в которую вы вошли? Она будет открыта для вас
всякий день с трех до пяти часов пополудни.
Кабинет императрицы Дидро покидал в состоянии сильнейшей ажитации. В
письме дочери, он признавался, что, собираясь в Петербург и подумать не мог, что будет
беседовать с русской императрицей один на один каждый день. Небольшая аудиенция
после месячного ожидания и возможность проститься – вот все, на что он рассчитывал.
Вышло, однако, по-другому. За пять месяцев, проведенных в Петербурге, Дидро
беседовал с Екатериной не менее шестидесяти раз. Разговор длился обычно от полутора
до двух часов, хотя Дидро, никогда не знавший точно, который час, часто опаздывал и
приходил во дворец, когда наступало время приема других лиц. Екатерина порой не знала,
как распрощаться с увлекшимся философом.
Были и другие сложности. Дидро, не признававший условностей ни в одежде, ни в
поведении, в Париже в кругу своих друзей-философов слыл большим оригиналом. В
Петербурге же, при пышном екатерининском дворе, да еще во время праздников, он
выглядел странно.
«Он никогда даже не думал о том, что во дворец нельзя являться в том же костюме,
в котором ходят в чулан; он отправлялся к императрице весь в черном», – вспоминала
дочь Дидро.
По приказу Екатерины Дидро прислали придворный костюм.
Это, однако, мало что изменило. В кабинете Екатерины философ чувствовал себя
совершенно свободно.
«Дидро берет руку императрицы, трясет ее, бьет кулаком по столу; он обходится с
ней совершенно так же, как с вами», – писал Гримм в Берлин графу Нессельроде.
К счастью, непосредственность француза забавляла Екатерину. Она лишь
улыбалась, когда он, увлекшись, обращался к ней «ma bonne dame»27 вместо положенного
«madame»28, снимал парик, чтобы доказать сходство со своим бюстом, который был сделан
27 Сударыня (фр.).
28 Государыня (фр.).
по памяти помощницей Фальконе Анной-Мари Колло. Небрежно повязанный галстук,
обнажавший морщинистую шею, манера целовать руки дамам по поводу и без повода
вызывали у Екатерины только усмешку. Она находила, что естественность поведения
Дидро придавала особую прелесть их беседам и видела в ней признак высокого
энтузиазма, присущего только великим людям.
«Ваш Дидро, – писала она своей парижской корреспондентке мадам Жоффрен, —
человек совсем необыкновенный: после каждой беседы у меня бедра всегда помяты и в
синяках. Уж я была вынуждена поставить между ним и мною стол, чтобы защитить себя
от его жестикуляций».
Дидро был в восторге от своей собеседницы.
«Это душа Брута, соединенная с чарами Клеопатры, – писал он Екатерине
Дашковой. – Если она как государыня велика на троне, то ее прелести как женщины
способны вскружить головы тысячам смертных. Никто лучше ее не владеет искусством
располагать в свою пользу».
Об отношении Екатерины к Дидро и тогда, и после говорили всякое. Фридрих II, к
примеру, писал Д’Аламберу:
«Говорят, что в Петербурге смотрят на Дидро как на скучного резонера,
болтающего все одно и то же. Будучи завзятым читателем, я все-таки не могу выносить
его сочинений. В них царствует такое самодовольство и высокомерие, что это стесняет
мою свободу».
Российская императрица, однако, придерживалась другого мнения.
10
В одной из первых бесед Дидро спросил Екатерину, кто были ее учителя.
– L’ennui et sollitude29, – ответила она.
В течение долгих восемнадцати лет, с тех пор как она стала супругой великого
князя Петра Федоровича и до вступления на престол 28 июня 1762 года, единственными
ее друзьями были книги. Шведский граф Гюлленборг, посетивший Петербург в 1745 году,
назвал ее философкой. Екатерине в то время было пятнадцать лет и она уже
познакомилась с произведениями Плутарха, Цицерона, Монтескье. После отъезда
Гюлленборга, кстати сказать, фигуры весьма загадочной (он неизменно появлялся возле
Екатерины в переломные моменты ее жизни), она обратилась к Вольтеру, Руссо, Дидро.
Горизонты мира раздвинулись для нее. В душе великой княгини разгорелся огонь, который
не погас до конца ее дней.
29 Скука и одиночество (фр.).
«Свобода – душа всего на свете. Без тебя все мертво. Желаю, чтобы повиновались
законам, но не рабски; стремлюсь к общей цели – сделать всех счастливыми», – писала
она в те годы.
Личность великой государыни Екатерины формировалась под влиянием новейшей
философии с ее проповедью свободы и самоценности человеческой личности, и
абсолютной, переданной с генами немецкими предками уверенностью в монархическом
строе, как наилучшем гаранте общественного порядка, которую подкрепила еще
российская реальность. Проявление этой внутренней раздвоенности часто принимали за
неискренность и лицемерие. Вряд ли это было так. Екатерина – дочь века, прошедшего
под знаком сомнений. Излом эпохи оставил след и в ее душе.
–«Всюду человек свободен – и всюду он в оковах», – первые слова
«Общественного договора» Руссо пугали ее своей правотой.
Раньше и глубже многих Екатерина почувствовала разрушительную силу призывов
к всеобщему равенству. Поэтому, очевидно, из философских сочинений только книги
Руссо удостоились редкой чести быть запрещенными в России. Впрочем, в 1765 году,
когда вынужденного покинуть родину Руссо отказались принять англичане, Екатерина
через Григория Орлова пригласила будущего швейцарского отшельника поселиться в
России. Он отказался, как отказались от подобного приглашения Вольтер, Д’Аламбер,
аббат Гальяни. Это, тем не менее не изменило отношения Екатерины к аристократам духа:
вслед за библиотекой Дидро в Петербурге оказались книги Вольтера, собрание
манускриптов и литографий Гальяни.
Впоследствии у историков екатерининского царствования вошло в обычай
сожалеть, что книги эти в России было некому читать. Упрек столь же предвзятый, сколько
и бессмысленный. В эпоху, когда во дворах католических монастырей полыхали костры,
истреблявшие крамолу, Петербург был не худшим местом сохранения интеллектуальных
богатств Европы для потомков.
Рукописи, к сожалению, горят, не горят идеи, и Екатерина если и не сознавала, то,
наверное, чувствовала это. Интуицией она обладала поразительной.
Долгие годы ее кумиром был Вольтер. Она открыто, порой демонстративно
восхищалась его едким сарказмом, неожиданными парадоксами, смелым разоблачением
ханжества и грубых предрассудков. Это было необычно, но не ново – культ Вольтера в
русском образованном обществе возник еще во времена Елизаветы Петровны.
Вольтерьянство тогда воспринималось как антипод суеверия – и только. Не стоит
забывать, что позже, уже в грибоедовские времена, слово «вольтерьянец» стало
синонимом злодея – фармазона, повинного во всех эксцессах Великой революции. Для
Екатерины же Вольтер, камер-юнкер двора Фридриха Великого, был тем, кем он сам
стремился быть – учителем и наставником просвещенного монарха, призывавшим
«écraser l’infâme»30 В этом смысле Екатерина была вольтерьянкой.
В своих отношениях с философами Екатерина оставалась женщиной в высшей
степени практической. Ее письма Вольтеру, редактировались тщательнее, чем
политические декларации, адресованные герцогу Шуазелю и Людовику XV, кстати
сказать, преследовавших энциклопедистов с беспомощным остервенением духовных
банкротов. Тем поразительнее выглядят содержащиеся в них откровения о порядках в
России («У нас нет мужика, который не имел бы курицы на обед, хотя с некоторых пор
многие предпочитают курам индеек»). Что это: ханжество, безнравственный обман?
Ведь нельзя же предположить, что Екатерина не знала, чем действительно питается
русский крестьянин в Костроме или Поволжье.
Думается все же, что ни то, ни другое. С точки зрения политика, с оппонентом надо
говорить на его языке, врагу – платить его же монетой. Екатерина же была
прирожденным политиком, прекрасно понимавшим к тому же новое для ее века значение
общественного мнения. Ее письма Вольтеру – достойный ответ длинной веренице
недоброжелателей России от Шуазеля до аббата Шаппа д’Отероша, для которых было
дурно все, что непохоже на Европу. Ответ столь же лицемерный, как и их упреки – и
потому профессиональный.
Еще в юные годы, будучи великой княгиней, Екатерина, следя за перипетиями
политической карьеры Вольтера при дворе Фридриха II, поняла, какие выгоды может
принести великому политику дружба с великим философом. Подражая, скорее всего
бессознательно, Фридриху, которого она уважала и ненавидела, но которому всегда не
доверяла, она начала свою игру с Вольтером. Эта игра дала поразительные результаты.
Вольтер, отчаянный и одновременно предельно осмотрительный, изгой и богач, сумевший
еще в молодости сделать состояние на военных спекуляциях, оказался достойным
партнером русской императрицы. Ее письма к Вольтеру, подозрительно часто попадавшие
на страницы европейских газет и обсуждавшиеся в парижских салонах, утвердили его в
высоком звании патриарха философской партии. В ответ Вольтер провозгласил
Семирамиду Севера апостолом веротерпимости. Он призывал ее изгнать турок из Европы
и уничтожить само понятие «мусульманин»; польских конфедератов, преследуемых
войсками Бибикова и Репнина, он называл канальями. Заветная мечта Вольтера, как, впрочем,
век спустя и Достоевского, – видеть Константинополь под русским скипетром.
30 Раздавить гадину (фр.).
Конечно, подобная сублимация абсурда – это уже не фарисейство, это политика.
Недаром после опалы, посетившей Шуазеля в конце 1770 года, Екатерина, не скрывая
своего удовольствия, вспоминала как «мы вместе с Вольтером валили» самого
могущественного врага России.
Партия, разыгранная Екатериной с Вольтером, просчитана мастерски. Не
удивительно ли, что даже в польских делах философы держали сторону русской
императрицы?
Вольтер говорил: «Un polonais – charmeur, deux polonais – une bagarre, trois
polonais – eh bien, c’est une question polonaise31».
Из всех философов, пожалуй, один Дидро не произносил афоризмов на злобу дня.
Дидро не то чтобы не интересовался политикой, он был выше ее. Сложные конъюнктуры
европейской политики, перипетии русско-турецкой войны трансформировались в его
сознании в абсолютные категории. Победы русских войск в Молдавии он приветствовал
потому, что они приближали мир. Он твердо знал, что любой мир лучше войны и говорил
об этом в письмах к Екатерине. Голова его была устроена так, что реальная жизнь в ее
самых различных проявлениях была для него только иллюстрацией к тем идеальным
принципам, которые сформировались в его воображении.
Не эту ли сторону личности Дидро имела в виду Екатерина, когда называла его
человеком, во всем отличным от других? Похоже, что так, хотя ее отношения с Дидро, как
и все, что она делала, были тоньше и сложнее реальных или мнимых утилитарных
расчетов.
Едва ли не самой яркой идеей века Просвещения была идея рационализма. И
прорыв к ней, а через нее – к освобождению человеческой мысли – связан с Дидро. Еще
в 1767 году Екатерина впервые прочитала его знаменитое сочинение «Письмо о слепых в