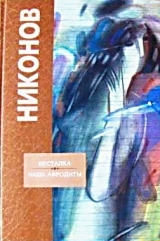
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
130
ощутила я, как жажду быть ТАМ, на передовой, в боях, где, может быть, ждали меня и голод, и холод, и пули, но растворилось бы мое одиночество, ставшее из-за потери этого моег о Стрельцова еще более невыносимым. Может быть, на передовой я еще встречусь.. Ведь бывает же чудо! А если и убьют, раз уж считали убитой, пусть, все равно..
Я была еще слишком молодой, чтоб бояться смерти, понять возможность исчезновения навсегда, еще верила в чудо и в какую-то обязательную как бы справедливость, с которой родилась, жила, росла, ходила в школу, ждала отца, не считала его убитым, опекала мать, не верила ни в какую, что этой справедливости может не быть, и даже первый ужас отрезвления, Алю, без лица, с вывернутой мертвой ногой и содранной юбкой, все-таки числила в страшной случайности, не могла понять, что случайност и этой слишком много для всех девчонок, засыпанных вместе с Алей где-нибудь в подкопанной воронке командой пожилых, ко всему, казалось, равнодушных солдат-тыловиков. Девчонки на батарее звали их еще злее, беспощаднее – придурки, – словно они и были виноваты во всем сущем.
Наверное, тот начальник хорошо запомнил меня, потому что на другой день я уже отправилась в санитарную роту при 717-м стрелковом полку вновь сформированной Н-ской дивизии. Ехала на передовую с двумя сестрами. Первая была толстуха в шинели пузырем, моя соседка по строю. Огромная, в распоротых по икры сапогах. Кажется, по имени Настя. Ее розово-белые глазки из обесцвеченных ресниц глядели на мир и на меня с каким-то поросячьим смеющимся равнодушием. И, две минуты поговорив, я поняла: Насте все трын-трава, и похвалила она меня тогда всего за то, что я оказалась рядом, – так же легко могла и обругать, материлась она по-мужицки, через слово, с шофером, который должен был нас доставить в дивизию, тотчас перебросилась какими-то грубыми шутками, толкнула его и, не глядя на меня, полезла в кабину. Все у нее решалось просто.
Другая сестра, точнее, военфельдшер с одним кубиком могла бы на
131
правах старшей послать толстуху ехать в кузове, но почему-то не сделала этого, вслед за мной влезла в кузов трехтонки под брезент. Шапка у воен-фельдшера была нахлобучена, щека повязана, и лицо ее показалось немного знакомым. Но я ждала Валю и не смотрела на попутчицу. Валя, Валя.. Вот так. Встретились, а даже не простились. Днем не могла ее найти, к штабу не подпускали часовые, а теперь.. Да чему удивлялась? Все так ведь и было, почти всегда – и в госпитале, и в школе, и в эшелоне: она в командирском
– я на соломе. Знала, и слезы подруги дешево стоят, тут же могут смениться смехом. Отец Вали до войны заведовал рестораном «Ялта». Потом его арестовали, и Валя плакала, говорила, отец посажен ни за чт о.. В три-дцать девятом году он вернулся и не был больше директором, а работал в мясном отделе продавцом. В торговле работала и мать Вали, большая, статная женщина с черными усиками и яркими, всегда сочно накрашенными губами. Мать Вали почему-то напоминала мне испанку, хотя я не знала точно, какие бывают испанки, никогда их не видела, но все-таки про себя звала ее испанкой.
Не было Вали. Шофер долго не мог завести мотор, крутил ручку, трехтонка недовольно всхрапывала, не заводилась, наконец, после особенно сильной прокрутки, под матерщину, она завелась, загудела. Шофер хлопнул дверкой, и машина тронулась, качаясь по накатанному ухабами зимнику, скрипя кузовом. Поселок остался позади, а Валя не пришла.
Вечерело. Садилось солнце. Особенно грустный час в мартовской синей степи, где во все стороны нелюдимая даль.
– Чего горюешь? – хрипловато прервала мои мысли военфельдшер, сдвигая в сторону повязку с припухлой щеки, приподымая шапку. – Ну, не узнала, подруга?
Я даже вздрогнула – рядом со мной сидела Лобаева.
– Зина?! Господи! Ты-ы?
– А кто же? Эх ты, му -у-ра! Я, конечно.. Не узнала? А и правда не узнаешь – морду вон у меня перекосило. Флюс..
132
– Значит, жива??
– Да жива, жива.. Малость пришибло меня тогда. Валялась как мертвая, похоронщики вытащили. Ну, отлежалась.. Переаттестовали еще.. Подлечили. Кубаря вон дали. В начальницы теперь вышла. А на передовую опять.. Теперь, может, добьют. Бог троицу любит. Я ведь третий раз на фронт еду. Простыла вот. В бане тут мылась.. Не баня – г... Что тут за люди, б....
живут. Баню с трубой не поставят. Мылась по-черному, то боком, б.... то задницей в сажу. Пока отмывалась, и простыла. Ты как уцелела?
В двух словах рассказала ей.
– Да-а, – тянула Зина. – Кому калым, кому Колыма.. Ну, ничо...
Живая, и терпи. Обсидишься... Есть хочешь?
Я машинально кивнула. Тогда она полезла в свой туго набитый вещмешок, развязала, достала банку американской колбасы-консервов, хлеб, сухарь, какие-то карамельки. Из кармана шинели вынула большой перочинный нож с довоенной перламутровой ручкой. Небрежно, хотя вроде бы ловко, начала взрезывать банку, морщась и матюгаясь, когда кузов бросало на ухабах. Шапка-ушанка слетела с нее, и я увидела, что вместо шестимесячных кудряшек Зина теперь острижена по-мужски, под польку, и только кой-где волосы еще все-таки кудрявятся. В лице ее теперь стало меньше женского, руки, кромсавшие банку, были жилисты. Вообще, вся она похудела и подурнела. Она все-таки порезалась немного, выругалась и, посасывая палец, исподлобья глядя на меня своими прицельными глазами, сказала:
– Давай ешь.. А то отрастила мордашку и враз оголодаешь. Ешь вот,
– отрезала большой неровный ломоть колбасы, вывернула из банки на сухарь. – Грызи! У тебя зубы-то, куда мне. Я их все на сладком проела.. Да в окружении когда была.. Всего я, Лидуха, нанюхалась. А мужиков особенно.. Будь они прокляты. Такая же вот, как ты, когда-то была.. булочка.. Ну, чего смотришь? Ешь.. Ты мне всегда нравилась. Эх, запить нечем. А колбаса на большой! Мировая.. Чуешь, пахнет как? Чикаго. «Второй фронт» ее зовут. Не
133
открывают, сволочи. Тушенкой отделываются. Самих бы их.. – она не закончила. Ела не жадно. Кривилась от боли. И теперь мне понравилась. Сквозь обычную ее грубость просвечивало словно что-то иное, жалкое, пере-битое, не красила ее и новая мужская стрижка. Заметила я, что Зина снаряжена по-фронтовому, в ватных брюках. Поев, она вытащила пачку «Красной звезды», трофейную зажигалку-щелкушку, закурила и протянула пачку мне.
– Не курю я..
– Чо, правда, что ли?
– Не курю, спасибо.
– Ну, ты да-ешь, мура.. На передовую едет и не курит.
– И не пробовала. Никогда не пробовала. Не хочу.
– Хм? За-бавно.. – сказала она, затягиваясь до ям на впалых, пожелтелых щеках, играя бровью. – Забавная ты, Одинцова.. Трудно тебе будет. Булочка пшеничная.. Ишь вот, в юбочке едешь. У тебя там, поди, и панталончики с кружевами? – говоря это, она вдруг бесстыдно дернула меня за юбку и захохотала, закашлялась так, что из папиросы летели искры.
Я смутилась и отодвинулась от нее.
– Ну, милая! Ну, мордашка. Ну, чо ты? – кашляла Лобаева. – Я же шутя, подруга. Ты на меня не обижайся..
Она придвинулась ко мне и, швырнув папиросу за борт, проследив за
полетом, все еще дыша табаком, забормотала:
– Ох, я рада тебе, знаешь. Как родню встретила. А то я, знаешь, измучилась. Я ведь детдомовка.. В детдоме воспитывалась.. И в колонии была... А-а.. Долго.. Объяснять не хочу.. Знаешь – измучилась.. Как собака бездомная.. И все-то всем от меня надо.. Б..! Надо.. Надо! Устала. Темнеет вот. Давай поспим. Дорога еще... Далеко. А мужиков я ненавижу...
Ненавижу.. Прости меня..
Через мгновение она уже спала. Ушанка опять съехала у нее с головы, и лицо Лобаевой, похуделое, желтовато-бледное, в сумерках показалось мне
134
еще более усталым и несчастным. Повязка делала его еще и странно детским, беспризорным. Я придвинулась к ней, обняла, кое-как приспособила шапку. Лобаева спала обморочным фронтовым сном, видно, намучилась с зубами. Было в ней теперь что-то будто изломанное, искалеченное и несчастное, как бы истоптанное, и опять я с острой болью внезапного осознания или прозрения подумала: да должна ли женщина быть на войне, и вообще, что такое войн а? Зачем человечество, столь разумное, тем будто бы и отличающееся от неразумного животного мира, без конца и без края ведет войны.. Наш учитель истории Владимир Борисович Мошков говорил на уроках, что человечество и дня не прожило без войны. Войны уходят в самую глубь истории, в то, что невнятно отделено как бы минусовым знаком и считается вглубь. Были Цезари и Помпеи, Александры и Филиппы, Ксерксы, Митридаты и Дарий, Рамзесы и Хуфу. Были всякие там псы-рыцари, крестоносцы, монголы, гунны. И вот миновала еще тысяча лет, а машина трясется, мчит нас навстречу опять каким-то «псам». И почему одним народам словно судьбой даровано вечное право нападать, другим – вечное право защищаться и восстанавливать зыбкие весы справедливости.. Не так, наверное, я думала тогда, на фронтовой дороге в степи, ночью, под рокот пролетающих над нами самолетов. Это были, к счастью, уже наши, хотя и теперь все в душе напрягалось, уши ждали волновой гул бомбардировщика, мерный вой истребителей. Нет. Сейчас над дорогой пролетали У-2 – «ночные бомбардировщики». Я их хорошо знала, дву-крылые, допотопного вида самолетики, равномерно стрекочущие, знала, что немцы зовут их презрительно «рус-фанер», не знала только, что на этих самолетах могли быть летчиками девчонки вроде меня.
Много я передумала в эту полубессонную ночь по дороге на передовую. Теперь я еще приблизилась к войне, но передовая не пугала меня. Мне думалось, после пережитых бомбежек, сгоревшего эшелона вряд ли может быть что-то более страшное. И под утро я тоже уснула.
135
XIII
Я на передовой. Так называется вправо и влево убегающая полоса траншей, окопов, ям, землянок, ходов сообщения. Земля и грязь, трава, засыпанная глиной, исполосованная, исковерканная, задымленная земля, в которой прячется жизнь и смерть. Жизнь – это все, что может укрыться тут, окопаться, зарыться, спрятаться под защиту брустверов и накатов, лечь на дно в жидкую, измешенную сапогами грязь, незаметно проскочить, вечно пригибаясь в полусогнуто-настороженном движении, с ознобом в спине. Смерть – это то, что в любой момент, а чаще неожиданно может заполоскать бледным, блекучим грохочущим огоньком из таких же бугров, прилететь с живым или потусторонним визгом и калечить той же землей, камнями, осколками, может и прочирикать птичкой-невидимкой «фить-вить»
– слава богу, мимо.. Жизнь – это травка, которая всходит зеленым плотным засевом по израненным смертью буграм и на братских могилах под первым дождем, под апрельским хмелевым солнцем. Жизнь – жаворонок, невесть откуда он взялся, набирает высоту с довольным говорливым пением и с мяуканьем спускается то к нам, то к немцам, на ничейной полосе и на минном поле, безбоязно и бестрепетно. Жизнь – долгоногие зеленого и черноватого цвета жуки, хлопочущие взад и вперед по своим, неведомым людям делам. Жизнь – солнце, такое прекрасное, мерзло-розовое, в росе и в тумане по утрам, свежее, птичье, ничье. Воздух без гари, мерцающие ночами звезды – здесь, в степи, в оврагах и балках, они кажутся крупнее и ярче, живее и ближе. Жизнь – голоса солдат из землянок, даже треньканье на грошовой балалайке:
Ты калина, ты калина, Ты калина-ягода. Ты почто, моя калина, Не целуешь никогда..
136
Смерть – изломанные, обсеченные, выдернутые деревья, чей-то черный, безжизненный сад, стена, где дырой сияет изумленное небо, печи – долгошеие идолы – безмолвный кошмар былого жилья, серые фигурки, иногда мечущиеся и пропадающие – ТАМ, запах дыма, сгорелого хлеба, сгорелой земли, стали, взрывчатки, острый в проникающей химической кислоте, отравно-ненужный, ненужно-предупреждающий, смерть – громы и сполохи то в правой, то в левой стороне, ни дать ни взять – дальняя гроза, глазами ищешь, предугадываешь тучу, опомнившись, начинаешь понимать, никакая там не гроза – это смерть, ее голос чудится даже в скрипении губных гармошек, в отдельных криках чужой речи, особенно по вечерам и когда ветер дует с запада. Дует с запада...
Пока на передовой затишье – «бои местного значения», то просто изнуряющая, с подлым однообразием, рассчитанной злобностью перестрелка. Начинают почти всегда немцы и почти всегда перед тем, как уснуть, когда клонит и валит в сон. Вдруг загрохочут пулеметы – издалека, не видать. Завизжит, ахнет, свистнет настильным осколком одна-другая мина, задудит крупнокалиберный, прошивая ночной закат строчками зелено-желтых пуль. Ракеты повиснут: одна, другая – ядовитый, мертвецкий, капающий свет. Громыхнет артиллерия с закрытых позиций, и снарядный шелест, пригибающий этот шорох, перекроется громким ночным взрывом. Часам к двенадцати обстрел гаснет – немцам пора спать. Концерт окончен часов до восьми, хоть мы иногда их «будим» в отместку и, бывает, «будят» нас. Иногда же на передовой вообще виснет томящая, отвратительная ти-шина. Странно даже писать так о тишине, а бывает именно отвратительная, выворачивающая душу. От такой тишины, как и от грохота, можно сойти с ума, и сходили – бывали случаи. Нервы напряжены, уши устали от ожидания, ломит виски и скулы, где-то внутри, повыше желудка, копится, рождает тошнотную слюну шерстяной ком, кажется, еще немного – и что-то лопнет в тебе, порвется, иных, особенно из пополнения, тошнило пустой,
137
выворачивающей изнанку рвотой. В таких случаях надо отвлекаться, смотреть, как бегают жуки, как устроены травинки, начать обустраивать окоп, пожевать что-нибудь, хоть соломинку, постараться уйти в себя, в воспоминания, если удастся, даже можно читать, иные для этого только таскали замученные грязные книжки. Читаешь, не соображая, читаешь, чтобы отвлечься, забыть тянущую душу тишину. Странно, что даже выстре-лы с той ли, с этой ли стороны давали облегчение – иногда для этого только и стреляли.
Раненых в период затишья почти нет – кого-то ушибло камнем, кого-то оглушило, насыпало в глаза и в уши земли, – зато есть убитые. Стреляют снайперы. Зовут их «кукушками», видимо, еще с финской, никто из снайпе-ров не «кукует», и где они – непонятно, – увидеть снайпера, залегшего где-нибудь на огневой с ночи, а то и чуть не за километр от наших окопов, мудрено. Едва я появилась в роте, как при мне убили командира первого взвода, молоденького парня со странной фамилией Немых. Он был даже в каске, но снайпер попал ему в голову точно ниже края. Кто-то охал, кто-то сокрушался, кто-то просто молчал, и кто-то даже ляпнул утешающе: «Легкая смерть», а смерть была глупая – хуже некуда, не в бою, не в атаке, не под бомбами, хотя и тогда, что об этом... Немых убили, когда он встал помочиться, не мог делать этого на коленях, а был высокого роста... БЫЛ. Я не могла глядеть. Без каски он лежал абсолютно спокойный, даже с подобием легкой улыбки, точно спал и во сне решал какую-то несложную задачку. Вот нашел уже и решил, сложил все в уме. Теперь только записать.. Без каски, даже в шинели, не походил на военного, тем более на командира.. Тонкая шея из жесткого ворота, не по ногам сапоги. Вспомнила, как в нашей школе
– господи, как давно! До войн ы! – играли пьесу, и мальчишки там, на фанерной сцене, одетые в отцовские гимнастерки и шинели, изображали бой. За сценой кто-то старательно грохотал по железному листу. Мальчишки были вот такие точно, как этот Немых, которому теперь уже никто не мог помочь, не могла и я, хотя суетилась, вытащила пакет, бинт, пыталась щупать
138
пульс.
– Батальонный идет! Комбат! – раздались голоса.
В траншее появился комбат, которого я еще и не видела: когда прибыла, его вызывали куда-то в штаб. Мое удивление было велико, я, наверное, стояла, раскрыв рот, вытаращив глаза: командиром нашего батальона оказался тот самый капитан, что командовал прицепленным эшелоном, только теперь он был не в фуражке с синим верхом, а в каске, отчего лицо его стало еще более резким, военным, морщины в краях щек и рта казались черными, проведенными тушью, а глаза будто еще более пожелтели или побелели, и я подумала: какие страшные, бешеные, птичьи они – глаза не знающих пощады больших хищных птиц.
Батальонный нагнулся, тронул лежащего на шинели Немых, будто хотел в чем-то удостовериться, потом снял каску. Без нее лицо у него было хуже, длинное, с запавшими губами, с каким-то хохолком на затылке. И опять эти большие, вперед сочнями уши. Теперь он напомнил мне какого-то милиционера, давно, в отделении, где я получала свой первый временный паспорт-бумажку. Там, за столом у загородки, сидел такой же, длиннолицый и ушастый, и долго расспрашивал, рассматривал то меня, то эту бумажку-паспорт, которую я жаждала получить, а он не торопился мне отдать, все разглядывал и расспрашивал.
– Эх, кого шьют! – сказал комбат, так же по-милиционерски сжимая губы. Потом надел каску, лицо опять сделалось военным. – Как так? Не уберегли!
– Так ведь случай, товарищ капитан! – сказал кто-то, кажется, командир нашей роты старший лейтенант Глухов.
– Случай, случай.. На войне должно быть поменьше таких случаев. Почему был без каски? Сколько вам говорить?..
– Товарищ капитан. Разрешите... Он был в каске. Вот она..
Капитан, поджав губы, смотрел. Или всегда у него такие губы? Вдруг он заметил меня. Во взгляде я уловила что-то припоминающее.
139
– А вы, сержант, откуда?
– Сержант медслужбы Одинцова, направлена в вашу часть санинструктором роты.
– Санинструктором роты, а в таком звании, – буркнул он, приглядываясь. – Где это я вас видел?
– Так точно. Была в одном эшелоне. В санпоезде-госпитале. Эшелон погиб под..
– А-а! – не дал он договорить и поморщился. – Зайдите ко мне на командный, сегодня-завтра. Лучше к вечеру.. Нога у меня.. Там посмотрите..
Сурово зыркнув по лицам, приказал командование взводом передать старшине. Еще раз как бы в задумчивости посмотрел на убитого Немых. Жесткие морщины у краев губ залегли резче. Не понять было: скорбит, гневается, презирает кого-то? Потом он тронул каску и пошел прочь по траншее и ходу сообщения, за ним политрук и ординарец с немецким автоматом на шее.
Мы смотрели им вслед, и я запомнила крепкие яловые сапоги комбата на кривоватых цепких ногах. Чем он был мне неприятен? Не знаю. Почему внушал страх, хотя перед мужчинами его я как-то не испытывала обычно? Вот хотя бы те двое – подполковник с тремя шпалами и важный командир в кожаном меховом снаряжении, человек с седыми квадратными усиками в ар-мейском тылу. Уж наверняка этот капитан тянулся бы перед ними в струнку,
я нисколько не сробела, чувствовала к обоим, когда отвечала, какую-то молодецкую, колющую злость: «Нате вам, смотрины устроили, осчастливить захотели..» Здесь же было все по-иному, здесь я испытывала страх, испуг. Даже по спине, по бедрам, к коленям сбежал дурной, нервный мороз.
– Ты чего, Одинцова? – заметил мое волнение ротный. – Худо тебе? Держись.. Война. – Он понял мое состояние по-своему.
Весь остаток дня, всю ночь и на другое утро думала над приказанием комбата. И к вечеру собралась идти. Утешалась: может, и вправду у него что-нибудь с ногой. Но ведь он не хромал даже? Тогда что? Расспросила, где
140
найти командный пункт, нехотя пошла по ходу сообщения влево, в полосу обороны. Ход был прорыт глубокий, при моем небольшом росте можно было идти почти не пригибаясь, но я даже не думала об этом, занятая мыслью – что такое может быть с ногой у комбата, зачем он меня позвал? Может быть, просто стер или намозолил?
Комбат в землянке пил чай. Ординарец топил подобие печурки из какого-то обрезка трубы, обложенного кирпичами.
– Прибыла по вашему приказанию, – доложила я.
Комбат ответил не сразу, сперва посмотрел на ординарца, и тот немедленно поднялся, отряхнул колени, вышел.
– Заходи, садись, – неуставно предложил комбат, показывая на чурбак возле стола. – Почему вчера не пришла?
– Вы сказали сегодня-завтра. Перевязывала..
– Чай пить будешь?
– Нет. Спасибо, – ответила я, пораженная таким разговором человека, который казался мне воплощением военной субординации. Казалось, он может говорить только приказами, отрывисто и резко.
– Все равно садись, – теперь уже явно приказал он, все разглядывая меня своими светло-желтыми, как бы светившимися, а в полумраке землянки показавшимися мне зелеными глазами. Взгляд был пригибающий. Я опять почувствовала тот озноб в коленях и бедрах.
– Садись, садись, – повторил он.
Я села, инстинктивно поправляя волосы, как делают все женщины, когда на них пристально, изучающе смотрят.
– Звать как? Клавдия? – спросил он.
– Нет. Лидия.
– А-а.. Ну, это еще лучше. Хорошее имя. Красивое..
– Я.. Я хотела посмотреть... Что у вас с ногой, – спросила я, подозревая, что говорю глупости.
– С ногой? – удивился он.
141
– Вы сказали...
– А-а... Точно... Нога ничего, уже хорошо. Уже все. Зажило.
Молчала, соображая, как бы мне теперь поприличнее выбраться отсюда.
А он усмехался и смотрел на меня, как смотрят владельцы на новую вещь, допустим, гитару, прикидывая при этом, в порядке ли струны, хорошо ли будет играть. Потом он, отклоняясь и все не сводя с меня своего взгляда и улыбки, полез в карман, достал портсигар, раскрыл, вынул толстую папиросу, протянул портсигар мне.
– Что вы? Я не.. некурящая.
Дернув бровью, он как-то коротко хохотнул, защелкнул портсигар и положил на стол. Портсигар был серебряный, видно, тяжелый, с гравированной надписью на крышке. Я подумала, что такой портсигар тяжело, неудобно носить в кармане. Закурив, комбат встал и пошел к выходу.
Я тоже поднялась, намереваясь идти, но комбат досадливо махнул мне, как бы приказывая сесть и оставаться на месте, высунулся из землянки и что-то не то сказал, не то, так показалось мне, пригрозил ординарцу.
И уже совсем улыбаясь, он вернулся к столу, сапогом подвинул ящик, на котором только что сидел, ко мне, сел и вдруг, ни слова не говоря, обхватил меня будто железными крепкими руками, притиснул, стал больно, жестко целовать в щеки, в лицо, в шею, пытался поймать мои губы, а я перепуганно вертелась, хрипела, отстранялась и вырывалась, как пойманная кошка. Почему-то я боялась кричать, звать на помощь, руки капитана тискали меня, лезли под подол, задирали юбку. Какое-то время продолжалась эта борьба, пока что-то вдруг не придало мне силы, я вскочила, буквально поднимая комбата на себя, и, выдернув одну руку, изо всех сил ударила его по лицу. Когда он опешенно отпустил меня, толкнула в грудь, схватила сумку и выскочила из землянки. Солдат-ординарец что-то кричал мне вслед, а я бежала по траншее, запнулась, упала, скатилась в ход сообщения и только тут, прислушиваясь и озираясь, поняла, что за мной никто не гонится.
142
Сердце стучало. Щеки горели. На руках чувствовала охватные тиски его пальцев и как будто прилипшее ко мне смрадно-табачное дыхание. Какой гад.. Хам.. Вот еще?! Еще командир..
Тогда я заплакала, причитая что-то, как маленькая девочка, и пошла по ходу сообщения, не пригибаясь, волоча свою сумку, в роту, к своим..
Меня встретил, будто ждал, сам лейтенант Глухов. Беспокойно оглядев, спросил:
– Где пилотка?
Пилотку я оставила в землянке комбата, удивляюсь до сих пор, как сумела не забыть свою санитарную сумку.
– Потеряла! – отрезала, отворачиваясь, ненавидя всех…
– Да-а, – понимающе протянул он. Глухов был в роте новый, из запасников, и уже после госпиталя. Старый для своего звания, казавшийся мне старше моего отца, и к нему я не чувствовала ни страха, ни недоверия. Подняла глаза. Шмыгнула.
– Лапал? – понимающе опять спросил он.
Что мне было говорить... Молчала, потом спросила дурным голосом:
– Где же мне теперь.. ее..
– Что? Кого – ее?
– Ну, пилотку..
– Аа-а, – протянул он. – Пилотку я тебе сейчас.. И сумку бы нашел. Пойдем.. – взял у меня сумку, пошел вперед. – Цела хоть? – спросил через некоторое время, полуоборачиваясь.
Кивнула. И он, сразу повеселев, повел меня в свою землянку, вытащил откуда-то новую пилотку, велел умыться, прибраться. Только сейчас я поняла: волосы растрепаны, лицо поцарапано, руки тоже..
XIV
Как-то в начале июня к нам в роту прислали пятерых разведчиков под
143
командой огромного мордастого парня-старшины. Этого старшину солдаты знали, раньше служил здесь, был взят в отдельную разведроту. Его посылали на самые трудные задания, когда надо было брать «языков», «контрольных пленных» перед нашим или немецким наступлением. Видимо, задание группа выполняла, потому что у всех разведчиков были медали «За отвагу». У старшины на гимнастерке даже две такие медали и орден Красной Звезды. Звали старшину Иван Бокотько. Я глядела на него во все глаза, пока он устраивался со своими разведчиками обедать в нашей землянке, все что-то рассказывал и хохотал звучным, взахлеб, беззаботным хохотом. Говорил он страшно громко, «хакал», мешая украинскую речь с русской, к месту и не к месту применяя и вплетая малознакомое, хотя и всегда почти понятное украинское слово. Лицо у Бокотько было еще занятнее, он не походил ни на русского, ни на украинца, а уж если сравнивать, скорее на татарина, на узбека. Круглое розовое лицо, узкие глаза, красные скуластые щеки, черные, сросшиеся над переносьем брови, а губы какие-то женские, девичьи. Раз увидишь – никогда не забудешь.
– От, яка у вас харна диучина! —тотчас по-своему истолковал и понял он мой неотрывный взгляд. – Яка харна! Що же ты тут робышь? Така невелычка-птычка?
– А вот погоди, Бокотько, может, ей еще тебя тащить придется, бугая..
– смеялись солдаты.
– Хо-хо! – хохотал он. – Ну ж, насмешили.. Хо-хо! Така пуховичка! Це ж молекула, и усе..
– Ладно, Бокотько! Давайте к делу! – прервали его Глухов и замполит батальона, пришедший с разведчиками, незнакомый мне старший лейтенант. Из разговора я поняла, что немцы, должно быть, готовятся здесь к наступлению, так же, как, впрочем, усиленно готовились и мы, хотя нам говорили, к обороне, и похоже было – верно, к обороне. Мы зачем-то оставили передовые позиции, там теперь было минное поле, саперы тянули колючку, закладывали фугасы, на новой позиции мы без конца рыли
144
траншеи, рвы, целые дни уходили на это, копали командно и ночами. Сперва все недоумевали: зачем? Почему? Неужели немцы опять так сильны, после Сталинграда? Опять попрут? Иначе к чему такая оборона? Из тылов было слышно: строят, копают и там, чуть не за тридцать, за пятьдесят километров от нас в глубине. Ничего не было понятно, кроме одного – готовимся обороняться, стоять накрепко, насмерть. От лопаты и у меня первое время болели руки, живот. Могла и не копать, но работала со всеми – так было легче жить и ждать. И вот теперь этого Бокотько посылали за «языком».
Из разговора я поняла, что разведчикам надо пройти через заминированные полосы точно по саперному ориентиру и оставленному проходу. Командованию было известно, что недалеко от передовой у немцев есть какие-то склады, постоянное движение по дорогам и в траншеях. Где-нибудь там и можно было караулить и взять этого «контрольного». Я глядела на веселого старшину и понять не могла, как этот огромный парень ходил на такие опасные дела, притаскивал, как волк, полузадушенных немцев, и все это через полосы их и нашей обороны. Не укладывалось в голове – слишком мягкий, невоенный, несерьезный вид у него был. Даже медали «За отвагу» не придавали ему никакой воинственности.
Поздно вечером группа Бокотько сидела в траншее. Сам он был уже без медалей, в серой защитной куртке поверх гимнастерки. У всех ножи, автоматы, у Бокотько пистолет ТТ, на какой-то лямке, надетой через голову. Ждали темноты, а темнело, как назло, медленно, слабо, ночь в июне – не ночь, долго и ясно светит закат, заря. Солдаты то и дело выглядывали за бруствер, ругались, курили, неподалеку сидел лейтенант Глухов. Бокотько, заметив меня, хохотнул: «Ты, сестричка, не з нами? Тильки дорогу не перебежь – не буде удачи».
Наконец все-таки стемнело, засинело в поле, заря угасла, и Глухов, выглянув за бруствер, долго приглядывался, прислушивался, потом сказал: «Пора.. Пошли».
Первые разведчики уже перелезли бруствер, когда Глухов, приобняв
145
Бокотько, сказал: «Деревню обойдите дальше. Вдруг остались собаки? Залают, выдадут.. Слышишь?» Бокотько не согласился: «Яки таки собаки, лейтенант? Деревня – никого нема. А миж руин лёгше..»
Я видела, как ротный хмурился, качал головой, потом снял даже пилотку, прислушивался.
Страшно, когда в неизвестность, в темноту уползают люди и ты, хочешь не хочешь, остро, до головной боли, до озноба в ногах должна ждать. Временами от этого ожидания начинает трясти. Слух перенапрягается. Все нервы – тоже. Сидишь, вздрагиваешь от каждого шо-роха. Думаешь: вот сейчас, вот сейчас... Резнет гулкая ночная очередь, засипит набирающая высь ракета, одна, другая, третья, повиснут, изливая свой клонящий, прижимающий свет, – и начнется..
– Иди спи! – сказал ротный. – Ты им ничем не поможешь. Если еще
полчаса будет тихо – значит, прошли. Пронесло. Только бы на своей не подорвались. Саперы саперами, а мины минами. Да и темно..
Опять осторожно поднявшись, глядел за бруствер. Ночь была тихая. Я уже подходила к землянке, когда на той стороне и, показалось, далеко, загремела перестрелка, полетели ракеты.
«Напоролись!» – так и оборвалось что-то в душе. Побежала обратно. За полосой, как раз в стороне сожженной деревни, шел бой. Слышно было, как с тупым, «тукающим» звуком рвутся мины.
– Накрыли! Будь прокляты.. Накрыли! – ругался лейтенант. Постепенно стрельба стихла. За нашими спинами начало сереть,
розоветь. Начинался новый день. Творился тихий, сонный рассвет, и с такими же тихими, сонными, серыми лицами сидели мы все. Чего-то ждали. Никто из пяти бойцов и сам Бокотько не возвращались.
Неужели все убиты?
Весь этот тягостно долгий, глумливо ясный и жаркий день мы гадали, где разведчики. Одни говорили, может, прошли, прорвались к немцам в тыл, где-нибудь лежат, затаились. Но большинство не соглашалось: слишком
146
скоро немцы обнаружили разведку, по времени солдаты едва только миновали бывшую нашу передовую, теперь заминированную, да еще ничейная, да столько же до деревни.. Скорее всего, убиты или ранены – лежат на ничейной.
День запомнился бесконечным солнцем. Казалось, оно никогда не зайдет. А жара дурила. К вечеру все становилось еще безотраднее, и я уже всерьез суеверно обдумывала, может, накликала им беду. Ведь Бокотько смеялся: «Не провожай!» Дурная, глупая мысль точила меня: ведь вот в прошлые разы они ходили на такие задания и – возвращались.
Лейтенант Глухов будто понимал мое состояние, когда опять мы сидели в той же траншее, откуда ушли разведчики. Чего-то ждали, беспокойно, безнадежно. Темнело, и в степи кричали перепела, а в ближней балке пробовал голос коростель: «Крэк-крэк.. Крэк-крэк..» Он и вчера там кричал.








