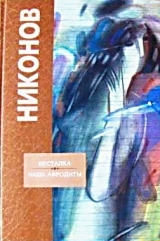
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
Как давно это?! Пять лет назад!
И вот он – тот же сад. Тот же забор. Макушки серой и чуть фиолетовой распускающейся сирени. Грустные чахло-голые дубы с корявыми сучьями и эти, словно японского вида, лиственницы, уже нежно зеленеющие под майским дождем. Сад и я, словно бы одна, оставшаяся от
377
того довоенног о мира? Одна? Как знать... Может быть, где-то здесь, в городе, есть еще Валя. А может быть, и ее нет, уехала со своим неведомым мужем-офицером. Нет моей матери, нет отца, нет, наверное, ни того Миши, Вовы-электрика с гладиаторским носом, может быть, даже нет парня в кепочке с матерчатой пуговкой, а я есть, иду мимо сада, в школу, где живу в пахнущем плесенным тленом подвале и работаю техничкой-поломойкой.
Если б кто-то пять лет назад предсказал мне такое вот будущее, я не поверила бы ни одному слову, сочла бы того человека злобным, дураком, негодяем, а ведь он – некто – сказал бы мне только чистую правду. Правду жизни. И правду войны...
От Зины Лобаевой ушла тайком. Больно и сейчас, когда вспоминаю об этом. Поступок или проступок? Судите. Больнее, чем своей совестью, не осудишь... Прожив у Зины почти месяц, поняла – либо сломаюсь, либо должна бежать скорее, немедленно. Не проходило и вечера, чтобы Зина не являлась домой с подругами, чаще все с теми же двумя, Анютой и Лелей, реже с другими, и я чувствовала по взглядам, словечкам, намекам – мешаю их вольной жизни. Я – помеха, которая никак не вписывалась в компанию, не давала разгуляться, портила настроение, веселье и удовольствие. Помеха за столом, потому что пить не могла, помеха, когда они начинали обниматься, скабрезничать, нести такое, что хоть беги.
Зине оставила записку. С благодарностью извинялась перед ней, обещала приходить, как только устроюсь. Но не шли, никак не шли мои ноги на ту улицу Стрелочников, где обрела свое первое пристанище, к женщине, которая, как уже сказала, являла странное сочетание добра и зла, совести и порока – всего поровну, все в одной.
Вот и школа. Крыльцо с завитушками. Рядом ворота во двор. Моя комната в каменном подвале с одним окном в приямке из земли в божий мир. В небо... В подвал ведет скользкая лестница. Девять гранитных ступеней. Скрипит толстая кривая дверь. Ее даже не всегда запираю. Что у меня взять?
378
Когда дверь растворена, меньше пахнет этой мерзкой подвальной сыростью, мокричным духом и плесенью, которую уж скоблю-скоблю, мою-мою, забеливаю, а она широкими палевыми лишаями все вылезает по стене. Подвал, сколько могла, привела в порядок, добела оттерла пол, выбелила, потолок, стены, несуразно огромную печь. У меня есть шаткий колченогий стол без скатерти, есть табуретка и два школьных стула, к которым привязаны палки, – получилась детская кроватка. Есть железная койка, пока без матраца, его заменили мне подшивки старых газет. Ничего. На чем спала годы на фронте? Была привычна к твердому. Но есть две подушки и простыня – отдала тетка, обрадованная, что я устроилась. Это были наши подушки, одна, похоже, моя, родная, и мое одеяло – тетка скрепя сердце не утаила, вынесла, отдала после некоторого раздумья, – была счастлива, что больше я не упомянула ни о чем, не попросила ничего. Из первых же получек
отложила немного денег на штатскую одежду. Раскопала во дворе школы огород. Посадила картошку, морковь, горох, бобы, репу. Ощущала себя в пустынном школьном дворе как Робинзон на острове. Пришло лето, и все его
потратила на то, чтобы обзавестись минимальным скарбом. Ведь надо было и кружки, и ложки, и тарелки, и сковородку, кастрюли. Понемногу появилось все, и здесь сгодилась фронтовая моя находчивость. Летом работы в школе мало, и я, если говорить честно, была благодарна судьбе: устроилась, крыша над головой, есть необходимое, сын при мне. Вот еще и огород, который стерегла пуще глаза; ждала, как поспеют овощи. Вскакивала ночами от любого шороха во дворе. Хваталась в сенях за лопату. Выходила. И вроде не трусила. Одна только решимость, злость... Ну, попадись кто! Сунься, ворюга! Теперь не девочка, что, плача когда-то, причитая, собирала вырванную ботву, тщетно пыталась ее посадить, спасти. Не девочка, баба-фронтовичка, в окопном – хуже некуда – хэбэ. Храбрилась. А в общем, какая была, такая и осталась, – не изменишь душу, не сменишь натуру... Там, на передовой, в траншеях и по землянкам, все было лишь через силу, сносилось как долг, через «надо!», которое незримо занесенным мечом будто стояло за тобой, над
379
тобой. Надо! Здесь сила его уже слабела, и душа, освобождаясь от приказа, от голой, от страшной необходимости, возвращалась к себе, к исконной сути, и тонко ныла, вздрагивала от никому не видимых ран. Душевные раны будто не зарастали.
Трудные годы: сорок пятый, сорок шестой. Нет войны. Но кто живет справно? Кто хорошо? Есть и такие – те прячутся, не лезут напоказ. В сорок шестом все-таки что-то начало налаживаться. Снижались коммерческие цены. Появился бескарточны й хлеб. Подобрел рынок. За этим бескарточным надо было занимать с вечера, трястись у булочной ночь. Слюнили карандаш. Писали на руках номера, разбивались на десятки. Булочная на Первомайской к открытию все равно облеплена – рой гудящих взбудораженных пчел. Лезут бесстыжие, костылем пробиваются инвалиды. Никакого к ним почтения – не нынешнее время. Крик. Вой. На меня с ребенком на руках – брала Петю, чтоб купить «на двоих», – смотрят как на врага. «Ишь, и сюда притащилась со своим ребенчишком! Ни платья, ни пальто, а лялька готова!»
Лето сорок шестого. Как запомнилось? Чем? Вот хотя бы.. Вячеслав Сергеевич, директор, и месткомовка, литераторша Катюшина (представьте круглощекую куколку, маленькую, фигуристую, будто танцовщица или конькобежка, она, видимо зная такое сходство, платочки носит, и платьице короткое, не для учительниц, сапожки на выщелк, видели бы, как осуждают ее за это взглядами завуч и наперсница-библиотекарша!), – вот эти двое неожиданно спустились в мое подземелье. У куколки большой сверток-пакет. Директор покашливает, шмыгает, оглядывает беленый потолок квадратными очками.
– Здравствуй... Одинцова. Да. Принимай гостей. Кха.. Кха. Мы тут. Да. В общем... Кха.. Кха...
– Мы, Лида, к тебе от месткома, – алеет Катюшина. Круглые правдивые глазки! Женщина из не умеющих врать. – Вот, Лида. Вам подарок. За отличную работу! Местком решил. Мы решили..
380
– А это, Одинцова, тебе премия! Месячная зарплата. Да! – шрамы-рубцы на лице директора красно-синие. Очки стесняются глядеть мне в глаза.
– Какая премия? Году не работаю. Что вы?
– А вот такая.. Хотели к празднику, к Маю хотели... Да.. Но-о... И сейчас у нас.. тоже праздник.. Да. Начало года. Да.. Скоро.. А видим – трудишься хорошо.. Видим..
– Да-да! – Катюшина кивает. – До тебя так плохо работала техничка, замучились.. И вообще.. – куколка смотрит на директора преданно-влюбленно (она еще из женщин, которые всегда в кого-то влюблены, без этого не живут – поняла много лет спустя, копаясь в своих воспоминаниях и людях). – Ну, и вообще... Поздравляем. Лида.. По-здра-вляем..
– Нуждаешься... – Вячеслав Сергеевич опять глядит в потолок. – Ценим.. Местком решил..
Благодарила. Не зная, как быть, куда посадить гостей. Одна табуретка свободна. Сын в кроватке из стульев с привязанными палками.
– Разверни! Разверни!! – цветет Катюшина, надо ей еще, глупой, помучить меня.
Шелестит бумага. Красное гладкое ситцевое платье, детский фланелевый костюмчик. Ботиночки-пинетки. Чулки.. Шелковый цветастый платок.. Конверт с деньгами..
Стою как пришибленная. Язык что-то сам собой бормочет. Это я благодарю за подарок.. Подарок.. Мне.. Подарок.. По-да...
Директор и Катюшина уходят. Хорошо, что у меня одна табуретка, а они все понимают. Но понимала и я, когда тряслась в рыданиях над этой «премией месткома». Знала – какая там премия! Видят – голая я почти.. Сложились, собрали деньги, может, выхлопотали промтоварную карточку. Сгоряча хотела было бежать наверх, унести все директору, отдать, да измо-чила дареное платье слезами, потихоньку одумалась. Они ведь не хотели, конечно, обидеть. Видели мою нужду. Как не увидишь, если на тебе латаная,
381
исстиранная гимнастерка, военная юбчонка, даже теперь не зеленая, а цвета пропотелой соли, какая выступает на солдатских спинах. Штопаные чулки – дыра на дыре. Кирзовики, которые боюсь носить: вдруг развалятся на ходу? Думаю, какой это гад в том госпитале, из которого попала в роддом, меня так обобрал? Думаю, а вижу благородную величавость Виктора Павловича. Не он, конечно. Не он... Но сколько их было в войну! Кладовщиков, начпродов, начснабов – мышей и крыс у краюшки. Госпиталь для них – золотое дно. Там люди не ели, там умирали, там – семи пядей будь – не учтешь ничего. Милые, дорогие люди! Поймите! Иногда подарок – мука! Горько участие для гордого! А я, видно, родилась слишком гордой. Премия от месткома! Как буду носить? Не знаю. Заест стыд.. Одели добрые люди! В который уж раз! Одни одели, другие раздели. Никто, конечно, мне ничего не скажет, но уже посмотрят-то обязательно. Завуч и библиотекарша в особенности...
Сколько, интересно, они пожертвовали, с каким лицом, выражением? А не надену. Нет, не надену пока платье. Пусть лежит. Прохожу в чем есть. Ну, не протрется как-нибудь юбка, а гимнастерка еще терпит. Выносливая на ней материя, бумажная диагональ... Деньги? Пригодятся, конечно.. Я их никак не могу скопить, даже самую малость. На них Петю приодену... Петю – с тем и утерла слезы. Ободрилась. Глядела на сына.
Он сидит, держит пластмассовую красную погремушку – мой первый подарок. Смотрит, как плачу. Ямочки недоуменных бровей. Рот тоже кривится. Плакать? Смеяться?! Сын кажется мне на диво смышленым, недетски терпеливым. Сколько уже он ждал меня один в кроватке? Не плакал. Или, наплакавшись, спал. Не будил ночами. Когда кормила, молча сосал грудь, взглядывая порой удивленно, будто спрашивал: «Не больно тебе? Ничего?» Я пугалась слишком осмысленного взгляда. А особенно когда он – бывало так, – оторвавшись от соска, вдруг упирался ручонками в грудь, отстранялся и сосредоточенно замирал, точно вспоминал что-то свое, давнее, самостоятельное. Где он тогда был? Ловила себя, что он уже живет собственной, неясно-недоступной мне жизнью, – полугодовой
382
человечек с белыми волосиками, которые чуть кудрявятся, завиваются ниже затылка, и с моими – это уж абсолютно, – моими с голубизной серыми глазами. Я еще опасалась, что глаза у сына изменятся, – говорят, так бывает у маленьких, – и вдруг они станут теми, ястребино-кошачьими, как у... Не могу произнести, не могу назвать это слово. Оно здесь не имело того привычного и верного, простого и доброго смысла: отец. Отца. Петя, маленький человечек! Чем дальше – больше любила, привязывалась к нему. Даже думала часто: «Если бы не он, чем была бы заполнена моя жизнь? Какой имела смысл?» Он спасал меня от этой бессмысленности и от одиночества, нет, я вовсе не была одинокой, матерью-одиночкой, какое придумали-изобрели холодное, пустое, дурное сочетание! Я была не одиночкой! Просто матерью, кормящей своего сына! Сын спасал меня жуткими, глухими ночами в выморочно пустой летней школе. Особенно когда, просыпаясь вдруг за полночь, в бесовский час, в черное время, я слышала – или чудилось? – кто-то ходит наверху, точно редкими, ступнистыми, лошадиными шагами. Ныли, скрипели половицы. А дурная мысль морозила, бросала в жар: может, там прежний владелец дома, расстрелянный дворянин или купец, бежавший с Колчаком, погибший в тифу где-то в Сибири, и вдруг вернулся в некой уже нереальной сущности и бродит по классам, по бывшим своим комнатам, по зальцу, где стоит его рояль «Беккер» с табуреткой вместо ножки, и над ним растопыренный, тоже жуткий и многознающий старый-престарый фикус, – мысль обдавала меня веянием безумного страха. «Туп... туп... туп...» – ясно слышалось. Что-то будто сдвигалось там. Падало... Брякало. Это хозяин трогал запертые на висячие замки книжные шкафы. Эти задумчивые шкафы, полные мыслей и тайн прошедшего времени!.. Иногда мне слышится звук струн. Может быть, старый рояль отзывался на чьи-то бесплотные пальцы и ему отвечал глухой бой давно остановившихся часов: «О-ох.. О-ох.. О-хх». Бас времени. Голоса вещей, вспомнивших своего владельца. Я и сейчас думаю – вещи помнят хозяев. Вскакивала. Даже шептала, как давным-давно учила бабушка: «Во
383
имя Отца и Сына и Святого Духа...» Трогала запертую дверь. Вглядывалась в сумрак подвального окна, в аспидную темь без единой звезды. Тишина. Только гулко колотит сердце. Подходила к кроватке из стульев, брала к себе спящего сына, ложилась, почти дрожа, и тепло маленького, горячего, сонно дышащего тельца спасало, отогревало. Отступало наваждение. Серел рассвет. Была просто ночь, глухой двор школы и тишина в гулком стуке моего пере-пуганного сердца. Я не понимала, просто не понимала, что отвыкла от тишины мирной, обыкновенной, и я боялась ее, как боялась и ночного звука блуждавшего где-то над городом пассажирского «Дугласа», даже любого самолета. От звука моторов мгновенно просыпалась, оторопело вспоминая, где моя сумка санитарная, сапоги, каска!.. Где?! Сумку свою, с гранатой, я видела и во сне..
Лето сорок шестого. Ты стояло холодное, скупое. Мало солнца. И дожди, дожди. Облачные, прохладные дни, придавленные тучами вечера. Хмурились и вздрагивала Земля. И припоминающе хмурились небеса. Земля еще не могла забыть, еще переживала войну.
В один из таких пасмурных дней в конце лета я собралась на рынок. Выглянула из своего подвала – свежо, но нет дождя, дует ветер, несет по небу темно-серое, рябит лужи, обещает перемену погоды. Решилась: оставлю сына одного, уложу спать, сама же бегом – куда я с ним? Он уж привык вроде к моим постоянным кратковременным исчезновениям и появлениям, привык быть один в своей кроватке из двух стульев, обтянутых сеткой. Теперь он уже вставал и, держась за сетку, тряс, качал ее, глядя на меня осмысленными смеющимися глазами. Это был словно крохотный мужчина, мужичок с ноготок, вот-вот он должен был начать говорить, все гулил, а пока лишь тянул свое долгое радостное: «Ма-а-а..» Утешала себя, закрывая замок, а душа холодела, душа обливалась кровью: «Что делаю?! На кого оставляю». Да как быть? Как быть? Скажите? Вот бегу к трамваю, задыхаюсь. Скорее надо! Еду в толчее. Базар близко. Три остановки. И это немного утешает. На
384
главной площади народ схлынул. Теперь здесь опять торгует универсальный магазин – довоенный пассаж. Название скорее даже дореволюционное или нэповское? Помню, ходила в пассаж с матерью, маленькая, уставала от его этажей. Он казался мне неоглядным. Запутанным, как лабиринт. Магазин теперь дорогой, бескарточный, «коммерческий». На днях я была в нем, вот так же сбежала-вырвалась посмотреть в тайной надежде купить платье, пальто. Где там! Не с моими сбережениями соваться сюда. Выяснила – ничто они по сравнению со здешними ценами. Магазин набит товарами, ломятся прилавки, сияют витрины. А в них! Господи! Чего только нет! Чего нет?! Роскошные ботинки лоснятся добротной кожей, туфли на высоком! Будто выточены, будто просятся с подставок прямо на ноги. Такие бы туфли с шелковым платьем, шелковыми чулками! Колет-дерет по спине под застиранной гимнастеркой, озноб в натертой ваксой закоженелой кирзе. Блещут витрины, манят покупателей, у кого есть густые деньги. На них и рассчитана вся эта роскошь. А деньги есть, правда, не у многих – большинство здесь так, зеваки, глазеют на столько лет не виданное. Вот шелка, крепдешины, жоржеты, кусками, штуками, в изобилии. Манят глаза, тянут к себе руки. Хоть потрогать, хоть погладить, ощутить. Кажется, сладкое, нетерпеливое сияние идет от них. Женское счастье! Вот оно: всех цветов, всех оттенков! В нижнем этаже, рядом с ювелирным, целый отдел картин в купечески золотых и в строгих черных багетах. Живопись маслом настоящих западных мастеров. Все картины – подлинники. Лунные ночи. Гавани с кораблями. Мельницы. Парусники на океанских волнах. Глядя на них, вспоминаю жалкую олеографию, словно бы на каком-то лощеном линолеуме, – висела когда-то над материной кроватью. Там тоже была лунная ночь. Точнее, мельница. Река в желтой ряби. Но какое может быть сравнение! Здесь все настоящее, а цены... Страшно назвать, произнести, не то что представить такую гору денег! Щупаю свои рубли в левом кармане гимнастерки. Скорей отсюда, скорей! Куда залетела! Вместо выхода попадаю в ювелирный отдел. И здесь толчея. Особые люди толпятся у витрин, вокруг
385
золота. Золото. И жадные, крепкие лица. Носы словно нюхают жирный золотой запах. Наслаждаются им. На лицах горячий свет. Золото. Оно манит, не отпускает, притягивает этих людей. Его много. Кольца, браслеты, кулоны и часы, чуть ли не настоящие швейцарские! Золото... И в довоенной жизни нашей семьи его не было. Только два обручальных кольца, которые ни мать, ни отец не носили. Кольца лежали в шкафу, связанные шелковой тесьмой, завернутые в платок. Редко мать доставала их, рассматривала со странной, полугрустной улыбкой невесты, кольца, стукаясь друг о друга, нежно, тонко звенели, и даже я, маленькая, знала: о кольцах надо помалкивать, потому что мать и отец венчались в церкви, – тогда за такое могли разбирать на собраниях! Кольца мать отдала в сорок втором за хлеб, кажется, всего за две булки.. А еще были у нее пл атиновые серьги с голубыми ясными камнями. Серьги так подходили к материным глазам, что когда, редко, собираясь куда-нибудь в гости или на праздник, она надевала их, лицо ее как-то высоко-молодо преображалось, цвело словно бы неземной, всепобеждающей красотой. Как я любила мать в этом уборе! Тогда она и была больше всего похожа на греческую богиню. Она отдала серьги в Фонд обороны, когда собирали деньги на танковую колонну. Других ценностей у нас не было. Почему я вспомнила все это, когда, влекомая ли толпой или все-таки женским любопытством, оказалась в ювелирном, будто в насмешку, – таким, как я, здесь было ровным счетом нечего делать. Все это отражалось на лицах продавщиц и тех, кто тут был: «Затесалась, дурочка», – иначе не оценивали. Уже с порога собралась повернуть, когда услышала столь знакомое воркующее контральто... Слишком знакомое:
– Витя-а! Смотри-и.. Ка-кая пре-лесть! Вздрогнула, останавливаясь, вгляделась.
Монументом у прилавка мужчина в дорогом костюме. Щеки к подбородку, лицо вельможи, выпуклый властный взгляд глядящего сверху вниз, выражение могущего все купить. Виктор Павлович?! Он самый. А с ним нарядная, в широком роскошном плаще коричневого габардина, с
386
шифоновым платком на шее Валя Вишнякова. Валя. Одноклассница, однопартийна... Каким инстинктом сумела я избежать встречи? Спасло ли мое армейское хэбэ? В сторону таких эти люди не глядели, и слава богу! Скользнула за дородную фигуру начпрода, оказалась полупритиснутой к витрине. Хочешь не хочешь – смотри. В черном бархате, средь мерцающих колец, диадем и брошек с серебристыми камнями сам собой светился золотой дамский портсигар, изящная плоская коробочка на десяток дорогих длинных папирос, коробочка, слегка суживающаяся к концам, с нежно-рифленой, благородно сияющей, матово полированной крышкой. Я запомнила даже лазоревую овальную застежку в виде маленькой броши, глядевшую на покупателей сбоку и свысока... «А правда – пре-лесть?! – слышался томный Валин голос, пахло ее пряными дорогими духами. – Ви-тя-а? Хочу-у.. Хо-чу такой! Ви-ить? Хо-чу-у..» – наверное, она даже притопнула каблучком. Это я уж представила. Знала все Валины жесты, повадки.
Как можно незаметнее я вывернулась из-за спины начпрода, пробралась к выходу, но уйти не смогла. Уйти? Не повидав Валю? Не взглянув на нее, пусть издали, прячась в толпе? Пусть... Так я могла хотя бы ее рассмотреть, не рискуя быть обнаруженной.
Вот они вышли наконец из ювелирного, двинулись к витринам с картинами. Туда явно тянуло Виктора Павловича, а Валя шла нехотя. Теперь я хорошо ее видела, видела их обоих. Виктор Павлович раздобрел, обрюзг, глаза, и прежде бесцветно-серые, теперь окончательно выцвели, стали водянистыми, но глядели с тем же всегдашним сановным превосходством, какое не покидало его никогда. В нем чувствовалось нечто сходное с моим дядей. Были люди одного мира, одной сути. Валя в легком габардине, черных прозрачно-светлых чулках, великолепных туфлях из этих витрин, круто завитая, была хороша, как всегда. Теперь ее красота была красотой не ведающей сомнений в успехе молодой женщины. На нее таращились, оборачивались, а она, устало-привычно отрицая эти взгляды, идя сквозь них, держа Виктора Павловича под руку уверенно и собственно, лишь кривила
387
ярко-спелые губы чуть самодовольно и еще так, как кривят их мало что понимающие в искусстве, заменяющие, однако, это малое понимание полурассеянной ли, полубрезгливой ли невнимательностью. Виктор Павлович, наверное, все-таки не стал покупать тот портсигар с пятизначной ценой. И зачем он ей? Разве Валя курит? Так, балуется и – хочет хвастать. Она могла и начать курить только затем, чтобы, вынув шикарную коробочную папиросу или сигарету столь же шикарным жестом, взять ее в свои полные, женского зноя, всегда богато накрашенные губы и, закурив от поднесенной спички, театрально опустить ресницы, изнутри любуясь собой. Но, видимо, они вышли не без покупки – уж это точно! – иначе Валя не держалась бы так приобщение к величаво хромающему, качающему высокий корпус мужчине. На пиджаке его я заметила цветную полосочку наград. Не разглядела какие, кроме оранжево-черной, известной всем ленточки «За Победу...»
Эту единственную медаль пообещали мне в военкомате, куда я ходила встать на учет и так торопилась, что даже не заметила – в новом военном билете моем нет почти никаких записей, сведений о ранениях, кроме последнего. Все бумаги остались по госпиталям, в полку, в спецотделах, я же думала лишь о том, что так долго не ставят штамп в зарешеченном окошечке, ведь мне надо бежать, именно бежать домой, к сыну. Пустые странички билета обнаружила потом, махнула рукой. Где там теперь? Что? Зачем?
«За победу над Германией» – звучит громко, а не велика награда. Давали всем, красовались с ней больше тыловики, те, кто не хлебал войны полным ковшом, но цветные колодочки Виктора Павловича, помню, задели, кольнули. За что? Где он отличился? Впрочем, и о наградах некогда было раздумывать. В трамвае по пути к рынку жила, точила-торопила мысль: дома, под замком, в крысином этом подвале, мой малыш и, может, проснулся уже, зовет, плачет. Ух, как медленно, медленно ползет трамвай-деревяшка! Выскочила бы, побежала вперед – подгоняет дурная мысль. А Виктор Павлович (дался он мне!) опять с Валей? Валя, конечно, давно должна
388
родить. Интересно.. Кто у нее? Сын или дочь?.. Неужели она развелась и уже снова вышла замуж, теперь за Виктора Павловича? Впрочем, может, тогда, в сорок четвертом, она просто обманывала меня и никакого мужа у нее не было? От Вали всего можно ждать. Она так правдиво лгала, и я знала, Валя непредсказуема и неведома...
Рынок открылся знакомо-черной военной толчеей. От самой трамвайной остановки головы, головы, толпа. Просится захоженное сравнение – море голов. Оно течет, перемещается, шевелится, живет. На всякий случай, пробираясь и продираясь, деньги держу в кулаке. В кармане опасно – обчистят.. не заметишь. А это все мои деньги! Сколько смогла за лето! Тряслась над каждой копейкой. Да еще та премия от «месткома». Циклопиха Таисья весной повздорила с завучем из-за нечисто вымытой учительской, плюнула завучу под ноги, хрястнув дверью, ушла. Летом я работала за двоих и еще за сторожа – вот и разбогатела. Гоголевский чиновник копил гроши, чтобы обрести шинель, я – чтобы ее наконец снять. Не могла даже представить, как надену ее осенью снова, и еще бы сбросить сапоги! Понимала, однако, – сапоги останутся, ненавистные вечные кирзовики! Шестой год не снимаю с ног, забыла, что есть на свете легкие женские туфли и есть даже «лодочки» на высоком, высоком, поднимающем женщин у каблуке. Неужели есть? Летом ходила по школе босиком. Отдыхали ноги. Экономились чулки. Чулки эти – вечная проблема женщины.
На рынке еще в первые годы война сама собой сложилась специализация: в одних рядах платья, в других – обувь, в третьих – часы. В поганом, проплеванном закутке, где стеной вонь от уборных – «карточное бюро», – продают, меняют карточки: хлебные, сахарные, на мясо-рыбу, на жиры, на крупу, промтоварные, здесь же продадут и краденый паспорт, снятое ночью барахло, шмыгают-шныряют шустрые темные люди-тени, га-дают цыганки. Здесь мать отдала обручальное кольцо. Все вспомнилось, пока
389
миновала, пробилась туда, где пальто. Мне не золотой портсигар. Мне бы пальтишко, обыкновенное, женское, и лучше б потеплее, чтоб носить осенью и зимой. И такое нашлось. Вот оно! Пожалуйста! Вроде бы даже новое, темно-синее, с черным воротником «под котик». Гоголевский Акакий Акакиевич тоже ведь брал на воротник вместо куницы крашеную кошку. Лезет в голову всякое такое, пока смотрю, щупаю, глажу пальто. На растопыренных пальцах держит его передо мной базарный пройдоха, лупоглазый кудрявый хитрун. Рядом крепкого склада, низенький с коженелым лицом. Глаза – угли из печки! Барыги! Ясно. И почуяли поживу. Видят – тороплюсь. Видят – не стану торговаться. «Не краденое ли пальто?» – тревожит одно сомнение. Не снято ли с кого? Базарные люди понимают по-своему:
– До-ро-го?! Что ты? Девушка! Род-ная! Де-шевле некуда. Даром отдаем. Себе в убыток. А сук-но? Товар? Век носить будешь.. Меряй! Да так вижу – на тебя шито! Меряй!
Пальто и верно впору.
– За-чем дешево отдаешь? – коренастый как бы выхватывает у лупоглазаго. Подскочила бойкая баба:
– Почем? Ну? Не берешь?
И вот, как это так? Знаю-понимаю – обделывают базарные удальцы. А беру. Даже не могу поторговаться. Не умею. Стыдно как-то.. И мать тоже, помню, не умела..
Купила. Спешила-бежала сквозь толпу к остановке, проталкиваясь-пробиваясь. Холод в душе. Не могли такие торговать честно! Ладно, хоть не слишком дорого.. Еще денег немного осталось. Может, к зиме на валеночки сыну накоплю. Начнет ходить! Нужны будут валеночки.
Маленький мой, терпеливый! Конечно, проснулся. Ждал меня, сидя за шнурочной сеткой. Неумело ее сплела. Но все-таки не вываливался на пол. Ждал, вопросительно приоткрыв двузубый ротик, хмурил ямочки-бровки.
390
Как я любила эти его страдальческие ямочки!
Дома еще оглядела, примерила пальто. Долили сомнения в его качестве. Уж больно нахваливали! Нашла бритвочку, подпорола подкладку, глянула – вместо синей ржавая, выгоревшая материя. Пальто старое, лицованное. Значит, права была моя интуиция – не верь пройдохам, не клюй на приманку! У человека на лице – все. Не о красоте речь, конечно, – о подлости. Ее-то прячь – не спрячешь. Она вылезает, как масляное пятно после любой стирки. Видела – плуты, видела – пройдохи! Видела? И поделом тебе.. Ну, ладно. Все-таки пальто. Женское пальто, без затей, вроде бы и теплое. И ловкачи те не знали: для меня оно больше гораздо, чем женская одежда. Пальто наконец отсоединяло меня от шинели, значит, и от войны. Так думала по наивности.
IV
Работать уборщицей не велико счастье. Пусть и на две ставки. Мою теперь всю школу, коридор, классы, учительскую курилку. Переворачиваю горы парт. Опять годится фронтовая сноровка, годится и сила. Мою быстро, иначе не успеть до утра, толкаю парты, успеваю для отдыха сбегать, глянуть, кипит ли титан, наливаю воду в бачок и снова за швабру, а еще между делом бегом в подвал: как там Петенька? А еще я поливаю цветы, чищу окна, отмываю забрызганные чернилами подоконники, храню и выдаю чернильницы, и пальцы у меня в неотмывающихся сине-фиолетовых тонах. Ладно еще: суббота, воскресенье – незанятые дни, не полностью и среда. Приходят в среду отстающие на консультации.
Теперь, когда пообзавелась хозяйством, отбила самую злую нужду, потянуло к книгам. Вспоминались свои, те, что пришлось продать в сорок первом, сорок, втором, и те, которые оставались еще, когда уезжала на фронт. Теперь нет ни единой, и это просто маета, сосет душу: где взять книги? Бывает, до какого-то словно бы на чутье, на обоняние, на вкус, что ли,
391
ощущения хочется представить в руках новый коленкоровый, тисненный золотом переплет. Запах новой, свежей книги! У меня были свои чистые, новые-новешенькие «Три мушкетера», «Дети капитана Гранта», «Принц и нищий», «Евгения Гранде». А еще дома были Пушкин, Горький, Чехов, Толстой, «Войну и мир» которого я так и не осилила, все начинала и бросала. Толстой казался не то чтобы скучным, но каким-то сверх меры обстоятельным, надоедали эти постоянные вставки на французском, казавшиеся мне тогда ненужным манерным щегольством. Ну, и подумаешь! Знает французский! И все эти графы, графини и княгини... Как не знать, если с пеленок учили гувернеры и гувернантки. Гораздо легче, помнится, читала повесть «Казаки» и еще повесть о той девушке-невесте, что готовилась стать женой. Ее мир, открытый мне Толстым, казался созвучен моему пониманию, моей душе, так понятен, что я не без удивления думала о писателе: как удалось ему словно бы перевоплотиться в мою душу, мою сущность? Это была все-таки удивительная проза – плотно-тягучая и золотившаяся, как летний мед, и с такой же неуловимо душистой горчинкой, от нее веяло словно бы всеми запахами Земли, запахами летних полей, лугов, цветов, неба, грозовых сполохов – лета и вечной жизни. Размечтавшись о книгах, подходила к двум черным резным, глухо насупленным шкафам в комнатке рядом с учительской. Что за книги хранились там? Мельком видела – как-то при мне библиотекарша отворяла – сплошь старинные, в мерцающем золоте темные корешки. Собрания сочинений. Книги в нашей библиотеке не выдаются. Только числятся, но они нужны. При них – должность по штат-ному расписанию. Разные методики, учебники, пособия для учителей тоже есть, свалены в кучу, стоят на трех полках. Но их редко кто берет. Из них к приходу инспекций делают стенды: «В помощь учителю. Классному руководителю», «Методический уголок». Библиотекарша же пишет справки, принимает-выдает документы, заполняет табели на зарплату и подшивает газеты. О книгах из двух шкафов у нее свое представление, очевидно согласованное со Светланой Васильевной. Книги старые. Выдашь – могут
392
не вернуть и даже обязательно почти не вернут: ученики вечерней – народ ненадежный, сегодня ходят, завтра бросили, ищи их! И вот – шкафы под замком. Хлопот нет. Библиотекарша, завуч, может быть, и директор довольны. Такое отношение к библиотекам, пожалуй, даже из типичных.








