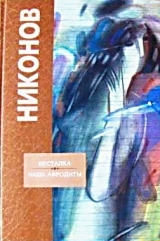
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
А где-то на тайных полигонах, в секрете секретов, уже колдовали люди
197
в пиджаках и цивильных галстуках, отнюдь не похожие на слуг сатаны, а всего лишь с головами, аномально набитыми цифирью и формулами, – готовили на свет нового монстра, дитя смерти, и еще в пеленках он губил и своих нянек дыханием невидимого, непредсказуемого.
Все это было там, где-то, неизвестно, невидимо и неприсуще этим суглинкам и черноземам, иссеченным садам, разваленным хатам, этим рыдальческим небесам, где прицельно кружило воронье, и этой стране, где война шла со всей возможной ожесточенностью. Злобной ожесточенностью одних и безмерной жертвенностью других. И хомо сапиенс, маленький, самый маленький, выслеживал и брал на прицел другого. Хомо сапиенс! ХОМО САПИЕНС... Хомо... Сапиенс?!
Снайперы укрылись в полуокопе за невысоким бугром, по которому рос редкий бурьян, полынь и татарник. Их было двое: старший фельдфебель, рыжеусый здоровый бугай с фиолетовым шрамом вдоль щеки, хранящим еще дырочки – дорожку швов, с двумя железными крестами, тихо звякающими над карманом френча, в каске и маскхалате внакидку, и совсем молодой парнишка, голубоглазый, беспечный, снаряженный так же, но совсем не подходивший к этому снаряжению: лягушачьей накидке, каске, винтовке с геймовским зорким прицелом. Вздумайте надеть каску на белоголового дошкольного малыша – увидите выражение лица этого снайпера. Было утро, очень раннее утро, когда над полями еще едва встало розовое полусолнце и жаворонки вещали долгий жаркий день, весенний день, а здесь, на Украине, как летний. Оба снайпера-немца полночи провели на позиции, пока нашли место, окопались, наладили маскировку. У старшего даже каска была обвязана лопушковыми листьями и сухой полынью. Ею терпко пахло, убаюкивало, и младший снайпер-ефрейтор готов был хоть сейчас уснуть, пригреваемый солнышком, как котенок, которого он сильно напоминал. Фельдфебель тоже клевал каской, обвязанной полынью и сухой травой, но все же суровый, опытный глаз его успевал обозревать местность, заметить в ней малейшее движение. Все было спокойно. Все громче пели жаворонки,
198
поднимаясь в поднебесье, выше всходило солнце, каска с травой клонилась, стукала в землю и не давала уснуть.
– O-o! Was ist es? Es ist ein Vunder! Teufel! Ein Weid! Otto? Siest du!
Eine Frau4.
Они видели вдали ползущую медсестру. Женщина была в бушлате, без каски, а передвигалась как-то странно, боком, часто приподнимаясь и замирая после очередного броска вперед.
В пьяновато-холодных и водянистых глазах фельдфебеля мелькнула, словно бы становясь на место, круглая льдинка. Секунду он еще смотрел, как хищник смотрит на ползущую дичь, потом потянул обвязанную лопушками винтовку.
– Was? Was sie? Es ist eine Frau? Das ist roten Kreiz!5
– Замолчать! Какое мне дело?– бормотал фельдфебель, выискивая
цель.
– Господин старший фельдфебель! Что вы? Женщина! Это же – женщина!
– Замолчать, Отто! Сейчас ты увидишь, как я положу эту птицу. Можешь не присоединяться. Только смотри...
– Господин старший фельдфебель!! Не надо! Не стреляйте, – бормотал мальчишка, цепляясь за руку старшего.
– Ты сошел с ума! Младенец! Тебе жаль эту русскую суку? Если сейчас я ее не убью, она спасет десяток Иванов, а Иван убьет тебя или меня! Понял?! Ты, сопляк! Не мешать! Лучше смотри. Теперь она от нас никуда не уйдет. Эх, если бы эта дура приподнялась повыше. Это было бы красиво...
И, словно угадывая его желание, женщина в бушлате, с сумкой через плечо, привстала на коленях, словно готовясь вскочить и перебежать. Теперь было видно, что в руках у нее каска. Женщина явно несла в ней воду и боялась расплескать. Вот почему она так странно ползла. Видимо, женщина
– Что это? Это чудо! Черт! Баба! Отто? Смотри! Женщина (нем.).
– Что? Что вы? Это же женщина! Это же Красный Крест?! (Нем.)
199
так устала, что не могла больше ползти, а себя считала в некоторой безопасности от автоматного и прицельного огня. Но не от снайпера.. В окуляр было видно ее лицо с растрепанными волосами, миловидное, курносое, юное. Крестик прицела замер на этом лице, потом, пораздумав, как бы спустился ниже, на грудь, еще ниже, там, где был живот. Здесь дуло остановилось. Мушка вошла в крест прицела.
Ефрейтор, бросив винтовку, уткнулся в землю, все еще бормоча свое:
– Schießen Sie nicht! Bitte! Schißen Sie nicht!6
Выстрела не было, и тогда ефрейтор, подняв голову, увидел, что фельдфебель все еще целится с застывшей смертоносной усмешкой. Может быть, так улыбаются змеи перед тем, как ужалить. Теперь ефрейтор смотрел на палец фельдфебеля, который лежал на спуске. Вот винтовка перестала дрожать, плечи фельдфебеля закаменели и льдинка в глазу встала твердо и накрепко.
В этот момент ефрейтор толкнул руку фельдфебеля. Выстрел грохнул. Женщина упала как подрубленная.
– Сопляк! Дурак! Что ты наделал! – ругался фельдфебель, с изумлением глядя на молодого солдата.
А в это время женщина вскочила и, припадая на одну ногу, попыталась бежать.
Снайпер снова схватил винтовку. Видимо, странный, ныряющий бег женщины мешал ему прицелиться, и выстрелы были мимо. Еще раз! Еще!
– Ах ты!
Но в этот момент женщина упала, и фельдфебель удовлетворенно опустил карабин.
Он увидел дрожащие плечи ефрейтора.
– О-о! Глупец! Нюня! Что с тобой? Пожалел эту суку? Ну, реви! Шлют на фронт сосунков! Я доложу, чтоб тебя разжаловали в рядовые. Дураки! – Фельдфебель морщился.
6 Не стреляйте! Пожалуйста! Не стреляйте! (Нем.)
200
Он опять приложился, смотрел в прицел. Женщина не шевелилась. Было видно край ее бедра, ногу. Фельдфебель приник к прикладу, перевел винтовку в надежное положение, но раздумал. Женщина не шевелилась, а снайпер должен стрелять редко. Итак истратил целых три патрона точного боя, пол-обоймы на эту даму. Видимо, все-таки положил ее с первого выстрела. Баба бежала сдуру, как бежит курица без головы. О, эти русские бабы – скифки... Говорят, они страшно живучи. Еще посмотрел в прицел. Женщина не шевелилась.
XX
Я отвезла раненых в санбат, возвращалась на передовую пешком вместе с новой сестрой, инструктором из санроты, которую направили к нам в батальон взамен выбывшей известной всем Настюхи. С Настюхой случилось неизбежное при ее образе жизни, не самое худшее. Забеременела. И вот уезжала вместе со мной, вместе с ранеными. Нахальная, всезнающая, не пробиваемая ничем Настюха.
От тылового пункта, куда за ранеными пришла старая трехтонка-газогенераторка, до санбата километра три, но Настюха и не вздумала одолеть это расстояние пешим порядком. В кабине она теперь не умещалась, но, не раздумывая, полезла в кузов, кое-как взобралась с помощью хохочущих солдат хозвзвода, перекинула через борт свои окорока, из кузова улыбалась старикам хозвзводовцам:
– Ну, ничо, ребятушки, терпите! Воюйте без меня.. Вот рожу Ваньку
– может, прибуду.. Обрадуемся! Командиру кланяйтесь. За заботу спасибо.. А чуть не порвалась, залезала!
Погрузили раненых. Ехала, будто не замечала ни стонов, ни ругани, ни дорожных толчков. Курила, поплевывала за борт. Лениво-сонный взгляд из полуопущенных век с белыми поросячьими ресницами копился на мне.
– Ну, что, Лидка-телочка, все бережешься, мимоза?– со значением
201
растягивая широкий рот, спросила она. И, не получив моего ответа, сотворив ямочки бровей, деланно зевнула, швырнула самокрутку, по-мужицки харкнула вслед за борт газогенераторки.
Я молчала. Машину трясло на ухабах. Скрипел кузов, стонали раненые. Мне была противна эта распухшая неряха, – она и здесь сидела как-то по-лягушачьи, задрав юбчонку на толстенные белые ляжки. Грязное белье. Пустой взгляд. Женщина.. Но ведь, какая ни есть, тоже ползала под огнем, выносила раненых, жила рядом со смертью.. В санбате первой полезла через борт, чуть не обломив его, не дожидаясь, когда шофер откроет. Не помогла и мне. Свободных санитаров не оказалось, и мы вдвоем с шофером кое-как сняли из кузова на носилки троих тяжелораненых, кое-как уложили стонущих, горящих последним жаром людей, – раны у всех, по-моему, были безнадежные. За эти годы я, кажется, научилась угадывать судьбу людей. Страшное знание, постепенно отравляющее душу. И нет хуже для медика, для сестры, для врача вот этих случаев, когда бинтуешь, утешаешь, тащишь, везешь в санбат, наверное, и оперируешь, заранее зная – не перехитришь смерть и чудо не поможет, да чудо и живет больше в рассказах, переходит молвой, чем на деле: где там, нет чудес, а так хочется, чтоб были.. Да нет их.
Во время этих раздумий, пока ждали приемки, к нам подошла тощенькая, некрасивая девчонка, – дрянная шинель третьего срока, шапка-ушанка, которые называли на «рыбьем меху», брезентовый ремень, только обмоток еще нет, а в первый год бывали и в обмотках! Погоны младшего сержанта (я к этому времени уже стала старшиной). Девчонка только спросила про нашу часть и молча стала помогать нам носить раненых в большую двухмачтовую палатку в разоренном саду с расщепанными осколками яблонями.
Она и оказалась направленной на смену Настюхе.
Обратно шли вместе. Новая сестра показалась до предела молчуньей. Замкнутое личико, ничего не выражающий взгляд. Никакого сходства с предшественницей. Шла, стуча каблуками, хлопая голенищами дрянных, не с
202
первого раненого, а может, убитого, жестких, залубенелых кирзовиков. Ступ-хлоп.. Ступ-хлоп..
– Ну и обмундировали тебя! – не выдержала я. – В таком наряде хоть раскрасавицей будь. Ремень-то! Ремень! Выброси эту портянку, придем
– новый дам, комсоставский! Лишний у меня. Не пожалели тебя в каптерке!
– А я всю жизнь такая обездоленная, – быстро сказала девушка, исподлобья глянули зеленые, ясного тона глаза. Глаза были чистые, горные, в них светилась недоверчивая, упрямая душа. И этот взгляд по-иному показал мне девчонку, расположил к себе.
– Что уж ты так? Зачем? Зовут-то тебя?
– Зовут Нина, а фамилия моя Рябченко. – И опять молчание. Стучат, подкатываются сапоги.
– Ты с Украины, что ли?– спросила, чтобы хоть что-то спросить.
– Из Ленинграда..
– Ого!
Нина молчала. И я, приняв это ее молчание за пренебрежение, надулась, замолчала тоже.
Шли заснеженной дорогой, изрытой выбоинами, с объездами воронок, истолченной, измешенной танковыми траками. Снег кругом был белый, непривычный для передовой. Он выпал вчера и еще не успел почернеть. Справа и слева в этом снегу мертвые, разнесенные немецкие грузовики, длинные, дурной величины машины, огромные широколобые кабины глядят страшными глазницами погибших гигантов. Свежий снежок на трупах, там рука, голова без каски, заледенелое, ненужное, мертвее мертвого. Кто? Неизвестно. Скорей всего, немцы, а может, и наши, свои. Сюда еще не добрались, видать, ни трофейные, ни похоронные команды. Здесь месяцами шли бои, как называют в сводках, «с переменным успехом». А это значит, земля и снег не на один раз политы и нашей, и немецкой кровью, это значит, здесь все разбито, разрушено, перемолото техникой, нет ни деревень, ни поселков – все сгорело, разбито, одни яблони, – черные коряжистые
203
скелеты торчат там, где от жилья остались груды глины и пепла. Теперь кое-как все закрыто снегом. Мне приходит дурная мысль, что весной яблони пусть не все, но зацветут белыми восковыми цветами, и это будет еще страшнее: цветы над пепелищами. Природа сильнее человека, выше человека, выше судьбы. Случись хоть что, человек погибнет, она останется жить. Будет светить солнце. Всходить луна. Вон и сейчас ее видно куском талого льда.
Идем днем, и в это время движения к передовой почти нет. Нас никто не обгоняет. Снабжение на передовую пойдет ночью, с темнотой.
– Как бы под обстрел не попасть в этой степи, – вслух думаю я. Передовая приблизилась.
– А сюда достанет? – спрашивает Нина.
– Еще как! До санбата, наверное, может достать. Артиллерией. А здесь скоро зона ружейного обстрела.
Как бы в ответ и в подтверждение издали бухнул выстрел, запел снаряд.
– Ложись! – крикнула я, дергая девчонку за руку, и вовремя – снаряд лег недалеко, по нам ударило комьями мерзлой земли.
И началось: «Ти-ю-ю!.. Буц! Ти-ю-ю.. Буц! Ти-ю-ю.. Буц!» Лежу, про себя ругаюсь, вздрагиваю, где тут привыкнешь! К такому не привыкают. Да еще, как назло, никуда не укроешься. Степь.. «Тю-ю-ю! Буц!»
Но обстрел недолог. Покидав с пяток снарядов, батарея замолчала. Поднимаюсь. Новая сестра лежит ничком, руки на шапке.
– Ты что? Ранило?! – испугалась я.
– Нет. Не знаю.. Страшно, – не поднимая головы.
– Вставай! Ничего.. Это он по нам решил. Может, за офицеров принял. Или наблюдатель где... Давай сейчас подбежим. Скоро уже! Траншеи скоро. Ну?!
– Может.. Ползти?
– Ползти тут далеко. Наползаешься. Да и незачем. Ружейным досюда
204
еще не достанут.
Сестра поднялась, и мы припустили перебежками до линии тыловых траншей. В первую же и благополучно нырнули.
– Ну, все! – запыхавшись, оглядываю спутницу. – Здесь не бойся! Безопасно. Если только налет и прямое попадание – тогда.. А это редко. Проскочили..
Нина молчит, тяжело дышит, голова ищет землю. Поняла – у нее первый, долго не отпускающий душу страх. Как у меня после бомбежки, там, перед Сталинградом. Душа оледенела, все сковано и будто заколочено гвоздями. Колет руки, ноги, спину, шьет вдоль позвоночника механическими строчками. Так было со мной, было не один раз. Страх. Первый настоящий страх. Шоковый...
Вдруг она начинает смеяться. Смеется, запрокидывая голову, кликушно клоня ее к плечу, смеется лающим, дергающимся, лисьим смехом: «Ха.. ха.. ха.. Эых ха.. ха.. ха..» Это жутко. Трудно смотреть. Это у каждого бывает по-своему. Что-то вроде истерики. Бывает и у мужчин.
– Перестань! – ору я. – Пе! Ре! Стань!
Смех оборвался. Поняла сама: истерика. Смехом выходил из души скопившийся, заполонивший ее ужас. Я ждала, пока новая сестра поднимется. Но она сидела, сжавшись, опустив голову в жиденьком проборе волос, точно рассматривала землю со снегом на дне траншеи. Шапка слетела, валялась рядом.
– Это пройдет, – ободрила я. Подняла шапку. Надела, как на живой манекен. – Пойдем! До землянок рукой...
Ответом молчание.
«Уж все ли ладно с ней?– беспокойно прикинула я и подумала: – Эх, малолетка! Шлют таких на передовую!» – это думала я, будто была куда как старше, взрослее и опытнее. Да так и было. Год передовой надо считать за пять.
– Пойдем! Живо!
205
– Нет. Оставь меня тут.
– Еще чего?
– Не могу я..
– Что «не могу»?
– Идти..
– Контузило??– догадываюсь я.
– Нет.
– Что тогда?!
– Господи.. Да мокрая я, – бормочет она.
О таком не пишут, такое не видят в фильмах. А мне до горечи, до родной какой-то боли, до набежавшей слюны во рту стало жаль эту девчонку. Что там греха таить – такое бывало и со мной. Такое не забывается. Не забывается..
Много позднее меня спрашивали: «На фронте было страшно?» Отвечала: «Страшно». – «Всегда?» Отвечала: «Всегда!»
В этих ответах, наверное, не заключалась вся правда. Страх ведь тоже бывает разный: панический, обездвиживающий, трясущий, знобящий, – кто его систематизировал и зачем? Страх ощущался здесь просто как вечный гнет, висящий где-то на спине, словно бы от затылка. Были и на передовой дни, когда тягота эта слабела, но никогда она не спадала совсем, даже в блиндажах, под двойным накатом. Страх просто оттеснялся на дальний план, забивался в глубину души, тихо тлел там, сжигал потихоньку душу, наподобие торфяного пожара, от которого остаются страшные провальные ямы. От страха умирали и потом, годы спустя, вернувшись домой, когда он, словно ощутив нежданный вольный ветер, вспыхивал.
Были дни, когда почти не было пожаров на горизонте, стрельбы, стояла не то чтобы тишина, а подобие ее, и было странно, дико осмысливать: вот полоса земли, разделяющая две армады людей, две армии, два мира, и там, на той стороне, дымки кухонь, ветер доносит запах жареного мяса, супа. Там
206
вроде бы такие же люди – пьют, едят, спят, пишут письма родным, беспокоятся о семьях, о детях, боятся шальной пули, и не только шальной, хотят жить и дожить до конца войны, до своей побед ы. А ведь это было бы ужасно: их по беда. Значит, гибель всем нам, бойцам, мне, комбату, которого я по-прежнему не могу терпеть, стараюсь не попадаться на глаза даже его связным и телефонистам; их побед а – это значит печи по всей России, проволока-колючка, иго – куда татарскому, иго для всех, кто за нашей спиной, там, далеко, а в сущности, близко. Лопни вот только наша оборона, прорвись, проломись линия, и туда, на восток, саранчой потекут, хлынут люди в серо-зеленом – неостановимая гусеничная орда. Люди? Такие же? Не может быть.. Я не верю словно, что они могут быть добрыми, играть с детьми, ходить в гости, сидеть на берегу с удочкой, нянчить младенцев, пахать землю. Разум подсказывает, что я неправа. Они, конечно, все-таки люди. Хомо сапиенс.. Тогда почему они пришли сюда? Что их привело? Эти простые вопросы предполагают и простой ответ. Но почему-то он мучит меня странной неразрешенностью. Ведь вот, скажем, у меня, у моего отца, у матери, у многих-многих, кого я знала, никогда не было и мысли не то что убивать, идти куда-то в чужой дом, чужую землю – а тронуть кого-то хоть пальцем. Значит, все-таки они не люди? Не решался такой вопрос. Хомо сапиенс? Нет, тут что-то другое... Что-то не так... Но о чем только не думалось в периоды затишья, когда не было раненых и время начинало тянуться с невыносимой, выматывающей душу безысходностью. Ты никуда не можешь уйти. Ты привязана к клочку изрытой земли, ты должна находиться здесь неизвестно сколько, ты можешь еще и остаться в этой земле навсегда. Вот, наверное, отдаленное подобие такого испытывают те, кто ждет на вокзалах, сутками в аэропортах, ждут погоды, самолета, и это кажется выше сил человеческих – ждать сутки, двое. Как же было ждать здесь: ждать неизбежности, несправедливости, непредсказуемой долготы, непонятного безвременья или гибели. Во время затишья сходили с ума, бросались куда-то на верную смерть, с криком, с автоматом в руке, просто
207
вылезали из траншеи за бруствер. По таким немцы стреляли как по врагу, свои – как по перебежчику. Кажется, у снайперов была даже такая команда: «По перебежчику!» А это были чаще не выдержавшие тишины. Отчаявшиеся. Не чужие и не свои. Когда-то об этом напишут полнее. Разберутся.
затишье о чем только не передумаешь, кого не вспомнишь, чем не позабавишься: тайком мусолили карты, подстраивали кому-то дурные шутки, лезли с воспоминаниями, врали, писали письма незнакомым девушкам, спорили, мерились силой, бывало – и дрались. Люди везде остаются людьми.
Скованная энергия лезла в пустяки, в глупость, но все-таки, как там ни обдумывай, затишье лучше боя, обстрела, бомбежки, налета, когда все кувырком, когда оглушает, брызжет землей и камнем. Каждый снаряд летит в тебя, бомба в твой окоп, в твою голову, и не веришь после всего этого, что убитых нет (бывало и такое), что цела сама, ни царапины, только сердце перепуганно двоит-троит, в ушах звон, во рту земля, песок скрипит в зубах, иногда с кровью – со страху перекусала губы, десны. Да еще долит тошнота. Ею я мучилась два первых года. Бывало, после огневого налета меня гнуло, валило на колени, выворачивало наизнанку до тяжелых спазм, когда слезы из глаз, а из разинутого рта ничего, кроме тягучей пустой слюны. Спрячешься куда-нибудь и гнешься.
дни затишья особенно боялась снайперов. Сколько раз из-за них погибали нелепо. Попала под снайпера и я. Надо было перебежать в соседнюю землянку, там снайпер ранил кого-то из бойцов, и я уже бросилась
выходу, когда старшина-старик Пехтерев, временный командир взвода, остановил меня и велел надеть каску. Я было даже вывернулась: «Нет каски!» – «Возьми мою!» – подал, я со смехом надела. Так же усмехаясь, вылезла из землянки и не стала пригибаться. «Вот тебе! Раз заставил..» Тут же я повалилась от удара по голове. Показалось, с маху хватили железным прутом. Пуля сдвинула каску едва не поперек, но не пробила, срикошетила,
208
осадив в металле полурваную вмятину. Все это я установила уже в траншее, сидя на дне, ощупывая то голову, то каску, то снова голову. Ломило затылок и лоб. Большая старшинская каска спасла меня, будь без нее или даже в своей, снайпер попал бы мне точно в глаз, в переносицу, ниже лба – верная смерть.
Не легче было в затишье и ночами. Спалось тревожно. И по-прежнему я боялась внезапной атаки и плена. Даже гнала эту мысль: «Плен? Что они тогда со мной сделают?» Лучше не думать, не представлять.
Как-то нигде не говорится, что и немцы ходили к нам в тыл, забрасывали разведчиков, ударные группы, снимали и боевое охранение. С чьей-то легкой руки, с бойкого пера шло-пошло. Немцы – трусы. Фрицы – дураки. А они до самого конца войны были отчаянные и злобные солдаты, гораздые на выдумку и на подлость. Немцы были всякие, но опаснее всего раненые и эсэсовцы, сопротивлявшиеся, как маньяки. Во втором батальоне на допрос привели пленного. Здоровенный немец, легко раненный и связанный. На допросе отказался отвечать, пока не развяжут. Развязали. Начал давать показания, неожиданным ударом сбил стоявшего за ним часового, мальчишку из пополнения, вырвал автомат, едва не положил всех, если б особотделец не успел выстрелить из пистолета.
Случаев всяких по фронту и передовой – не счесть. Анекдоты мешались с правдой, явь с враньем. В каждой роте-батальоне объявлялись свои Мюнхгаузены, их слушали, вроде бы верили, дополняли сами отчаянным, сладким, дурным враньем. Ходила, например, такая сказка. Некая, чья-то молодая красивая жена до того истосковалась по мужу, купила на толчке военную форму, пристроилась к эшелону, добралась до фронта, нашла часть, определилась при муже санинструктором – да мало ли чего еще... Сказкой затравливали ноющую душу.
Бывало, вечерами в землянках кто-то вспоминал про свой день рождения, и все начинали счастливо суетиться, искали, чем порадовать именинника, обязательно дарили что могли: трофейную фляжку, зажигалку-
209
щелкушку, трубку, сигареты, мундштук, ножик. Собирали какую можно собрать снедь. В ход шло домашнее сало, немецкие галеты, раздобывали тушенку, иной раз находился и спирт. Жертвовала и я, когда был. Мне давали крохи. Спирт на фронте драгоценность, и его либо уж пили сколько могли (редко такое), либо крохоборили, держали до случая. На «стограммы» шел лютый спор и любой заклад, как и на табак.
Собирались в землянке потеснее, разливали по кружкам сколько было. Кто не мог пить так, разводили водой, снегом. Отчаянные махали спирт залпом, чтобы потом, с видом проглотившего змею, выдыхать или за-хлебывать из кружки. Пили за именинника, за победу и словно бы обязательно за меня. Господи, сколько бы я прожила, сколько счастья у меня было, сколько здоровья, если б сбылись эти фронтовые земляночные по-желания. И сколько бы я выпила! Держалась как могла. А было мне нелегко.
– Лидочка! Сестренка! Уважь!
– Лидуша. Ну? Родная?
– Не могу.
– Ну хоть губки приложи!
– Вот так!
– Ну еще глоточек? За нас? За победу!
Вот тут и попробуй не выпей. Всякий раз еще как-то так получалось, будто я была именинницей. Ко мне тянулись с поздравлениями, мне улыбались, мне подкладывали лучший кусок. Меня хором упрашивали выпить. И от меня все ждали чего-то, что словно хранилось у меня в избытке, избытком этим я должна была оделить каждого, кто тянулся ко мне с кружкой и с улыбкой. Как могла, я раздавала это «что-то» – что, не знала сама, но чувствовала: оно очень им нужно, этим людям, солдатам, мужчинам.
Захмелясь немного, всегда пели. Бывало, и под гитару, под чью-нибудь битую, хрипучую гармошку, под гребенку, а чаше просто так – какая и где на передовой музыка. Пели песни, которые ходили тогда: «Землянку», бывало, и «Катюшу», и «Мой костер», и «Синий платочек».
210
Особенно любили петь солдаты-казаки. Таких в нашей роте после дуги оказалось трое, все вместе из пополнения, откуда-то с верхнего Дона: Агапов, Федькин и Глазастый. Агапов и Федькин – молодые. Невысокие, крепкие в плечах, хваткие и нахальные, Агапов даже с чубом-начесом на лоб, Глазастый вдвое старше, годен им в отцы, пулеметчик, воевал даже в Гражданскую. Усы, глаза и впрямь навыкат, на казака, на лихого тем более, ничем не похож, скорее напоминал украинского мужичка-хлебороба, тихого, спокойного, себе на уме. Начинал же всегда Глазастый, моргал своим круп-ным веком: «А ну? Казаки...» – открывал запорожский желтозубый рот:
– Па-а До-о-ну гу-ля-ет!
– Па-а До-ну гуля-ает, – встряхивает чубом Агапов.
– Па-а До-о-ну гуля-ает, – радостно хватает Федькин. И землянка вздрагивает от хора.
– Ка-зак мо-ло-до-ой!
Песня бесконечная, пели до хрипоты, до замирания души. Уходит тревога, увлажняется душа, спадает будто с каждым куплетом томящая тягота. Вот кончили, и – молчание. Всяк в себе и в своей думе, но казаки не унимаются, и опять Глазастый уж не так лихо, а раздумчиво, клоня в крупной проседи черную голову, заводил:
По-ехал казак.. на чужбину далеко, Далеко на доб-ром.. коне во-ро-ном. Оставил-спокинул родную краину, Ему не вер-нуться.. в отеческий дом, —
подхватывают Агапов и Федькин.
Другие песню не знают, молчат, слушают. Сияют глазами.
Напрасно ка-зачка ехо мо-ло-дая И утро, и ве-чор.. на си-вер хлядит, —
211
басом ведет Глазастый.
Все ждет-поджидает с полночного краю, Кохда ж иё ми-лой.. казак при-летит.
Поют казаки. В хмеле глаза. Поют. Эту песню не могла слушать – выскакивала, бывало, из землянки, пряталась в траншее, давала себе волю, уливалась слезами. Вот – я, та казачка, все гляжу, каждый вечер гляжу туда, где распята в северном синь-синем небе яркая белозвездная Медведица, там, под ней будто, где-то в Белоруссии, воюет мой казак, от которого то месяц-два ни письма, то целая пачка сразу, и я реву, дрожу над этими письмами, мочу их слезами, потом сую в гимнастерку, в укромное место, поближе к груди. Думаю об Алеше, иногда казню себя: ласковей надо было, добрей быть, огорчила тогда его.. – так вот всегда, запоздалое раскаянье.. Запоздалые слезы.
Возвращалась в землянку, а там все еще поют. Из военных любила песню «Я уходил тогда в поход...», кажется, Долматовского. Терпеть не могла «На позицию девушка»... Господи! Какие слова! Фальшь на фальши.
И врага-а не-навистного Крепче бьет паре-не-ек!
Пели на эту песню пакостные пародии, конечно, не при мне, но слыхала:
На пози-цию де-вушка,
с по-зиции – ма-ать...
На по-зи-цию честная-а,
с пози-ции – ...
212
И еще ходили по землянкам, окопам вовсе уж какие-то топорно-позорные – кто их сочинял?– песни-отзывы и на «Синий платочек», который «больше не падает с плеч», и даже на «Катюшу»: «Отцвели те яблони и груши...»
Вспоминается, вспоминается и этот сор, и пели, бывало, да не трогал души... Иногда душат воспоминания, многие годы спустя вдруг так напомнит резко. Вот как-то, тогда я работала в школе, на учительской вечеринке под гитару запели «В полях, за Вислой темной...». Песня тогда была новая, а пронзила меня правдой, и, когда услышала «Девчонки, их подружки, всё замужем давно», разрыдалась, не вынесла. На меня смотрели как на дуру. Никто из этих учителей ничего не знал, не ведал обо мне. Ничего не говорила и я, тогда больше молчали, привыкли так, кого было удивлять, что ты воевал.
Черная, сырая яма-землянка. Черный накат... Ходит в печурке из какого-то мятого железа – огонь. Стол – ящик. На столе распоротые банки, обкусанные кружки, хлеб, клеклые военные сухари. Чадит-дрожит от духоты свеча. Махорочный дым течет в лаз. Вспыхивают затяжки-огоньки, освещают на миг скулы, лоб и глаза, глаза, глаза. Глаза тянутся ко мне, смотрят на меня, гладят меня, жалеют, желают...
всегда кто-то вздыхает: «Вот бы, славяне, аккордеон! У немцев бы разжиться, а?» Аккордеон на фронте был самый дорогой трофей. Губными гармошками брезговали. Играть на них не умели и не хотели.
всегда последнюю наливали за победу. Господи, когда она будет? Шли к ней. Теперь уж явно шли. А она будто отступала, отдалялась, говорят, так же блазнит в степях мираж. Допивали, а разговор все еще тлел около победы.
– Ну, когда хоть это, братва? А?
– Спроси у Сталина. Он знает...
– Говорил, полгодика, годик...
– И он не бог. – Пехтерев сидит насупясь.
213
– Ну, ну, ты поосторожнее...
– А ты чо? Особотдел?
– Союзники, сволочи. Тянут. Второй фронт хде? Хде он?– вопрошает Глазастый.
– В п...! Им чего... Над имя не каплет! На нашей крове отсидеться хотят. Умные.
– Не матерись! Дурак! Лида, прости его.
– Да уж – вон пшенка-тушенка. Их фронт. Сало шлют и – спасибо!
– А обещались в прошлом еще...
– Обещанного три года ждут. Вот и разумей, к сорок пятому в аккурат
будет... – Пехтерев все знает.
– До того времени сто раз сдохнешь.
– Эх, дожить бы, дотерпеть.. Ребята?
– Дотерпим..
– Кто дотерпит.. Кому завтра уж укладываться.
– Не ной! Старшина..
– Но-но. Я, как именинник, воспрещаю.
– Да я так, к слову.
– На Дону у нас, поди-ка, пашут..
– Рано еще. Земля не обсохла. Холодняя земля пахать..
– Да.. Второй фронт бы. И поперли бы мы их.. То-то бы Гитлер-сука закрутился. Мать его в душу!
– Не матерись при сестренке! Что ты?
– Да я – так.. Простите..
Со вторым фронтом было туго. Сперва, узнав, что он будет, радовались. Ждали. Выступал Черчилль. Выступал Рузвельт. Опять ждали, надеялись. Скоро. Союзники и высаживались, но где-то все не там: в Африке, в Тунисе, в Сицилии. И опять ждали, судили-рядили. Фронт этот даже и не походил на мираж. Его просто не был о.
Самое главное на передовой – умение терпеть. Может быть, вообще
214
это главное качество в жизни. Наиглавнейшее.. Но здесь оно преобладало над всеми – над мужеством, над храбростью, боевой выучкой. Нетерпеливого клевала шалая пуля, нетерпеливый напарывался на мину, нетерпеливый напарывался на снайпера, нетерпеливые не выдерживали, надрывались, сходили с ума, пополняли штрафные роты. А преимущество в терпении было за нами, женщинами, – так я думаю сейчас, мы умели лучше терпеть. Мало уступали нам только солдаты-старики, так звали поначалу тех, кто пришел с пополнением в сорок третьем. Приходили люди, и впрямь казавшиеся стариками, старше, куда старше моего отца, усатые, морщинистые, с проседью, хитрые, казавшиеся поначалу и сгоряча даже трусливыми, а на деле живучие, стойкие, умелые – куда бывать ребятам-школьникам. Старики реже попадали под пули, сами перевязывались, окапывались надежно, были запасливые – что хлеб, что табак, – у них был жизненный опыт. И как-то так получалось, в первых же боях на одного раненого из пожилых было по пять – семь молодых солдат – хорошо, если не убитых. Больше гибло молодых по нелепым случаям: подрывались на своих гранатах. Один бросил – не упал, второй-третий еще смотрели, как далеко, – все забыли: осколки летят и к себе, осколку, как и гранате, все равно, свой, чужой. Ленились рыть окоп в полный профиль... Собирались кучей под обстрелом, бежали под бомбежкой... Смерть не прощала ничего.








