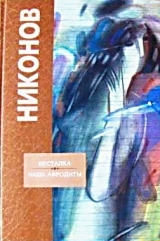
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
Если бы где-то перед ночью, поздно, меня не понесли в операционную палатку, я бы вряд ли осталась жива к утру. Я не чувствовала, что рана не переставая кровоточила, что незаметно для себя я подплывала кровью, так что, когда снимали с носилок, оказалось, лежала в сплошной кровяной луже.
– Что такое?! Почему столько крови? – как бы с укором, а мне казалось, даже брезгливо и злобно кричал незнакомый военврач, старший из хирургов. – Снять повязку! Бинты? Э-э! Черт.. Да скорее..
Они ворочали меня, давили ногу, я слышала теперь, как кровь толчками вытекает из меня. Вытекала жизнь.
– А, черт! – ругался старший. – Угораздило.. Очевидно, задета вена. А? Задета вена. А? Тут кровь не остановить. Высоко! Надо немедленно остановить кровь, и переливание.. Сестра! Девушка! Очнитесь.. Вы меня слышите? Кто так долго ее держал в палатке? Олухи! Мать-перемать! – последнее, что я слышала и поняла.
А дальше я еще что-то слышала, звуки, голоса, но уже они не доходили до меркнущего сознания, потому что леденящий сибирский мороз задышал мне в лицо, я увидела будто березовую рощу, вечереющую, всю в снегу, всю
инее, в морозных разводах, или то было окно в мороз, вдаль, в синеву ночи, и там роились, перебегали, делились и троились радужные огни-снежинки,
248
становясь все реже, темнее, пока не стали черными. «Почему они.. черные?»
– кажется, вслух сказала я и исчезла.
...Очнулась как будто тотчас же: отчего это мне так больно? Ломит ногу, отдает в поясницу, в грудь, в живот, ломит затылок. О-о, какая боль. Потом я услышала свой голос, будто отделенный от меня. Голос мой, и я знаю, что кричу и что кричать не надо, а кричу. Не помню, сколько времени прошло, когда я доняла, что надо замолчать. Сквозь редеющую красную тьму обнаружила, что лежу на операционном столе и нога у меня закаменела в боли, в ней сидит что-то острое, нестерпимо острое и жгучее – тот раскаленный прут, только теперь он расширился и жжет мой живот.
– Все! – сказал кто-то. – А? Она пришла в себя. Вы меня слышите? Сестра? Как вас зовут? Да-да? Слышите? Раненая, отвечайте! Одинцова? Одинцова? Одинцова?! Отвечайте?! Вы слышите?!
– Слышу.. Зачем.. Вы.. кричите.. – едва шевелились мои деревенелые
губы.
– Отвечайте?! Больно?
– О-о.. О-оль-но-о..
– Так.. Ну, жить будете.. Живите.. Венку мы вам сшили. Точно он вам, подлец, попал. Еще и кость задел.. Мог и хуже.. Несите.. Следующего.. Петр Филиппович! Смените.. Не могу. Руки. Закурить дайте. Закурю. Нет-нет. Сейчас подойду..
Это последнее я четко, на всю жизнь запомнила.
Через два дня меня отвезли в полевой госпиталь на сортировку. А там неожиданно узнала – отправят в тыл.
Думала ли, гадала.. Еду в тыл, да не просто в тыл, а домой, на Урал, в Свердловск. Когда узнала маршрут поезда, чуть не кричала. До-мой! До-мой! Ведь не была дома почти два года. Два года на передовой – бесконечность неосознаваемого, неодушевленного, неисповедимо тягучего времени. И не было будто ни лета, ни весен, ни осеней. Больше всего помнилась зима, да и
249
то ее слякоть, грязь, снег, степные ветры. Все смешалось и спуталось в вереницу дней, месяцев, сгрудилось во времени и в пространстве. Сколько это будет два года войн ы в пересчете на обыкновенное мирное человеческое время.. Помню, вопрос донимал, долил неразрешимой безысходностью. Глупый вопрос. Но когда ты ранена, все не кажется глупым, глупостью кажется и само здоровье, и вообще понятие «жизнь».
Поезд был очень хороший, настоящий, санитарный. Кригеровские вагоны с ярусными койками во всю длину, свет, чистота. Внимательные врачи, сестры, няни. В вагоне на ярусах мужчины, нас, женщин, двое. Мы лежим друг над другом, у двери. Немного отгорожены свисающей простынкой. Еду домой. Мне завидуют. Одна я здесь такая. Домой. А я молчу. Радость, едва вспыхнув, погасла. Домой-то домой. А к кому? Нет отца. Нет матери. Нет даже нашей квартиры.. Все взяла война. Есть, правда, тетка, материна двоюродная сестра. Да что она? Чужие ближе. Может быть, вернусь, квартиру отдадут, хоть комнату. Да как я в ней? Одна? Еще в соседях с той гулякой беженкой? К кому еду? Плачу. Не видно за простыней. Легче не становится – пуще болит нога. Рана. Что там такое? Ведь всего-то вроде пулево е ранение. Сквозная дырка? Нет. Никакая она не сквозная. Сине-багровая, отечная. Видела. В ране желтый фитиль с риванолом. Нога ноет нестерпимо. Толчками ходит-тычет боль. К вечеру жар. Пышет лицо. Сохнут губы. Пить, пить.. Как хочется пить! Температурный столбик лезет и лезет. Колют морфий. Засыпаю. Отдаляется боль. Не уходит, только отдаляется. Стоит настороже, чтоб снова прихлынуть. Качает вагон. Весь он
– одна сплошная боль... Она не расплескивается, только качается, как вода в стакане. А колеса стучат: «Домой-домой.. Домой-домой.. Домой-домой.. Домой-домой..»
Госпиталь на такой знакомой Первомайской улице. Госпиталь – школа, большая, новая, довоенная, в четыре этажа. За школой близко железная дорога. И с нашего верхнего, четвертого, ходячие говорят, видно
250
поезда. Рана моя не заживает, похоже, гниет кость.. Лихорадит меня. Мокнет повязка. Из нее течет и течет. Откуда в человеке может быть столько всякой дряни? Ходить не могу, ослабела, сидеть с трудом поднимаюсь на локтях. Дрожат руки. А за окном лето. Жара. В окна ветер бросает сухой пылью. Шуршат-шелестят, вскипают шумом госпитальные, а прежде школьные, вольные тополя. Мне кажется, что война меняет даже деревья. Вот раньше, наверное, когда здесь была школа, в тополях гнездились и пели птички. Пели, несмотря на ребячий гвалт, крики и смех, школьные звонки. Теперь звонок в школе забелен, окна закрашены белым, белые больничные занавески и у нас, а тополя грустно шуршат предосенней листвой – лето идет к концу. Ночами, непроглядно темными, августовскими, в шуме этом слышится что-то жуткое, безнадежное, соединенное с ночью и тьмой.
В палате нас четверо, и все тяжелые. Женское отделение госпиталя – отгороженный от общей мужской части коридор – несколько палат. Да и непонятно, зачем отгорожены. Спрашиваем сестру Антонину Сергеевну. Объясняет: «Все-таки вы – женщины..» Ах, объяснение! Это после фронта-то! После землянок! И двор, говорят, даже отгорожен особым забором. Глупость на Руси неуемна. Ей постоянно нужна пища. Женщины в палате куда тяжелее меня: двое без обеих ног и одна совсем без рук и без ног. Воевала в танкистах, обгорела, обмерзла, осталась жива... Таких раненых в войну называли бесстыдно-странным названием «самовар». Но что делать? Война беспощадна. Женщина без рук и ног молодая, лицо пострадало меньше всего, и она красивая, с тяжелой фигурой, белозубая, из породы неунывающих, хотя и плачет ночами. Зовут Зоя. Бабы подобрались куда какие разные, две, что без ног, как две противоположности. Одна – Фиса, молчунья, все хочет отравиться, повеситься, часто отказывается от еды, капризничает, никому ничего не прощает. Вторая – Люба, хоть бы что, только иногда пожалуется на боль в отнятых ногах. Мечтает, когда выпишут. По профессии она швея и на фронте была швеей, попала под бомбы. Говорит бойко:
251
– Ну – не пропаду! Руки целы. И мужика найду. Иные, говорят, калеченых баб куда как любят. У нас в мастерской была девка с одним глазом, дак отбою не было. Правду сказать, было у ней за чо взяться, а мужику это главное. Себя, слава богу, обслужить тоже могу. А там протезы
– проживем, девки..
На меня в палате – вот наказанье – опять смотрят с завистью. У меня ведь и руки, и ноги есть. А бедро разносит, вся нога уже синяя, боюсь гангрены. Страшное что-то творится в моей ноге. Смотрел уже и завотделением, и консультант, главный хирург, профессор Липский, пожилой и важный, с лицом, исполненным чеканного просвещенного всезнания. Не зная, что я все-таки медик, бросил по латыни: «Гангрена несомненная.. Ампутация бедра. Единственное для нее спасение..»
– Может быть, пенициллин?
– Где же мы его возьмем? И вообще, пенициллин.. Новое средство. Но-о.. Газовая гангрена.. Эффект вряд ли.. За пенициллин теперь все хватаются.
Господи, господи! Почему-то всю жизнь, и дальше, и потом, я боялась профессоров, их холодного всезнания. Боялась даже консультаций. Так все просто. Без апелляций. Решила: буду сопротивляться. Ампутировать ногу не дам. Нет. Куда я без ноги? Да и не поможет никакая ампутация. Если гангрена... Так высоко. Вот оно сквозно е – пулевое.. Из раны течет стаканами, нога, как бревно, не моя, жуткая, фиолетовая ступня, черные пальцы, ногти, похожие на желтые зубы. Тут-то профессор и доктор правы. Да я об этом, кажет ся, еще месяц назад догадывалась.. Не поможет мне ни-какой риванол, которым спринцуют рану, никакой ихтиол, от которого, скорей всего, и гниет.
Как-то под утро, когда, измученная болью и жаром, я все-таки заснула, меня разбудил звонкий знакомый голос:
– Вот она где! Вот она!
Разлепила веки. Вгляделась. Вздрогнула, отдалось во всем теле. Передо
252
мной в белом халате поверх военной формы Валя. Валя Вишнякова, моя давняя дорогая подруга, которую не видела два года. Валя..
– Лидка?! – она плакала. – Лидка-а! Неужели это ты? А я узнала. Случайно... Гляжу списки тяж... Ну, список – и там твоя фамилия! Спрашиваю, когда поступила, говорят, уже месяц! А я не знала! Лидка! – Она опустилась перед кроватью, прижалась лицом.
Лицо холодное, свежее, пахнет яблоками, сладкими, неизвестными мне духами.
– Как ты здесь? – спросила я тоже сквозь слезы, оглядывая ее, когда она присела рядом. В распахнутый халат увидела на гимнастерке орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».
– Ого! – сказала я. – И ты повоевала?!
Валя небрежно одернула халат.
– Все было, – чуть алея, сказала она. – Я здесь уже месяца полтора. Мой отправил. Я ведь замужем. Там вышла. На фронте. За начотдела. Ну, хороший мужик попался, спокойный.. Старше, правда..
Это была опять прежняя Валя.
– Как же тебя.. сюда. Война же..
– А я.. Ну, сама понимаешь.. Буду рожать.. Не скоро еще, правда.. Но..
общем.. Отправили в тыл.. Ой, Лидка! Какое счастье, что я тебя нашла! Ведь разбежались тогда. Потерялись. Ни писем, ничего.. А я к тебе еще ночью заглянула. Смотрю, спишь, ты, не ты – не могу понять. Изменилась, изменилась.. Бедненькая моя девочка! Ну, ничего. Терпи.. Поправишься. Я сама за тобой ходить буду. Лидка, милая, вот я тебе принесла. Ешь! – протянула госпитальную наволочку – ранние яблочки, конфеты в обертках.
– Ешь! А я сейчас поговорю, нельзя ли тебя перевести...
– Никуда меня не надо! Нормально здесь. Хорошо... – Было неудобно перед всеми, глазели, слушали.
Но Валя оставалась Валей, ее уже не было в палате.
– Из пэпэже, сразу видать, – заметила Зоя, криво усмехаясь.
253
– Да, баба-палач. Такая-то нигде не пропадет, – поддержала Люба. – Красивая.. Глазки-то.. И фигура есть...
– Кому война, кому мать родна.. Ишь, ордена-медали. Ты-то как ее знала?
– В школе учились. Подруга. Вместе на фронт уходили.
– А-а.. Ну, это..
– Только вы, видать, в разных местах воевали. Ты на холоде, она – в тепле, – говорит Фиса.
– Ладно, девчонки! Не сплетничайте. Кому как повезет!
– Вот я и говорю: кому – молоко, кому – кринка. – Фиса опять разнервничалась.
На следующее утро был консилиум, и мне сообщили: ногу ампутировать непременно. Нет времени на раздумья. Максимум сутки-двое. Под мою ответственность. Ампутация страшная. Все бедро. В народе называется «по пах».
– Ну, как, Одинцова? Все в ваших руках. Спасти может только чудо или... то, что мы предлагаем. Но, поверьте мне, – говорил Липский. – Я сорок лет в медицине и за сорок лет чуда, пожалуй, не видел. Был, правда, один случай, но отношу к неверной диагностике. В вашем случае – исключено. Гангрена. Это тяжело признать.. И прогрессирующая. Во фронтовых условиях рана была обработана плохо..
– Может быть, пенициллин.. – пробормотала я, стараясь не глядеть на его всезнающее лицо.
– Пенициллин? А он у вас имеется? Нет? У нас, к сожалению, – тоже. Во всем городе. Да при гангрене, Одинцова, он и не изучен. Сегодня, скорее, это.. Э-э.. Фетиш.. Вы меня понимаете? Ну, популярно.. Это – а.. Как бы.. Панацея..
– Я все поняла.
– Ах, поняли? – взглянул на меня с удивлением. Лицо старого
галльского петуха. Где-то я видела в кни гах отца карикатуру «Галльский
254
петух». Полуприкрыл крупные веки.
– То есть средство от всех болезней.
– Да-а. Но – это миф. Хотя, если б пенициллин был.. Можно было бы попробовать. Провести курс терапии.. Но нет.. Нет! Английское средство. Антибиотик. А мы и сульфамидами подчас не располагаем.
– Я уже говорил с начальником аптеки, – вмешался палатный. – Но.. Нет. Нет.. В общем, Одинцова, мы настоятельно просим. Ставка – жизнь. Поймите нас.
– Выбора нет. Вы должны решаться. Я понимаю.. Вы молодая женщина.. Но.. Может оказаться так, что через неделю и мы уже не будем в состоянии помочь. Решайте.. Решайте..
Липский зачем-то погладил меня по голове, как маленькую девочку, и вышел. Полы халата, развеваясь, задели дверь. Следом вытеснились завотделением, врачи и сестра.
В палате тишина.
Посапывают. Обдумывают. Молчат.
– Ничего. Присоединяйся.. Проживешь, Лида. Что ты? Одну ногу. Жаль, конечно. Нога. Ну, а жизнь дороже.. На меня смотри. Мне как? Ничего не оставили.. – Это Зоя. – А жить надо. Жизнь дороже.
– Дороже.. Кому надо нас, таких-то? Кому мы? Милостыньку по углам собирать? По вокзалам ползать? Видала.. Я бы счас, кабы могла, к окошку бы и..
– Тут не убьешься.. Еще больше окалечишься. Глупая ты, Фиса.
– Один черт мне. Не хочу быть такой. Вон, железка-то.. Рядом. Подползу и башку под поезд. Только вот выпишут..
– Да перестаньте вы! Что вы завелись! Под поезд! Под поезд! Эко храбрости! Выжить надо! Назло всему! А ей решиться.. Человеку решиться надо, дуры! – Это Люба, неунывающая.
– Ты не дрейфь, Одинцова. Жизнь все равно надо прожить, раз Бог дал. Не дрейфь! Как будет, так и будь. Может, еще медицина дойдет потом
255
– руки-ноги нашему брату пришивать станут. Дойдет медицина.. Я в это верю. Протезы мне вон для рук хорошие обещают. А руки будут – и вовсе хорошо. Не бойся, девка. Не бойся! Прямись. Страшнее бывает – гляди на меня! – Это Зоя.
– Да. Медицина.. Покамест хорошо только пластают. Нет чтоб лечить. Пластать-то легче.. Небось.. – Это Фиса.
Вечером меня неожиданно перевезли в одиночную палату. В общем-то, я знала ее тяжелую известность. И у нас в госпитале была такая – угловая комната, переделанная из бывшей уборной. Туда клали умирающих. Из нее был только один путь – к безносому возчику Кузьме. Тогда еще не было и понятия «реанимация». Одиночка, однако, оказалась повеселее, выходила одним окном в школьный сад, за другим была железная дорога. Здесь было, конечно, лучше, чем в общей: чище воздух, ни стонов, ни ругани, но, с другой стороны, там ты все-таки не одна, общая боль помогает терпеть, здесь один на один со стенами. Видно, положение мое совсем плохо, думала я, вытирая слезы, крепилась. Да и нога не давала размышлять.
К вечеру ко мне явилась Валя, опять с кульком какой-то провизии, и уже с порога, возбужденно оглядываясь, заговорила:
– Ну, вот и славно! Лидка! Это я упросила начмеда, чтоб тебя сюда. Неудобно там, в палате. Бабы эти.. Все слушают. Суды-пересуды. Лидка, милая! Я все знаю.. Но подожди до завтра. Я нажала на все педали. Пенициллин ищут. А еще я одну старуху знаю, мама знает, травницу.. Она ее лечила. И хорошо лечила. Завтра приведу.. тихонько.. Скажу, что родственница. Старуха капризная. И, говорят, из мертвых поднимала. Держись, Лидка! Держись! Приведу.
– Где это все берешь? – указала глазами на яблоки, свежие помидоры (опять были в кульке, те, вчерашние, мы палатой съели).
Валя усмехалась уголком губ. Вот когда она стала красавица! Красивей, чем была! Раздалась в бедрах, пополнела приятной женской
256
полнотой. Щеки цвели тонким розовым, как на фарфоре. Над слегка припухшими ее губами, сделав их еще чувственнее, неотрывнее, глянула женская коричневая кайма. Это была женщина в самом первом своем цветении, и, несмотря на всю жалкую суть своего положения, боль и безысходность, я минуту-другую молча любовалась ею. Валя-красавица. Валя-вишня!
– Где все берешь.. Зачем? – повторила я.
– Бог да добрые люди! – засияла голубой плутовской улыбкой. – Виктор Павлович здесь! Поняла?! Он меня сюда и устроил. Пока.. что... Я только прибыла, приехала.. Ну, позвонила ему. Просто так. Не делай большие глаза.. Просто узнать.. А он, знаешь, на «ЗИСе» за мной прикатил. Все устроил. Ходит как за писаной торбой! Я ему – нет! Честно сказала: «Замужем!» И про это – тоже.. А он хоть бы что. Для меня, говорит, есть ты,
больше знать ничего не знаю! Каков? Я уж просто.. Ну, ладно, Лида, милая.. Держись. Думаю, он достанет все. Все лекарства. Связи – ого! А старуху приведу утром. Ну, побежала. Не куксись, Лидка. Поднимем..
Утром Валя принесла пенициллин – белые небольшие пузыречки, – и мне сделали первый укол. На операцию я все равно не соглашалась. Про себя решила: что ногу, что жизнь.. Пусть. А после обхода в палате вместе с Валей появилась сухая, сморщенная, дальше некуда, старуха. Лицо темное и напоминало какой-то сухофрукт. Так она мне показалась на первый взгляд. Приглядевшись, поняла – не старуха, а очень пожилая женщина с зоркими, колючими глазами. В глазах этих, несмотря на общее доброе выражение темного лица, таился волчий, собачий ли, кошачий – не понять – огонек, и, когда она, откинув простыню, стала ощупывать мою ногу – Валя стояла в дверях на страже, – мне показалось, щупают колючими, когтистыми лапами.
– Да-а, матушка-девка, неладно у тебя, неладно-о-о, – тянула она. – Эко чо изладили, нога-то бревно бревном. Жизни в ей капля.. Н-на-а.. Не
257
знаю, что присоветовать. Шибко запущенная рана-то. Раньше бы, раньше хоть на нядилю.. А? Жалко ногу-то, чай? Как не жалко. Нога ведь.. Молодая ты.. молодка-девка.
Замолчала. Забросила простыню. Окаменела рядом с кроватью. Закрыла глаза. Казалось, возле меня сидит мумия. Потом женщина-мумия открыла глаза. Жуткий блеск по-прежнему играл, плескался в них. Испытующе глядела на меня, так, что по мне побежал озноб, а нога заныла нестерпимой кромсающей болью.
– Ну, доверишься если, что никому ничо не скажешь, как хужее будет, попробую помогу. Может, и с ногой останешься. Только не ручаюсь я, как ручаться! Сама, девка-матушка, видишь. Антонов огонь – не шутка. А и то я тебе скажу – резать ногу мало помочи будет. Шибко у тебя плохая нога. Ох, доктора-лекаря. Ничо-то вы, ничо не знаете, таких-то, как мы, за мышей считаете. Значит, так! Дам тебе траву, сбор из травы. Завари его. Вели вот хоть ей, – указала на Валю. – Вскипяти не больше минуты – сила у травы уйдет. И не настаивай, сразу процеди. Будет такое, как чай густой. Пей по треть стакана. Не больше. Три раза в день начиная с семи часов. Не больше, гляди.. Нельзя перву нядилю.. Втору нядилю по полустакана пей.. Строго. Толькё, девка, после двенадцати ночи не вздумай и утром-то до шести. После бесовского-то часу. Враз помереть можешь, а так пей, не бойся. Слабая ты, вот. Оператцию не соглашайся или как знаешь.. Если через две нядили улучшения не будет – и не я, и не Бог.. Там уж как знаешь.. Все.. Прощай, девка-матушка. Оздоравливай. Встанешь, Бог даст. Встанешь..
Через две недели с ноги спала опухоль, улеглась боль. Правда, нога была все еще синяя, будто не моя, но я чувствовала, как она оживает. Сама бинтовалась, приподнималась на кровати. Я и сегодня не знаю, что помогло: пенициллин – тогда необычайное всемогущее средство – или в самом деле трава, которую я пила как эликсир жизни. Отвар был сладко-горький, стран-ный на вид, вяжущий, от него пахло лесом и болотом. В сентябре научилась сидеть. В октябре встала, сперва с костылями. Осторожно приступая на ногу,
258
не верила – иду! Профессор Липский сказал, что это настоящее чудо! Диагноз был несомненный. Врачи прославляли пенициллин. Про траву я молчала, как было наказано.
К ноябрьским праздникам я оставила и костыли. Валя выводила меня за проходную, мы гуляли по улице, недалеко от госпиталя, заходили даже посидеть в парке. Осень была долгая, теплая. На тополях и березах еще и в ноябре кой-где висел желтый и красный лист. Долбились по старым деревьям дятлы. Синее пасмурное небо только грозилось теплым снежком. Как я радовалась, что хожу, что все обошлось, как благодарила-целовала Валю, вспоминала ту старуху, все хотела к ней пойти, да Валя отговаривала. «Не любит она, не надо.. Живет далеко, на загородной, у леса..» Радость заслонила на время все мои прошлые беды. Теперь я стала часто вспоминать свой дом. Ведь он был здесь, в этом городе, и не так далеко отсюда. Дом, где я родилась, мой дом. Мой? Нет отца, нет матери, нет моей комнаты, квартиры, мебели – ничего нет. Это было как идти на пустую могилу, на пепелище. Долго я не решалась, хотя режим госпиталя для меня благодаря Вале был совсем не в тягость. После праздников, не в силах больше отлеживаться в своей одиночке, я напросилась на работу, катала бинты, помогала в отделении сестрам, дежурила в палате, где лежала раньше, где женщины глядели на меня недобрыми глазами – давила зависть. Я понимала их: выскочила, уцелела, спаслась и даже с ногой! Ведь для них это было несбыточное, немыслимое счастье.
– Ох, везучая ты, Одинцова! – не таясь, завидовала Фиса. – Мне бы такую везучесть, я бы всем богам помолилась. Кому теперь с культяпками-то. Жить не хочу, – плакала злыми, холодными слезами.
– Опять за свое! – возражала Люба. – Надо же кому-то и выиграть, раз другие проиграли. И хорошо, что Лидушка с ногой. Что тебе, легче б стало еще одну безногую.. Э-эх, дуреха..
А Зоя, та, что была без рук и без ног, которую я теперь опекала особенно, кормила, мыла, причесывала, смеялась во все свои отличные,
259
свежие зубы.
– Ах, Лидка, как хорошо! Гляжу на тебя, радуюсь. Выскочила! А каркали: гангрена, гангрена.. Небось и меня вот там, на фронте, обкорнали ни к чему. Ну, ничо. Ни-че-во-о..
Накормив, напоив чаем или молоком, я укладывала ее поудобнее, укрывала одеялом. И тогда на меня с кровати смотрела на диво красивая русская баба – рыже-русая, круглощекая, курносая, с губами сочного малинового цвета, с голубыми ласковыми глазами. И вспоминала я другую такую же красавицу, Алю, из эшелона, убитую той, первой, бомбежкой. Судьба, что ли, метит красавиц? За что их так? Аля Платонова была даже покраше, моложе.
– А я, девки, еще замуж выйду. Ребят нарожу, сколько смогу. Правда! Они ведь у меня с руками, с ногами будут. Назло ей вот отомщу! Парень у меня есть. Счас он дома. Инвалид тоже. А вот пишет: «Ни об чем не думай, приезжай», – и смеялась и плакала Зоя.
Горькая была эта палата, полная слез, смеха сквозь слезы, причитаний
вздохов, а я думала: да неужели этим людям не вернется радость встать, ходить на своих ногах? Ведь вот, учила по биологии, у каких-то лягушек, тритонов, у ящериц отрастают хвосты, конечности, даже может появиться новый глаз взамен утраченного. Новый глаз! А человек так несовершенен! Нет. Не может этого быть! Человек должен, обязан.. Должен. Обязан быть совершенным. А он еще воюет. Хомо сапиенс! Еще не дорос до понимания полного отрицания войны. Еще живы гитлеры, гимлеры.. Мы знали, на Гитлера в июле было покушение и злодей этот уцелел! Непостижимо! И вот лежат обездоленные им – крохотная капля людского горя.
– Ты, Одинцова, за всех нас отлюбить должна. Тебе счастье, вот и пользуйся, – поучала Фиса.
– С завтрашнего дня начну.
– А ты со своей подружки пример бери. Вот баба. Не клади палец в рот. И воевала она так же. Знаем. Видали..
260
Я читала палате книги. Подбирала больше такие, где человек побеждал. Старалась отвлекать девчонок, как могла. А вечером появлялась Валя, опять что-нибудь притаскивала: конфеты, яблоки, пастилу, американский шоколад, сигареты для Фисы. Фиса понемногу курила. Казалось мне, что и Валя тоже, хотя та всегда делала большие глаза: «Нет, нет! Что ты?! Я же понимаю...» Ах, Валя! Беременность, еще небольшая, на диво шла ей, превращала в какой-то чудный южный цветок, фрукт ли, все более спелый, наливающийся здоровым соком. Теперь, на склоне войны, редко было встретить-увидеть такую женщину. Народ в городе исхудал, обносился, гляделся неказисто, хотя жизнь шла вроде легче тех первых лет. Обвыклись, обтерпелись, приспособились.. И война была уже не та. Здесь, в тылу, вроде бы и вовсе не страшная.
Однажды я все-таки отпросилась из госпиталя навестить дом. Ехала в переполненном трамвае, где пахло мазутом, машинным маслом и телогрейками. Сошла на знакомой остановке Дзержинского, не сразу узнала свою улицу. Пустырь загорожен проволокой, видать, раскопан под картошку. Стоят на нем новые столбы высоковольтной линии. За пустырем ветшалые заборы, совсем развалившиеся за войну дома и домишки. Хозяев тут не было и до войны. Теперь, как видно, не стало совсем.
Дом наш в соседнем переулке с тополями цел. Тоже изменился, глядит по-чужому. Стал будто ниже, нет парадного крыльца, которым ходили мы в свою квартиру. Вместо парадного какие-то лесенки-ступеньки. Вот наши окна. Моя комната. М о я.. Нет, не моя, и не наши это окна. Чужие шторы, чужой угол кровати в окне. Там, где мы жили с матерью. Наш только цветок
– аспарагус. Аспарагус был пушистый, темно-зеленый, и в нем всегда бегали мелкие веселые мошки. Стояла. Смотрела. Не знала, как быть. Зайти? Постучаться? Примут? Ну, примут, конечно. Откроют. Куда деться. Я ведь имею прав о на это жилье. Но люди, живущие тут, давно уверовали, что меня нет, я исчезла, погибла или погибну, и сто раз им наплевать на меня, живую, скорее и лучше бы для них, чтоб я не вернулась. Так будет проще. И
261
может, они даже желают мне этого.
Молодая женщина в шали поверх перманента, в новом пальто, домашнем халатишке, в ладных сапожках на холеных ногах отворила дверь, спустилась с крыльца. В руках ведра, коромысло. Халатишко бесстыдно расстегнут, недостегнут, мелькают штаны, пальтишко прет на бедрах, на губах довольство сытой, здоровой бабы. Эвакуированная лиса. Зыркнула по мне: «Что стоишь? Смотришь?» Не узнала, пошла по улице, помахивая ведрами.
Смотрела ей вслед. Нет. Не мой это дом. Не станет моим никогда. Чужая жизнь укрепилась и разрослась в нем за эти годы, и хотелось только забрать наш аспарагус. Он был тут явно не их, лишний. Он, может быть, и страдал, и ждал меня. Почему-то, уходя, я усмехнулась, зло подумала: «Вернусь, заберу цветок, все равно заберу, а не будут отдавать?.. Выбью окна и унесу! Вот так, по-хулигански – выбью..» Я ведь была фронтовичка. Я ведь изменилась, наверное, тоже.
Побывала и у тетки, которая все испуганно глядела на меня, видно, боялась, спрошу про материны вещи. Но я поняла, не спросила. Зачем? Единственная дорогая мне материна вещь – иконка-медальон – и то по-гибла тогда под бомбежкой. А тетка все жаловалась, как дорого встали похороны. Не напоила даже чаем. «Какой теперь чай! Пьем воду да «морковную заварку..»
вернулась в госпиталь с решимостью – поправлюсь, поеду на фронт,
свою часть. На фронт. Там я.. Теперь, когда здоровье возвращалось, я часто думала об Алеше. За месяц до моего ранения он замолчал, перестал посылать письма, и я не знала, что случилось, – опять почта, опять получу сразу с десяток писем или.. Какая и в чем может быть уверенность на войне? Я ждала. Не было писем. А когда попала сюда, лежала, не зная даже: выживу, останусь безногой? О чем писать, и я не писала.. Поймите. Не могла я об этом писать! Мучилась, плакала, хваталась за бумагу, рвала написанное. Теперь еще перед праздниками послала сразу несколько писем, все-все..
262
Ждала каждый день, всякое утро, спускалась в вестибюль к дневальным, раз-бирала кучу мусоленых, проштампованных треугольников. Ничего не было...
В Белоруссии, уже на границах Польши, шло наступление. И я знала, он там, в зенитной дивизии. А в Белоруссии шло наступление...
Как-то под вечер меня вызвали к начальнику госпиталя. Начальник – пожилая женщина с новехонькими узкими погонами подполковника медицинской службы – была грозой госпиталя. Я видела ее редко, лишь во время важных обходов или комиссий, знала, зовут Мария Семеновна, и недоумевала, зачем могла понадобиться столь высокому начальству.
– Старшина медслужбы Одинцова прибыла по вашему приказанию,
– четко оттарабанила с порога.
Начальница велела мне сесть. Стала расспрашивать, кто я и откуда. Где служила. Потом спросила, сколько мне лет.
– Двадцать один. Не исполнилось еще.
– Двадцать один.. Девочка, и ты уже так навоевалась? – мягко сказала начальница, разглядывая меня. У нее было морщинистое лицо вековухи или домохозяйки-вдовы.
В конце концов она предложила мне остаться в госпитале палатной сестрой. Ждала, должно быть, радости, полной готовности остаться и очень удивилась, когда я напрямик отказалась, объявила, что поеду на фронт, в полк. Такой решительный отказ озадачил женщину, на лице ее на секунду мелькнула тревога, даже растерянность. Как же так? И я поняла: за меня кто-то просил, ходатайствовал, заранее решив, что я останусь и буду благодарна. Очень благодарна. Непонимающее лицо начальницы сделалось привычно служебным, она сухо отпустила меня, предложив напоследок еще подумать. Мария Семеновна была из женщин, не терпящих возражений, что при ее должности, звании и, может быть, жизни лишь подкрепляло врожденный характер. О строгости ее ходили госпитальные легенды: отправила на фронт заворовавшегося повара, лично проверяла закладку в котлы, персонал тянулся перед ней в струнку, замполит не имел своего слова, благоволила
263
она, по словам Вали, только к начфину да еще к Виктору Павловичу, в хозяйстве которого по всем документам и ревизиям был образцовый порядок.
Лишь возвращаясь в свою палату, я поняла, откуда свалилась неожиданная милость. Валя стояла у окна с радостным выражением, сияющими глазами.
– Оставляют?! – Она даже не спросила, как и что.
– Оставляют.. – устало ответила я. – Только я.. не согласилась, потому что поеду на фронт.
С лица Вали медленно сошел румянец. Оно сделалось бело-пятнистым. Она молчала, глядела на меня, как глядят на только что сошедшего с ума, на неожиданную, непредсказуемую дуру. Может быть, я была близка к этому определению. Конец войны. Ранение. И простая логика жизни.
– ...И ты.. это.. сказала ей?
– Сказала.
Валя отвернулась к синему темному стеклу.
– Боже мой, боже мой! – запричитала она. – Боже мой, какая глупость, глупость, глупость! Я так старалась. Столько просила. Унижалась! Уни-жа-лась. У-у... – Она едва сдерживала рыдание. Мне стало не по себе. Стало горько жаль ее. Себя. И в самом деле, что я за человек! Что за дура неблагодарная, непонятная, ведь обязана ей, может быть, жизнью, спасенной ногой. Я обняла ее. Валя и вправду плакала, рыдала редкими, злыми слезами, перемежая их бормотаньем: «Что опять ты наделала! Что ты наделала! Дура! Ненормальная! Хм.. Не-нормальна-я-а..»








