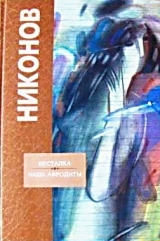
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
Он о чем-то меня спрашивал, но я молчала, ответить не могла, а все слушала эту чужую невнятную речь – речь врагов и стоны. Стонали они все по-русски: «О-о-ох... А-а-а... М-м-м... О-о-ой!»
Вместе с выздоровлением на меня навалилась бессонница. Бессонница? На фронте? Кто бы это мне сказал на передовой, когда мечтала хоть бы раз, хоть бы где-то бы спокойно выспаться. Спать долго, бесконечно, в счастливой отдыхающей истоме. А вот здесь, в госпитале, все перевернулось: днем я еще придремывала под хохот, стоны, крики своих соседей по палате, ночью же сон куда-то исчезал, его будто снимало чьим-то дуновением, я лежала с ясной, трезвой головой, лежала и думала. Как мне теперь быть, если судьба навеки оставит меня немой или какой-нибудь страшно заикающейся, как была у нас в первом и во втором классе вся перекошенная, будто бы переломанная и собранная из непослушных частей, девочка Аня Мальшакова. Рот у ней был скошен на одну сторону, левый глаз страшно торчал белком, и, вдобавок ко всему, Мальшакова еще заикалась, едва
181
говорила. Тянула гласные и согласные, так что ей мучительно хотелось подсказать. Над ней даже никто не смеялся – такой страшной была она во многом своем увечье. По госпиталю я знала: контуженые еще часто глохнут, глухота остается на всю жизнь – лечись не лечись. Но я скорее предпочла бы глухоту моему теперешнему невладению языком: ведь я даже боялась теперь говорить – изо рта вылетало пугающее, невразумительное мычание, больше ничего. Почему мозг мой ясно и правильно говорил все слова, а язык отказывался их произносить? Иногда я совсем тряслась. Что за мука? Быть немой! Лучше бы уж погибнуть, не вернуться, растаять в том звоне или бы хоть спать. Со сном у меня получалось то же, что с языком: хотела спать, дальним каким-то чувством изнывала от тяжести бессонницы и – не могла уйти в этот сон, как в последнее спасение, облегчение моих страданий, моей немоты, молча тряслась на койке, заливала слезами тощую госпитальную подушку. Я ведь не могла даже позвать, да и не хотела никого звать, лишний раз беспокоить. Слишком замотанный, серый, усталый вид был здесь у всех врачей и сестер.
То ли считая меня глухонемой, то ли по другой какой причине, врачи прямо у моей койки устраивали консилиум. Спорили, доказывали противоположное, говоря обо мне как о неодушевленном предмете. Стыд слушать.
– Тяжелый случай! – говорил старший врач, мужчина лет пятидесяти, лысый, изможденный, с ямами щек и обликом язвенника. – Потеря речи с сохранением остальных функций. Не зафиксировано в диагностике.
– Но как же так? У нас же был случай.. – возражал молодой врач-невропатолог.
– Да-а. Но-о... с потерей памяти! Я помню, прекрасно.. С потерей памяти.
– А здесь.. Думаю, что ранбольная должна быть госпитализирована в тыловом стационаре.
182
– Послушайте, Одинцова! Давайте попытаемся.. Ну, сделайте усилие. Отвлекитесь от своей болезни. Ну, повторяйте за мной: а-а-а..
– Ыэ-э.. Эы-ы.. – нечленораздельно тянула я, напрягаясь до боли в затылке, до озноба.
– Нет-нет. Слушайте, повторяйте: а-а-а..
– Эы-ы, – слетало с моего непослушного языка.
– Теперь сожмите губы: м-м-м – повторяйте!
– Эвы-вы-ы, – страшно тянула я. Пот катился с виска, со лба.
Мне было жутко. От этих звуков по спине ходил мороз. Нет, это не я. Это будто бы кто-то во мне издавал звуки немого сумасшедшего. Замечала, что вся палата затихает, следя за моими попытками. Переставали даже стонать и охать. И ловила на себе чересчур пристальный взгляд Галины Борисовны, во взгляде врачихи было жесткое любопытство.
Дня через два, слоняясь по госпитальному коридору, я случайно услышала свою фамилию. Ее повторяли в ординаторской. Слух мой за время немоты как будто даже усилился, обострился, может быть компенсируя эту мою немоту. Я слышала в коридоре, как главный говорил:
– Случай с Одинцовой уникальный! Немота при полном сохранении слуха. (Вот уж правда-то!) Надо оформлять ее в тыловой госпиталь. Здесь мы бессильны.
– А по-моему, она просто ловкая симулянтка! – кто-то из врачей, может быть, тот молодой капитал-невропатолог.
– Ну, зачем же.. Я убежден. Уверен.. Это тяжелая контузия.
– Нет. Симулянтка.. Игорь Данилович. Вы еще не знаете, какие они, женщины, симулянтки.
– Обязательно женщины?! – раздраженный женский голос.
– Не обязательно. Пардон. Но..
– Ну зачем же так.
– И все-таки я проверил бы ее под гипнозом.
– Ее нужно, быть может, лечит ь гипнозом?
183
– Или окликнуть во сне?
– А-а.. Ну, что ж.. Я при своем мнении... Окликайте. Может быть, она заговорит.
Что мне делать? Мороз ходил у меня по лицу. МНЕ не доверяют. МНЕ НЕ ВЕРЯТ! Меня подозревают! Считают СИМУЛЯНТКОЙ! Да. Они были. И симулянты, и самострелы.. Были. И я однажды сама провожала такого, с неразгибающейся ногой, на вокзал. А он, напоследок сунув мне костыли, уже
подножки вагона, из тамбура, хищно-весело улыбаясь, пригрозил: «Смотри, не вякни!» Твердо стоял на обеих ногах. Но это был настоящий симулянт. А я? За что же они меня?
Я кинулась в палату. Схватила бумагу, на которой писала врачам, оторвала чистый лист и, присев на койку, торопливо нацарапала:
«Товарищ начальник госпиталя!
Прошу немедленно выписать меня на фронт, в свою часть. Могу исполнять обязанности санинструктора или сестры санбата. Прошу не задерживать, иначе покину госпиталь без приказа.
Старший сержант Одинцова».
Я взяла эту бумагу и пошла в ординаторскую. Начальника госпиталя там не было. Не было и главного врача. Ушли в соседний блок выздоравливающих. Я бросилась туда, именно бросилась, побежала, пересекла двор – школа была построена в виде длинной большой буквы «П». Я влетела в темные торцовые сени, из них в коридор и пошла, прислушиваясь, надеясь тотчас услышать голос начальника. На меня недоуменно посматривали те, кто стоял у окон, люди с костылями и без них, в халатах, надетых на нижнее белье. Кто-то заигрывал, спрашивал, кого я ищу. Не его ли? В одной из палат в конце коридора мне послышался голос начальника, но в это время из соседней, опираясь на один костыль, вышел.. Не верила глазам. Замерла на месте. В дверях палаты, держась рукой за скобку, стоял старший лейтенант Стрельцов.
Смотрели друг на друга. У меня похолодели ноги, лицо. Еще
184
мгновение, и я бы брякнулась в обморок.
– Лида?! Лида-а-а! – закричал он, отбрасывая костыль и со стоном шагая ко мне.
И в этот момент что-то словно бы хрупнуло во мне, в голове, в том месте, где стояла заслонка.
– Я... Это я... – медленно сказал мой язык.
Ко мне вернулась речь. Вернулась речь, и почти погасло сознание, когда руки, ЕГО руки, обняли, тискали, гладили меня, а губы прижимались ко мне, целовали мое лицо, волосы, брови, глаза, шею, все, куда они по-падали. Я чувствовала, на нас смотрят, может быть, стоят за нашими спинами, и так же, не глядя и не оглядываясь, я поняла, что потом люди стали расходиться, оставили нас одних, слишком хорошо сознавая что-то не свое, деликатное, на что нельзя ни обижаться, ни торчать за спиной.
Кажется, оба мы плакали. Я уж – точно.
И весь следующий час мы говорили, говорили, говорили, полусидя на подоконнике, держась за руки, боясь отпуститься. Я то плакала, то смеялась, то вздрагивала. А он гладил меня, утешал, говорил какие-то необычные, неслыханные для меня слова: «Родная, милая, золотая..»
На свете бывают чудеса. Бывает счастье. Бывает! Бывает. БЫВАЕТ! В ту ночь я крепко заснула. Спала глубоким, провальным, неисходным сном, но он запомнился мне на всю жизнь. Я помню его и сейчас. Странный цветной сон. Он был в одной синей и фиолетовой гамме. Синие тучи. Предгрозовой город. Налет. Поднимающиеся в тучах самолеты. Силуэты падающих людей. Странно. Это были не люди, а только их тени, из пепла. А самолеты на тучах все поднимались ввысь и ввысь, неся странный реверсный след. Я бежала, прячась от этой грозы, своими переулками, вот скоро мой дом, и в нем я укроюсь от грозы и войны, от этих все поднимающихся на тучах самолетов. И вдруг я увидела: с фиолетового неба в переулок падают, медленно кувыркаясь, две утки, самка и селезень. Они были пепельно-серые, плоские, как силуэты и тени, и, не долетев до земли, рассыпались, потому что
185
были из этого плоского полупрозрачного пепла. Кто-то настойчиво звал, будил меня:
– Одинцова! Одинцова! Проснитесь! Я проснулась.
– Назовите ваше имя? – сказал мужской голос.
– Лидия! – сказала я, садясь на кровати, протирая глаза.
– Видите! Я была права! – с торжеством женский голос. Перед моей койкой, казалось, стоит целый взвод врачей.
– Ни в чем вы не правы, – зло крикнула я. – Заговорила вчера.. Палата подтвердит.
В госпитале пробыла еще две недели. Может быть, меня выписали бы раньше, – заболела сестра на сортировке прибывающих, и меня попросили помогать там.
Каждый вечер я шла теперь к Стрельцову. Он ждал меня, и под завистливые взгляды, под горько-веселые словечки мы уходили куда-нибудь подальше от глаз, в угол, в сени, на скамейки во дворе, в ближнюю улицу со старыми, обломанными взрывами тополями. Счастливые часы, когда он рассказывал мне все: свои мысли, детство, прошлое, школу, артиллерийское училище, дни войны.. И как он искал меня. Как боялся, что не найдет. Как радовался, когда нашел в тот первый раз. Рассказывал про тот бой, когда я искала его, а он уже был ранен, отполз в тыл. Его, как и меня, подобрали тыловики танковой армии, которая перешла в наступление, опрокинула немцев.
Меня он считал убитой. Так же, как я его.
– Думал, правда, может, и ранило, – говорил он, поглаживая меня по плечу, любуясь мной. – Написал в твою часть. Ответ не получил. Узнал от раненых, ваш полк выбит чуть не до состава роты. О тебе никаких вестей. Да
где тут. Понимаешь сама. Где тут.. Говорят, держались вы здорово. Все, кто уцелел, представлены, и ты, конечно, вернешься к ордену..
– Да.. Меня уж представляли.. Знаю как.. – рассказывала свою жизнь.
186
Молчал, слушал, оглядываясь, целовал меня в волосы, в щеки, гладил мои руки.
Большего счастья я не знала. Господи, господи! Какие это были необъятно счастливые дни, вечера. И казалось мне, навсегда отступил, потерял значение страшный, неведомый закон – плати за всякое счастье, плати горем вдвойне, втройне, в непонятной степени. Закон этот я только начала познавать, я все еще надеялась на его случайность.
– Может быть, мы поженимся? – спрашивал он. – Хочу, чтобы ты стала моей женой! Моей! Лида? Милая. Родная моя. Жаль, не могу еще.. Встать на колени. Ну на коленях тебя прошу. Лида? Слышишь?
Зачем я упрямилась? Зачем? Не знаю. Не объясню и сейчас. Я сказала, что люблю его, что он у меня единственный. Но замуж не выйду, пока не кончится война. Зачем? Все на волоске.. Вдруг убьют. Искалечат.. Страх челюстно-лицевой и здесь не оставлял меня. Кому я буду нужна.. Без рук или без ног.. Кого тогда винить и спрашивать?
– Не хочешь связывать себя?
– Не хочу.. Хочу быть твоей женой. Вдовой – не хочу.
– Но ведь... – Он чуть не плакал. Я видела это. Дура! Последняя дура
дрянь, и все равно я зачем-то упиралась.
– Лида! Поженимся. Прошу тебя.
Откуда во мне взялось столько твердости, зачем?
– Нет, – отвечала я. – Кончится война, и я буду твоей. Во всем. Навсегда. На всю жизнь! Поклянись только, что и ты не изменишь мне.
– Да что ты? – сказал он, мрачнея. – Лида, Лида.. Как я хотел.. Вот, чувствую, ничего не будет.. Ничего. Вот, думал, меня никогда не ранят. А ранило уже третий раз.. Думаю, что не убьют, а...
– Ой, перестань, перестань! Родной мой, перестань! – заливалась я слезами, целовала, прятала голову у него на груди. Чувствовала – нет его ближе, родней.. теперь и навсегда. – Не говори даже об этом. Ведь я уже один раз пережила все это.. Не хочу больше! Слышать не хочу, не хочу-у..
187
– Ну, что ж, тогда помни, – сказал он.
И была еще одна сумасшедшая, невыносимая ночь, когда мы целовались до самого рассвета в палисаднике, у школы. Алеша не отпускал меня. Не давал уйти. Не то я пишу, говорю.. Губы мои болели. Глаза распухли от слез, а душа будто ожила, как почка под весенним дождем. И в первый раз я испугалась фронт а.. В первый раз содрогнулась, когда вспомнила-поняла: завтра снова туда, на передовую, под пули, осколки, под бомбы. Опять бои, опять раненые, убитые, кровь, трупы, траншеи, землянки, бессонные ночи и тяжкие дни. Но было надо. Тяжкое фронтовое – надо!
XIX
Опять вижу себя на передовой. Уже далеко от тех орловских мест. Далеко. Фронт подкатывался к Днепру, и вместе со всеми шел и шел с боями наш полк, на три четверти новый, незнакомый мне. Остались в ротах кое-кто из командиров, легкораненые, те, что не шли в санроту или вернулись, да еще счастливчики, кого чудом не задело, обнесло, – «заговоренные», и они сами уже верили: так будет всегда. Странно, что и сама я видела эту руку судьбы над ними. Вот сержант Обоянов, большой красивый мужчина из сибиряков-переселенцев, откуда-то из-под Омска. Громаден, мясист, метра два росту, лихие кудри, как бы в постоянной завивке-укладке, знать, предки откуда-то с юга, с Украины. Обоянов даже когда ползет – гора. Воюет с первых дней, а ни одна пуля в него не попадала, не задело ни одним оскол-ком. Болтали: знает «слово», талисман от пуль носит. Иные напрямик спрашивали. Обоянов покатывался, ржал на такие вопросы. Он именно ржал каким-то жеребцовым хохотом: и-го-го-го.. и-го-го-го! – обнажал крепкие, с костной желтизной зубы. «Есть! Айда в сторону, покажу! И-го-го-го-го». Окапывался он всегда лучше всех, даже лопатка была у него какая-то особенная, шире, мощнее обычных, не саперная. Говорили, привез ее из дому, из Сибири. С лопаткой не расставался, холил, носил постоянно
188
спереди, на бедре, для чего пришил к брюкам специальный ремень. Один край лопаты был заточен – чини карандаши, им же резал хлеб, рубил ветки, тесал что надо, – сталь у лопаты словно не тупилась. Окапывался же, как крот, мощными бросками, с какой-то удивительной сноровкой, раза в три опережая других по времени, да и окоп ему требовался не маленький – в полтора профиля. Бывало, и мне помогал рыть ячейку. Пока солдаты долбят, ругаются – он уже сделал дело, сидит в ячейке, подправляет лопату напильником.
– Предмет этот – главный солдату, – говорил он мне, любовно оглаживая железное орудие. – Да я лучше без винтовки останусь, чем без лопатки! Верно, девка.. И в атаку могу без винтовки пойти. Была бы лопата!
Меня он звал «девка», но как-то так, не обидно, просто, по-отцовскому, как зовут в сибирских семьях: «Здорово, девка! Ну, что, девка? Как жизнь, девка?» В одном рукопашном бою, когда прыгали в траншеи, он зарубил лопатой такого же немца-бугая, нанес ему всего один, но страшный удар сплеча в шею, и лопатка же спасла его от минного осколка, осколок ударил в бедро, попал в лопату, посадил на ней вмятину, но не пробил, Обоянов остался цел. После этого случая всем лопату показывал, целовал, только что не молился.
Обоянов мне первый помощник. Надо погрузить раненых – прошу его. Надо дров – достанет из-под земли, устроиться в землянке – опять он тут. Было у него одно качество, редкостное для мужчины, да еще на фронте. Он удивительно равнодушен к женщинам, и, может быть, именно потому я к Обоянову обращалась, даже тяготела, хоть был старше меня раза в два. Он не раздевает меня глазами, не подглядывает, куда, зачем иду. Иногда от других хоть сквозь землю проваливайся, гони (и гнала!), не помогало. Обоянов не пытался обнимать, толкнуть, хватнуть, не лезет с нежностями, не стелет шелком, не ждет и благодарностей. Помог устроиться, подкопал окоп, подтащил укладку с йодом, бинтами, пакетами, самодельными шинами, которые я научилась делать из любых палок-щепок, – раз, помню,
189
использовала для этой цели ухват, перевязывала раненную в ноги женщину в какой-то безымянной разоренной деревне, – и один у Обоянова на все ответ: «Айда, девка, шлепай дальше!» Помог, и уж нет его, не торчит с ожиданием улыбок и еще каких-нибудь подобных милостей. В общем, улыбок-то не жалко. Да начни улыбаться, только начни тому-другому – и затокуют, не отвертишься. Начинают липнуть, обхаживать, караулят каждый шаг. Понимаю, мужчины, я – одна на всех, всем хочется, чтобы я была с ними. Тоскуют, с ума сходят без женщины, обходятся кто как, глупости творят – чего не увидишь, не услышишь. В вещмешке убитого старшины Загорова нашли женскую рубашку и панталоны, видимо, с жены, с ними он спал, не расставался. Осудить, осмеять – легче всего.. Об этой странности Загорова знали, может, только не верили, потому и полезли в вещмешок. Таскали и у меня что попадет, чаще такое, что мужчинам вовсе вроде ни к чему.. Не хо-чется об этом вспоминать, а помнится. Фронт. Иная, непохожая, вывернутая словно бы всей изнанкой жизнь – подобие жизни, так было во всем: подобие сна, подобие отдыха, подобие работы, когда копали укрытия, строили землянки и блиндажи, подобие удобств – коптилка из пэтээровской гильзы, снарядного стакана, хорошо, если свеча или немецкая осветительная плошка, штык вместо ножа, консервная банка взамен кружки, подобие еды – то густо, то пусто. Только раны, кровь и смерть были настоящие, и смерть прилетала в виде самом реальном: пуля, осколок, рваный металл, какая-нибудь, бывало, совсем невзрачная, невеликая коржавина-закорючка. Убивало и просто взрывной волной, вышвыривало из траншей – ни царапины, а убит.
Вот часто слышала вопрос: «Тяжело женщине на фронте?» Как можно ответить: «Да, тяжело, очень тяжело, может, вдвойне, втройне, чем солдату-мужчине. Храбрость, мужеств о – вроде бы тоже не женские понятия...» Можно ответить и противоположно: «Легко! Все тебя понимают, все помогают, уважают, любят, захочешь – на руках будут носить, здесь и не до красоты особой (с красотой, наверное, вообще не дай бог!), здесь лишь
190
бы женщина, не старуха..» Вспоминается, к случаю, рыже-белесая сестра-толстуха, что прибыла в санроту вместе со мной. Здоровенная, неопрятная, рядом стоишь – пахнет, грубая до наглости. Солдаты звали Настюхой. Была санинструктором в соседней роте. О Настюхе рассказывали не таясь. Молва на весь полк. Что тянуло к этой противной, ругливой девке? Неряха, дрянь, растопыра – меряю, может, беспощадно, по-женски. А шли, не брезговали, знали заранее – не откажет никому. Грешная мысль грызет: может, так и надо было? ЕЕ правда – вот в этой как бы жизни, когда у меня, медика, под ногтями ничем не отмываемая, въевшаяся в тело окопная грязь, голос простужен, колени и локти в мозольной коже, огрубело, очерствело на ветрах и морозах лицо, может, ее правда, когда живешь, не знаешь, будешь ли завтра хлебать из котелка, пришивать какую-нибудь оторванную пуговицу, считать оставшиеся бинты. Да что там завтр а – для огневой это слишком долгий срок.
Фронт, передовая – здесь было все: умирали зря, подрывались на собственных гранатах, трусили, лгали, подставляли под пулю другого, чтоб не попасть самому, не выполняли приказ – бросили же меня те солдаты, – да и приказ-то ведь всегда пахнет жертвой, кровью, все эти: «Взять! Подавить! Обезвредить! В атаку!» Но думаешь трезво: «Да если б только на том одном держалось – на подлости, на трусости, на страхе, – разве бы одолели? Нет, держалось все на долге, на храбрости, может быть, на отчаянии, на честном, святом, на совести, помощи, сострадании, вообще на всем, чем сильны человек и правда». Не пишутся как-то такие строчки, читаю, кажутся выспренними, а все-таки: так и был о. ТАК И БЫЛО.
Поздний вечер.. Ноябрь.. Темнеет скоро. Кровавая заря светит впереди, за большой рекой. Река эта – Днепр. Свистят, ухают где-то на том берегу наши снаряды. Свистит и поблескивает оттуда. Днепр. Вот ты какой! Страшная, налитая алой кровью вода. А почему-то лезут, вспоминаются школьные, гоголевские сравнения, строки: «Чуден Днепр при тихой погоде...» Вот она и погода, может быть, тихая. Тучи. Заря. Только вдали и
191
повсюду грохот орудий, над рекой то там, то тут гул и плеск. Пашет, буровит дальний берег тяжелая артиллерия, передовые части полка уже у воды. У берега даже и не разглядишь реку, не поймешь в темноте, как широка. Стух закат, и вода наливается масляной чернотой. Жуткая, идущая из тьмы и во тьму текучая масса воды в дикого вида берегах, в темноте осенней холодной ночи. Блещут, освещают небо и воду вспышки, но тем страшней, безотрадней эта вода, на миг-другой подтверждает свою гибельную суть. «Чуден Днепр при тихой погоде...» Приказ: «Форсировать с ходу!» Где-то левее нас уже, видать, форсировали: полыхает и светит, рябит вспышками, воют и плещут, бухаясь в воду, мины. «Чуден Днепр...» А лучше бы сейчас в землянке, в траншее, даже пусть бы здесь, под обстрелом на левом берегу, но все-таки на земле, а не там, на правом, куда еще предстоит добраться – добраться и мне, только не знаю как. Зло, нестерпимо блестит оттуда огонь, снаряды шьют воздух, мины сюда вроде не долетают, не рвутся в реке, не достает и ружейный огонь. Но ведь надо – туда. Слева от нас полыхает и грохочет: не поймешь уже, бьют ли наши, огрызаются ли немцы? Ручейки трассирующих, взрывы, пулеметные точки полощут смертельным цветком. Минометные батареи мигают, как чей-то едкий глаз. Миг, миг, миг! – и, уж знаю, сейчас запоет, заноет, завизжит, подлетая: «Тья-у! Тья-у! Тья-у!» Падай. Ложись. Успевай.. Не успел.. Осколки стелют над самой водой, крошат пологий берег. «Миг-миг-миг!» Опять: «Тья-у», «Тья-у», «Тья-у». Повизгивает там смерть, есть ей, ненасытной, добыча. Батальоны идут. Рота за ротой.
Скатываюсь с пологого пригорка к берегу, пытаюсь вскочить, стукаюсь коленом обо что-то, вроде какая-то разбитая, брошенная техника, звенит под ногой чья-то каска, спотыкаюсь о труп, другой, вроде немцы – некогда смотреть. Мое дело – живые. Наша рота уже начала переправу, заранее готовились, несли к берегу, прикрываясь, – глядь, и спасет! – доски, щиты, бочонки из-под яичного порошка – все, что могло плавать. У воды перевязываю какого-то сержанта, не из наших. Ранен в руку, легко, сам
192
перевязаться не может, рука правая. Перевязываю. Спрашивает: «Сестренка! Как мне теперь плыть? А? Как?» Успокаиваю, что плыть не надо. Сама думаю: «Этого хоть не тащить..» А может, лучше бы и тащить, пока что, а Днепр уже взяли бы, переплыли. Вот, пишу откровенно, и такая мысль вертелась. Чего уж! Живая.. Да и не обязана плыть с первыми. Должны бы переправить, помочь.. Но давишь эти мысли, давишь, загонишь подальше страх. Кругом люди, бойцы, наши. Лейтенант Глухов уже с передовыми плывут. И я должна быть с ними! Должна.. Только как? Нет, я умею плавать. Умею, к счастью. Отец учил. Но учил-то где? В мелкой речке за городом. Мелкая речка. Везде и посередине будет до пояса, в самом глубоком месте – под горло. Теплое лето. Песок под ногами, теплая рябь, быстрина. Треск стрекоз. Отец отплыл до мостика. Стоит. Ждет меня. Манит. Я плыву, задыхаюсь, бухаю ногами. Волосы по спине. Мокрая голова. Наверное, похожа на собаку. Доплыла. Держусь за отца. Счастлива. Сияю. Там – речка в двадцать шагов.. Здесь не река – речища, холодная, глубокая, неостановимо властная, в сполохах смертных огней, в опадающей тьме. Там был отец, с которым не умей плавать – не утонешь. Здесь.. Кто мне поможет? Господи, господи.. Тут ширина и не полкилометра, не километр – словно бы все десять. С нашего берега начинают бить «катюши». Страш-ными блескучими полосами полыхает небо. Восторженно орут бойцы. На том берегу адский свет. На секунды светло. Бушует кромешный ад. А я вижу, как с берега длинными рыбами прыгают в воду.. Что это? Не могу понять. Живое, жуткое. Догадка потом – неразорвавшиеся снаряды «катюш». Говорят, они бегают и по земле. «Катюши»! Небо опять озаряется. Слышится будто бы тонкий сверлящий писк. За ним: «Шов-шов-шов-шов! Шов-шов-шов-шов!» За ним грохот, сминающий, торжествующий. Что-то мелькает, взлетает и падает в гаснущем огне. Страшно. Орут солдаты. Плещут взрывы.. Свистит, вилькает над головой. И опять черными рыбами прыгают несколько снарядов. Свет.. Свет.. Свет.. Облака огня на том берегу.
Говорили, Сталин приказал сосредоточить на Днепре всю возможную
193
артиллерию, авиацию. Где теперь мой Алеша? Мой, господи.. В этом вот аду. Может, уж не мой. Господи? Нет-нет! Не думала так. Нет. Мой. Жив. Должен быть жив. У него даже больше сейчас шансов уцелеть. Вот и хорошо. Пусть он останется. Пусть живой, невредимый.
Лежу за камнем у кромки воды, вижу, как на правом берегу смешиваются свет и тьма. Кажется мне, теперь не осталось там не только живой души, нет живой мыши, травинки, ничего нет, кроме дыма, пепла. Начали переправу другие роты. На плотах, на заборах, на бочонках, надували вещмешки, держались за бревна. Я совалась вдоль берега, пока не увидела моего спасителя. Обоянов волок какой-то обломок, звено ли дощатого забора, тащил ко мне, отбиваясь от пристающего солдатика, из новых.
– Не для тебя.. Иди ты.. Бог подаст. Сам ищи! Лидка, девка? Поехали! Бросил плот в воду. Стягивал сапоги. Автомат на шее.
– Плавать умеешь? Сюда шинель, сапоги, сумку.. Лишнее все сымай! Юбку давай! Да ну тебя к черту! Не штаны ведь! Юбку, говорю, снимай! Потонешь в юбке. Ну, отвернусь.. Утонешь в юбке, говорю. Ноги сведет. Каску сюда! Держись за плот. Грудью навались, ноги чтоб свободно в воде. Ногами толкай, сколько сможешь.. Я остальное.. Плывем..
«Чуден Днепр при тихой погоде...» А вода ледяная. Сперва будто до сердца доходит. Потом вроде бы обвыклась – даже жарко.. Плывем. «Чуден Днепр..» Далось же.. Там, на немецком берегу, все-таки есть жизнь. Опять мяукают, жахают по берегу мины. Плещет-летит что-то: не знаю, вода или осколки. Дергает плот. Бьет их артиллерия. Колеблется плот. Светает как будто уже над Днепром. Брезжит. Слышу сейчас только плеск, шумное дыхание Обоянова. Бью ногами, промокла до грудей, ломит, каменеет в воде тело. И плот отяжелел, будто погружается. Судорога сводит ногу в икре. Рядом пыхтит Обоянов.
– Плывем, девка! Ничего.. Скоро уж.. Половину одолели.. Сносит река.. Быстрина тут.. Держись..
Господи?! Неужели только половину? Берег и впрямь почти не
194
приблизился. Или кажется? Теперь я по грудь в воде. Плот будто тянет вниз. «Чуден Днепр...»
Цепляется рядом кто-то. Крик:
– Ба-а.. Ба-а-тцы!
– Держись, с-сука.. Держись! – ругается Обоянов.. – Держись, ты.. Но тот, кто цепляется, висит недолго. Видимо, окоченел, ослаб. Не то
отстал. Уже нет никого, только плеск позади, видимо, плывет.
меня уже нет тела. Все оно слилось с этой тяже лой, холодной рекой.
ничего мне уже не страшно. Утону. Останусь. Убьют..
– Ничего. Держись, девка! – хрипит Обоянов. Толкает плот. Медведь. Милый. Что бы я без тебя?
Приблизился берег. Навис чернотой. Вдруг напарник мой встал в воде. Дно-о!
Отпустилась от плота. И сразу с головой. Хлебаю воду. Забыла, что он под два метра. Слышу его руки. Вытаскивают меня, волокут к берегу. Не могу переставлять ноги, а он идет, толкает плот, меня держит, как куклу. На берегу солдаты собрали миномет. Кто-то разводит под крутояром огонь – сушиться. Все мокрые, но в шинелях. Я, можно сказать, голая, в гимнастерке,
измокших бабьих штанах.
– Грейся! – Обоянов сует шинель, юбку. Юбка чудом сухая. – Надень! Штаны сними.. Без них сойдет! Под берег давай. От воды.. – Схватил автомат. Убежал.
Над нами сыплют трассы. Начинают ахать и наши минометы. Один, другой, третий. Немцы выходят на фланг. Бойцы ложатся. Кто-то матерится. Кто-то кричит. Кто-то охает. Где-то там, вверху, идет бой, туда лезут, исчезают, падают, снова лезут, скрываются за дернистым обрывом.
Мимо кто-то бежит. Наш комбат.
– Чего улеглась! – узнает. – Дура! Под берег! Под берег!!
Хватаю шинель, вскакиваю, бегу под обрыв, вижу, как справа впереди полощется желто-белая звездочка. Шьет трассу. Это немецкий пулеметчик.
195
Откуда? По тому месту, где только что был комбат и я, щелкают пули. Мокрая, трясущаяся, лежу под обрывом. Соображаю, как надеть юбку.. Грохот боя растет. Пулемет заглох. Осекся. Вдруг мне словно бы послышалась немецкая речь. Неужели немцы подходят? Неужели все, кто взобрался на обрыв, погибли?! А Обоянов? И капитан?? Где моя сумка с гранатой? Я же.. оставила ее на берегу. Сумка! А в сумке пистолет, граната без запала. Запал – вот он, в кармане гимнастерки. Слышу, как наверху грохают гранаты. Стучит пулемет. Не могу надеть юбку! Руки трясутся. Этот вроде – наш. У немца другой звук. Вроде бы наш! Наш!! Не могу надеть юбку..
Светает, а к берегу новые, новые, новые плоты, лодки (откуда они?). Прыгают в воду, с плеском бегут солдаты. Волна за волной рвут воздух, мелькают черные «Илы».
Юбка надета. Сбрасываю шинель. Вскакиваю, бегу к сумке, хватаю ее. Теперь снова шинель, каска.. Лезу к обрыву. Там кричат. Надо быть там. В мрачном свете ноябрьского утра река темная, снеговая, отсюда и не широка. Что так долго мы плыли?! Светает.. чуть рдеет в тучах. «Чуден Днепр...» Гуляют по нему фонтаны. А к берегу уже плывут понтоны, пехота, пушки...
Говорили: первым за Днепр Сталин приказал давать Звезды Героев. Кто получил их в нашей роте? Не знаю и теперь. Не видела больше ни ротного, ни Обоянова. Когда переправила на левый берег раненых, оставили в санбате операционной сестрой. Сказали – временно, пока батальон не получит пополнение. Позднее узнала, ранен комбат, ранен старший лейтенант Глухов. Обоянова эвакуировали в другую санроту, получил оско-лочное. Еще один «заговоренный»..
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЕЩЕ ДВА ГОДА...
мире были и столетние войны. Может быть, человечество никогда не
196
прекращало воевать с тех пор, как человек вошел в стадо, составил стаю...
Или это было еще раньше: война во имя защиты, во имя пропитания.. Открылось недавно – человек жил пять миллионов лет назад! Следы показали: пять миллионов лет человекоподобный с дубиной гонялся за маленьким предком современной, теперь вымирающей лошади. Предок лошади бежал с детенышем, предок человека – с камнем. Остались следы. А раньше того? Что было раньше? Немо молчит загадочная наука палеонтология – повесть о древних костях, следах былой жизни под этим солнцем. Чьей волей эти двое, СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ, родили миру всех живых и заповедали им закон жизни – самоутверждение на воде, на суше, в воздухе.. Немо молчит антропология – наука о прошлой жизни существ рода «хомо». Знаем, был питекантроп, синантроп, австралопитек, были гиганты, были пигмеи.. Явился миру и хомо сапиенс. Человек разумный. И недолго было назвать его сапиенс, да вот не поторопились ли...
Война горела по всему эллипсу планеты, как дикий, раздуваемый всеми ветрами пожар. Горела на суше, грохотала в воздухе, горела на воде. Высаживались солдаты на Новой Гвинее, на коралловых кольцах, в знойных песках, умирали в русском – мирнее не может быть – поле, клали голову в русском лесу, где только бы петь дроздам, шелестеть ветру. Линкоры и крейсеры на водной хляби плевали пламенем чудовищных пушек. На лифтах вздымалась, вкатывалась в казенники неподъемно-тупая, нерассуждающая смерть. С плоских палуб диковинных гигантов срывались начиненные смертью сигары. Тупорылые чудища, посверкивая красным дьявольским огоньком, взмывали в воздух с полигонов Нормандии единственно затем, чтобы, набрав высоту, плавно склонить нерассуждающую дюралевую голову, рухнуть на очередной людской муравейник взрывом и гибелью тысяч неждавших, оправдывая хищную волю-мечту маньяка, попивающего кофе с пирожным в подземном недосягаемом убежище, под защитой стальноголовых нерассуждающих автоматов.








