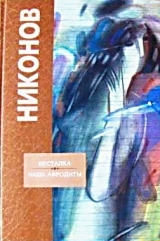
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Так думаю я, пока Маргарита Федоровна ощупывает мою грудь равнодушно-костлявыми, холодными пальцами врачебного манекена. Мою грудь она также принимает за неодушевленный предмет, давит, тычет в соски. В общем, грудь действительно почти такая – что-то закаменелое, застылое, и я боюсь за маленькое, не очень даже крикливое розово-красное существо, похныкивающее и возящееся у моей груди. Оно возится, припадает, жадно тянет бескормый сосок и, не найдя нечего, к чему толкает его голод, заходится пустым, отчаянным криком. Крик режет меня, отдается
314
в груди. По вискам, в ране на животе. Это мой крик! Это плачет от голода и обиды часть моей души, моего израненного тела. И когда сына отнимают, уносят и я сквозь слезы смотрю, вытягиваюсь, стараюсь запомнить крик, все думаю и боюсь: хоть бы не подменили, не спутали там, куда его уносят, за белыми дверями с марлевой сборчатой занавеской, где почти не стихает перекличка младенческих голосов.
В палате уже третий раз сменился почти весь состав, родившие уходят, убываю т счастливые и грустные, самоуверенные и растерянные, похорошелые и подурневшие, выбеленные родовыми муками – всякие.. На их койках в тот же день новые с новыми именами: Катя, Вера, Татьяна, Светлана, Мария, Зинаида. Много здесь женских имен. Я даже не пыталась всех запомнить. Прически, халаты, разная стать, возраст, полнота, но в общем-то и что-то одинаковое, как одинаковый голубой цвет палатных панелей, коридоров, беленый тон потолков, запах хлорки, йода, больничных щербленых суден, которые нянька со злобным ворчанием нехотя выносит. В палате будто ничего не меняется. Один и тот же пасмурный зимний свет в окна, женские головы на подушках, завтрак, обед, кормление, разговоры о родах, детях, мужьях, карточках, о минувшей войне, кто-то убит, кто-то без вести, кто-то пришел инвалидом. На меня эти приходящие-уходящие смотрят странно – вроде бы жалеют (я единственная раненая из поступивших сюда беременных), но, с другой стороны, это мое ранение и положение, разговоры врачей о нем рождают во всех взглядах, обращенных ко мне, примерно тот же вопрос, какой я вот только что напрямую слышала от старухи няньки.
Прибывают и уходят женщины. Остаюсь я да еще красивая, плотного склада девочка-татарка, школьница из девятого класса. Темненькая шатенка, чуть, в самую красоту, раскосая, яркие большие розовые губы, смугло-розовый овал щек, глаза с постоянным присутствием чего-то птичьего и ночного. Такими девчушками, наверное, увлекались старые ханы. Девочка в родильном явно по глупости. Кто-то уговорил, обольстил, «попользовался», скорее всего одноклассник. Да кого сужу? Врачи и Маргарита все
315
допытываются у девочки довольно бестактно. Она молчит. Она одна. Никто не приходит к ней. Рожала вместе со мной на соседнем столе. Очень тяжело, еще хуже меня. Я вся из -за раны улилась, подплыла кровью, но лежала молча, удерживалась, а девочка билась, крутилась, сбрасывая простыни, обнажая невиданно красивое, литых овалов тело с грудями вверх, и этой ее юной, безумной красотой, как показалось, жадно любовался парень, врач-практикант из студентов, принимавший роды. Люди везде остаются людьми: мужчины – мужчинами, женщины – женщинами. Этот врач, Игорь Михайлович, и сейчас каждый день заходит к Ире (так зовут девочку), что-то спрашивает, лезет смотреть, а она упрямо, угрюмо сторонится его, тянет на себя одеяло. Он ей противен. Может быть, кого-то и что-то напоминает. И, краснея, он уходит своей докторской смешной и словно пристыженной походкой. У Иры – сын, как у меня. И у нее тоже нет молока. Болят разбухшие груди, ночью она детски, с хныканьем плачет, во сне кричит по-татарски, а днем молчит, каменная, взгляд неподвижен, в потолок. Иногда быстро встает, уходит в коридор и там, согнув плечи, стоит у окна.
Новая соседка по койке, опытная большая женщина, кажется мне старухой лет пятидесяти. Зовут Алевтина Ивановна Кошкина. На самом деле ей, конечно, меньше. Поняла это позже, потом. Она из деревни, приехала в гости к сестрам, да здесь и родила не то пятого, не то седьмого сына. У нее морщинистое, в клеклом деревенском загаре лицо, в гусиных лапках у глаз. Веселое лицо неунывной, знающей бабью жизнь крестьянки. Густые ржаные волосы собраны в большой узел и, кажется, пахнут овчиной. Крепкие, с костяной желтью зубы. Глаза голубые, неяркие. Спокойные глаза. Смотрят уверенно. Мир ясен. Все просто на земле, говорит этот взгляд. И женская доля тоже проста. Родись в избе или в поле, качайся в зыбке, кормись у материнской груди, бегай летом по лужам и по траве, зимой до соплей катайся с горки, подрастешь – паси гусей с хворостиной, поросят, телят за околицей. Дои корову, копай картошку. Радуйся праздничной обновке. Пляши, когда пляшут, плачь, когда ревут. Выйди замуж без долгих раздумий.
316
Жених – вот он, из соседних парней, вместе росли. И делай материно привычное дело: вари щи, стряпай пироги, роди, ходи в баню и на ферму, на знакомую работу. Пестуй, корми маленьких. Получай грамоты с Красным знаменем, с Лениным-Сталиным в золотом кружке. Строжи младших. Рано становись бабушкой, когда у первого внука и у твоего «поскребышка» почти одни года. Старься в заботах. И так до холмика на сельском беспечальном погосте, сперва неприютно глядящего голой глиной, а там уж и такого, как все прошлые, затравенелые, иные уж и без памяти, без креста.
Вот что, грешно, быть может, читала я, научившись за долгие госпитальные, больничные дни задумываться о людской судьбе, меня даже странно тянуло к этому, как, может быть, тянет гадалку, потому что над собственной судьбой думать, перебирать ее подробности и печали давно надоело, – все уж перетрогано, вспомнено, и то, что было до того страшного, как взмах меча, дня, до которого у меня было ясное детство и юность, отец и мать и ощущение вечного, незыблемо-спокойного счастья жизни, и то, что отложилось по другую сторону – сползающая в пропасть безумия мать, госпиталь, челюстно-лицевая, возчик Кузьма с его дрогами, эшелон, ад бомбежки, дуга, Днепр, бесконечные дни наступления, те сломанные ворота усадьбы под Цоссеном и давящее дуло трофейного «вальтера», что без жалости вырвала у меня сильная, озлобленная рука.
Кошкина тоже приглядывается ко мне. Пытается разговаривать, да у меня словно не ворочается язык, отвечаю нехотя, самой за себя стыдно, а Кошкиной будто все интересно. Узнав, что нет молока, озабоченно посочувствовала:
– Ты воевала, стало быть? Эко натерпелась! На вот.. В боях была? Ну, как.. рана раз дак.. И ранили, вишь, тебя не ко времю. Рана, конечно, чо говорить, палец порежешь, и то.. А только здря оне тебя пугают (она говорила по-деревенски «толькё»), здря врачи-то. Не в крове дело. В нас, бабах, ее много. И не сендром некакой. Выдумали чо! Сендром какот.. Маргарита-то Федоровна.. Сама она сендром. Ты, однако, девка, видать,
317
была.. Забеременела-то сразу. Так аи нет? Видно, ты еще из робких.. Я ведь вижу. Ну, вот, груди-то у тя и недоразвитые. С парням ты не терлась, видать, по вечоркам не гуляла. И с мужиком ладом не жила. Вижу! А вы, бабы, не смейтеся. Дело житейское. Вон, Ирка-то мается, у ее ведь такая же причина. Груди у женщины не сразу в силу входят. Сендром.. Я вот, помню, до взамужа худоба была и не бойка – тихоня. Здесь вот мужику и вовсе не за чо взяться было. Ей-бог.. У подруг – в бане, бывало, моемся – видала, какие у их, а у меня стыд сказать, кукиш будто. Вот я и поплакалась тогда матушке. Некрасивая, мол. А мать как всхохочет – смешливая баба, царство небесное,
– ты, грит, Алька, не куксись, а от парней не обороняйся, парням, говорит, щупать их давай. Живо вырастут. Право, бабы.. Ну, чо? И верно ведь. К тому времю, как взамуж вышла, рожать подошло, дак эвон чо напарило! Прямо не знаю, куда с имя деться. Бегать из-за них даже тяжело. Любую кофту расстегивают. Глядите, не жалко. – В проем рубахи обнажила свои огромные, как две дыни, желто-розовые груди с коричневыми пятнами, длинными сосками, – торчали как козьи.. – Видали?! – улыбалась знающей бабьей усмешкой. Всесильная. – Седьмого кормлю, а еще на двоих молока-то. Сдаиваю, отдаю.. Давай-ко твоего стану кормить. У меня не убудет, а мягше будет. И не бойся, здоровая, здоровья-то и твоему отделю. На материном молоке росла, на ржаной корке. Нас, бабы, мать молоком когда до третьего, а то и до пятого года прикармливала. Все, бывало, бегали титьку просили. А она этим от беременности сохранялась, лишний раз не беременела, пока кормит дак..
И опять улыбалась Кошкина улыбкой всезнания. Не так-то ты и проста...
С неделю она кормила моего сына, пока вдруг у меня самой груди не взбухли от запоздалого молока, их ломило расширяющейся болью, и я маялась, училась сдаивать молоко, а потом маленькое родное существо об-легчило эту задачу, усмирило боль. Я наконец-то с ощущением, близким к страху и наслаждению, почувствовала себя кормящей и матерью. Словно бы
318
только после этого, после, когда сытое и переполненное взятой от меня моей сутью, чмокающее существо уже без крика, без сверлящего душу вопля засыпало у груди, мое, неразрывное, рожденное и накормленное мною. И может быть, это кормление перестроило всю мою сущность. Тише ныли, зато остро свербели, заживали раны. Уже и через кашель едва ощущала укол в пробитом легком; сошлась, закрылась длинная, как жадный рот, рана на животе. Все налаживалось, и уже побелело, осмысленнее словно становилось в младенческих улыбках лицо сына, – он узнавал, тянулся, едва приносили кормить. Теперь меня в скором времени могли выписать, попросить и предупредить, чтоб освобождала место. Шел уже третий месяц моего пребывания в роддоме. Этой выписки я боялась больше всего. Долила, ломила голову мысль: куда пойду? Где устроюсь? Думала об этом дни и ночи. Куда? Что? К хамлюге беженке, на свою квартиру? Но квартира давно уж не моя. Там укоренилась чужая жизнь. У меня нет ведь даже никаких документов на то жилье. Судиться? Доказывать? Идти в военкомат? Господи.. Да если б и были какие-то права. Как смогу жить-быть с противными мне людьми, рядиться с ними, искать сочувствия? Нет. Не смогу. Не хочу! Я бы лучше, наверное, выкопала землянку, как на фронте, приспособила какое-нибудь ведро под печку и жила – была и такая глупая мысль, – разве мало прожила я дней и месяцев в каких-то норах, ямах. Одна-то пробилась бы и здесь. Да ведь теперь.. У меня есть еще двоюродная тетка. Она бездетная, ладно прожила с мужем войну – муж был по брони на заводе. Когда заходила к ним в позапрошлом году, поняла: перепугались, считали минуты, пока уйду. Жизнь без детей превратила их в мелких, скаредных людишек, глухих к любому чужому горю. Муж тетки в войну отрастил бороду, спрятался в нее, дома носил рубахи заплата на заплате, ватные штаны, какие бросают на помойки. Тетка наряжалась не лучше. К ним не пойдешь, даже смешно подумать. Дядя – материн брат – жил до войны богато, широко, помнится, был коммерческим директором на каком-то консервном, молочном ли заводе, и уж совсем хорошо помню, как еще в
319
начальный год войны дядя приносил матери – только что с базы – отрезы шелка, новые валенки, резиновые сапожки, кротовую доху. «Продашь за столько-то! – говорил, утирая лысину красным платком, лицо, отдаленно лишь напоминавшее мою мать, было жадно, деловито. – Что сверх возьмешь – твое.. Надо ведь вам помочь.. Понимаю. Но.. Знаешь сама.. Меня – никуда: ни-ни. Свое продаешь в случае чего.. Поняла? А что сверх
– твое...» Но даже я понимала – ничего такого «сверх» не получится. Дядя, как никто, знал рыночные цены. Назначал верхнюю. Мать – родная сестра
– нужна была, стыд сказать, как подставка. Спекулянтов на рынке ловили. Рисковала многим – вещи новые, из-под прилавка. Помнится, доху мать вернула – никто не давал за нее и то, что заламывал дядя. С валенками получилось хуже. Как сейчас вижу, мать пришла с рынка белее мела, закусив губы, в слезах. «Что?» – бросилась к ней. «Валенки..» – пробормотала она, опускаясь на стул. «Что – валенки?» – «Украли.. Подошли двое, взяли смотреть. Подала один.. Второй парень другой взял. И оба в разные стороны. В толпу.. Куда я за ними? Как!»
Плакали обе. Дядя, узнав, посерел, почернел. Денег, правда, не требовал, но и заходить перестал вовсе. Не поверил родной сестре. Даже не знаю. В войну он, кажется, преуспел. От тетки слышала, купил дачу, держал домработниц. Тетя Надя – дядина жена – и до войны на ушко жаловалась матери, у дяди всегда были молоденькие любовницы...
«Ну что? – раздумывала. – К дяде? Попрошусь, хоть на квартиру, пока устроюсь? Вот так, с ребенком, и явлюсь? В шинели? Здрасьте? Нет, он не скажет «навоевала», может, и не выставит за порог, но.. Заказан этот путь. И почему, в самом деле, кто-то должен тесниться из-за меня, расхлебывать мою кашу? Сама виновата...
Куда я? К кому? С приданым. Может, к му-жу? Тогда ведь кричал: «Женюсь». Хм.. женится.. Но даже разыскивать Полещука – подумайте только: разыскивать – нет нужды, во-первых, ненавижу, ненавижу его – уж теперь-то знаю точно, видеть не хочу, не только искать, а во-вторых, разве не
320
слышала: «Полковника убило!» Значит, скорей всего, и нет его. Нет Полещука. Только почему полковника? Ну, второпях крикнули. Раз полком командовал, значит, полковник. От мыслей жгло голову, хуже, чем от ран, копилась в груди мука. Да если б и жив был, и знала где – разве бы написала ему, поехала? Да ни за что! Одни его уши, зубы видеть не могла. Вдруг у маленького будут такие? Желтые, с клыками? Вдруг будет копия – Полещук?» Мысль окатывала холодом. Утром, когда приносили кормить, оглядывала, ощупывала розовое тельце. Какие ушки? Не торчат ли? Вроде бы нормальные. Зубов нет, а ушки мои. Как у меня. Светлые-светлые волосики – тоже мои. И глаза младенческие, в голубую синь, недоспелые черничинки.. Нет, не Полещука. Не те, не его. Глаза, правда, женщины говорят, меняются, волосы темнеют. Но пока это мой сын. Мой. И будет на меня похож. Будет только мой. Про себя уж назвала его Петром, Петенькой, как моего отца. А отчество... Пусть будет Алексеевич. Пусть по Алеше? Грешно? Стыдно? Да, грешно... Господи, господи! Вот, совсем как мать, призываю всуе имя Божье. Замолилась. Она-то была верующая. А я.. И ее подарок – иконку – не сберегла, и себя – тоже. А ведь береглась. Не сдавалась. Сколько рук оттолкнула.. Бывало, и кулаками, и ногами приходилось отбиваться. И Алешу тогда оттолкнула. Не стала женой. Не стала вдовой. А кем? Кем стала? Ке-ем? Дура! Гадина. Сейчас, может, хоть его, Алешиного, сына кормила бы, хоть так остался бы он со мной, грел душу. Казнила себя, тряслась в ночных рыданиях. Ночью все безысходно. Ночью нет просвета. Ночь для дум – худшая пора. Что за судьба? За что такое? Мать и бабушка говорили – наказание человек несет за грехи, по заслугам. Что же я такого нагрешила? Нагрешила. Лучше бы уж погибнуть. Не вернуться... Уцелела. Третье ранение – и уцелела. И еще вот так.. Такой..
Темная февральская глушь за окошками. Долгая-долгая тьма. Я
– мать-одиночка. Одиночка Одинцова. Все сошлось. Болят все время, напоминают прошлое раны: колет в боку, отдается в опустелом, одрябшем, не моем будто животе. Хрипит на вздохе и выдохе грудь. А я живу. Не сплю.
321
Где-то далеко, внизу, в родильной, кричат женщины. Творится жизнь. А ведь и это не мед, ух как больно – рожать. Мальчика я родила. Правда, худенького... Вес ниже нормы. Врачи говорят: ничего, вес наберет. Бывает хуже. А он за первые дни, без моего молока, еще потерял. Спасибо этой Алевтине Ивановне. Храпит сейчас рядом. Спит – заслушаешься – мотор работает. Ест тоже славно, за обе щеки, все, что подадут. В тот же день, как родила, встала, ходила по палате и в коридор. Смеялась над нами: «Я, девки, в колхозе на поле, на покосе под кустом раживала. Как вот в первобытности. В войну-то никто на твое пузо не молился. Можешь не можешь – робь, коси. А родить черед пришел – айда, вон копна, там телешись». Такой, может быть, и должна быть женщина. Земля. Природа. А ведь, если разобраться, я ничем этой Кошкиной не уступаю. Чем хуже? Всего навидалась. Моложе я. Раны как-нибудь заживут. Работу найду. Хм.. Ну, не
шмыгай, хватит реветь! Все образуется. Может, сестрой
в ясли.. И сын
будет при мне. Хм.. М-м.. Да успокойся ты! Вся подушка
мокрая,
теплая,
соленая. Соль на губах.. Молчи! Лежи тихо! У тебя ведь сын!
Никакая
ты не одиночка.
Чуть светлеет вроде бы. И опять там, внизу, кричит роженица. Доносится плач младенцев. Идет жизнь. Идет. Стонут, храпят, вскрикивают во сне матери. А где-то недалеко в палате возятся, лежат рядами их сыновья, дочери – новые дети. Единственное как будто, что противопоставлено войне и смерти,– вот это унылое двухэтажное здание военной постройки, возведенное, может, всего год назад из шлакового кирпича и без всякого, кажется, архитектора, неумелыми руками. Все здесь кривое, косое: и окна, двери, полы, потолки. Был бы жив отец, потешался бы над таким строением.
Мысли перескакивают.
Погружаюсь в совсем недавнее: полк, моя рота, санбат, раненые, носилки, бинты и все тогдашнее, о чем только мечталось. Помнишь, военфельдшер Одинцова, о чем болела душа? Во что даже не верилось, как в несбыточность? Дожить бы, дотерпеть до победы, уцелеть или хоть бы не
322
искалечило. Лицо бы осталось. Ноги.. Почему-то за лицо боялась больше всего и за ноги. Дотерпеть – а уж чувствовалось, будто сдают последние силы, невмоготу, при всей фронтовой закалке. Всему ведь есть предел. Уцелеть.. Не попасть под пулеметную, навылет чаще, просечку, под мины, от них были самые смертельные, не опишешь, не назовешь, раны, под снайперскую беспощадную пулю. Вот, слыхала, мечтали будто там о легком платье, белье, туфлях, чулках.. Может, и мечтали, да не в первую очередь, не на передовой, где, пожалуй, ничего не было лучше, как приткнуться в укрытии, поспать, отдохнуть телом и душой, да еще было удовольствие, когда в ходу ложка, в руках теплый бок мятого котелка. Выжила. Дотерпела.. Дождалась...
Течет молоко из распухших грудей. Скоро ли кончится эта проклятая ночь? Вроде светлело уже? Нет. Просто бессонно горят фонари над товарной станцией. Шумят паровозы. Кричит женщина... Рождает жизнь.
Просыпаюсь. Трясут.
– Мамаша, кормите!
Чуточное и будто бы мокренькое горячее существо припадает ко мне. Кормлю. Стихает боль в голове, в груди. Растворяясь, отдыхает тело. Оно кормит, ему не до моих мыслей. Цепко-неумелые ручонки, пальчики, кулачки давят в него. Светлые волосики родят родное. Мой сын. Сыночек. Кормлю и думаю: «Ладно. Все устроится. Все как-нибудь устроится». Не пропаду же я? Люди помогут. Столько уже натерпелась. Чего мне бояться? Люди помогут. Все устроиться. Только бы он был со мной. Женщины рассказывают, такие, как я, одиночки, отдают детей в ясли-интернаты, в дом ребенка, иные... иные и совсем не берут. Не берут своих детей, оставляют здесь. Неужели? Как-это? Не укладывается в сознании. Вот этого, своего? В интернатах растут шалые, беспутные, озорные с пеленок, как у той беженки. Из таких, без матери, без отца, могут вырасти и вовсе бесстыжие, вроде Настюхи... В яслях-интернатах дети болеют, ходят за ними худо. Вот я и здесь даже боюсь, как бы не простудили его. Надо мне скорее вставать.
323
Проклятая рана... Буду ходить. Скорее заживет. Мечется мысль. Поправиться. Встать на ноги. Окончательно. Есть бы надо получше... Как стала кормить, все время хочу есть. Во сне даже вижу. Вспоминаются фронтовые, госпитальные харчи. Здесь что за еда? Каша на воде. Хлеб – скупая пайка... Всем женщинам, кроме Иры и меня, еду приносят. Саре Борисовне, лежит через две койки, муж – он у нее, говорят, закройщик – каждый день приносит фрукты, где-то раздобыл и букет. Сара Борисовна родила третьего сына. Она щедро делится со всеми, раздает яблоки палате, заботится и обо мне. Неудобно брать, делаю вид, что сыта. Иногда все-таки беру и ем коржики, хлеб с маслом, фаршированную рыбу, домашнюю колбасу с чесноком. А мне хочется почему-то погрызть свежей сочной моркови. Ужас как хочу. Свежей бы, свежей морковки... Очень хочу морковки! Как хочу! Кого бы попросить? Алевтине Ивановне Кошкиной привозят натуральные продукты: вареное мясо, творог в берестяных туесах, молоко в бутыли-четверти зеленого стекла. Кошкина опекает:
– Пей молочкё-то, пей! Тебе счас исть надо крепко. За два здоровья надо. Эвон чо вытянули тебя роды-те! Синь-синехонька. Подглазья-то.. Рану видала твою.. Как хоть выходила-то? Лежала, говоришь? Дак оно – это плохо. С беременностью ходит ь надо... Ой, баба, ой, баба. Крепко тебе досталось. (Вот меня и бабой зовут!) Досталось.. Не скажи.. Ведь молоденькая ты совсем! Пей молочко, пей. Привезут. – Узнав, что я хочу моркови, смеется:– У меня, дева, такой всякой дури сколь бывало. И до родов, и опосля. Уголь из печки возьму, бывало, и съем, и самую-то печину отколупну и тоже жую. Диво. Хочу вот, и все.. Моркови тебе закажу. Этой невидали хватает. Здесь бы кто принес. Эх, мужика-то нету! А то бы чо проще.. Плохо бабе без мужика. Хоть без какого худо.
Окна родилки на пустырь. Серый, в саже, снег. Он подтаял от февральских оттепелей и будто уж не снег, что-то безотрадно грязное. Грязной щетиной торчит по нему бурьян, рыжий, коричнево-черный. Дальше наполовину разломанный забор, весь в дырах, как в пробоинам. Тополь в
324
тоскливых грачиных шапках. Покинуто чернеют крыши бараков, складов – там отгонные, маневровые пути – перекликаются, дышат, отпыхиваются паровозы. Еще дальше великаньими голосами галдит-переговаривается товарная станция. Так день и ночь.
День и ночь.. Паровозный дым с запахом горечи и дороги. Он пробивается даже в палату. Копченое небо. Вороны. Галки. Дымы. За неимением белил окно выкрашено дикой синей краской. Два цвета кажутся навсегда больничными – синий и желтый. Белый не в счет. Белым полна больница.
– О-ой, сколь скучно, бабы, здеся! Ой скучно, – нараспев жалуется Кошкина. – Как это люди-те по баракам-то живут? А? Ровно тараканы. Ну, понятно, война была. Некуда народу деться. А ведь туто и до войны жилье было? Как оне живут? По чо я тут так долго? Непонятно. Скорея бы мне домой. К воздуху. К лесу-то.. А здесь ведь не воздух – один дым. Паровозы свистят. Радиво всю ноченьку, проклятое, галкает. Проснешься, думаешь: никто у нас не об чем не заботится. Это чтоб людям спокойно жилося. Большие-то начальники, вишь, высоко. Над имя не каплет. Ну, вот, кто его умыслил, родильный дом, рядом со станцией сделать? Война. Одно оправданье, что война. А на мой приклад, ежели б я решала, я бы лучшие помещенья под такие дома отдавала бы! Дворцы строить для баб надо. Не едаку тюрму.
Вся Кошкина состоит из жажды справедливости. Боевая она на диво. В первый же день сцепилась с нашей ленивой, ворчливой нянькой. Старуха, как обычно елозя шваброй пол, оговаривала каждую женщину, возле койки которой была.
– Ты, баушка, не ворчи, моешь дак, – не вытерпела Кошкина, – а нето не мой, обойдемся. Без твоей воркотни тошно. Сиди дома на пече. Там тараканам и ворчи!
Старуха остолбенела. Игольно-колючим взглядом уставилась.
– А ты почо здесь? Родила бы в деревне своей. Ишь, бароня, в городе
325
ей! Понадобилось!
– Не твое дело! Чо уставилась? Не видала?! – чело Кошкиной, наторелое, видать, в схватках у колодца и на сельповском крыльце, даже розово помолодело. – Твое дело мыть и горшки таскать. И не родила ты, видать, ни одного, потому и не понимаешь женчин.
– Ты, чо ли, женщина? За полсотни небось.. А туда же. Стыд-от где?
– Ты мне что за указка? Корить меня? Еще... Сколь хочу – столь рожу.. Мотай давай отседова, а то встану – полетишь колобком. – Кошкина уже сидела на кровати, подсучивала рукава рубахи.
– Стыда нету дак..
– Да-вай-ко отсуда. Еще она меня стыдить..
Старуха скрылась.
– Бабы?! А чо? Вот изватлаю ее! Идите во свидетели?! Чего она меня? Зараза старая. Банна затычка. Пущай тогда чешется. Не на ту напала! Я и му-жика любого отпотчую, не эту кочергу.
Хохотали. Усмиряли. Уговаривали.
Кошкина впрямь – не шути. Глаза теперь – весенний лед. Рассердилась. И видно, крута. Не попадись под руку.
Спала я плохо. Бессонница одолевала странным образом. Вот вроде бы тихо в палате, погашен свет, все угомонились, и сама хочу спать, спать, уйти в сон, даже сладко забываюсь на мгновение, да только на мгновение. Далее все мое тело вдруг начинает валиться, я словно оступаюсь и падаю, вздрагивая, просыпаюсь, а дальше ясная до звона голова и нескончаемая ночь, пока уж под утро не обнесет тяжелым, обращающим в камень сном.
Будит чаще наша грубая старуха нянька:
– Разоспалась! Эко! Как дома на перине!
Нехотя забирает посуду, нехотя ковыляет к выходу, грузное, неповоротливое существо из мира толстокожих. Сколько встречала уж разных людей, всяких обличий, женщин и старух – такой не видала. Это
326
было вечно возбужденное, ленивое зло, настроенное на одну ворчливую ноту. Оно не переставало ворчать и за дверями, и в коридоре, и где бы я ни видела ее, из-под сдвинутого, неловко надетого белого платка неслось непрерывное: «Ходят.. Черти носят.. Коровы.. Пропасти нет..» И странно: ее, ведьмы, все женщины боялись, терпели, взглядывали, как смотрят, наверное, испуганные оленухи, – почему-то такое сравнение кажется мне точным. Беременные и родившие женщины более напоминают животный мир. Старуху никто не оговаривал, не связывались, разве что Кошкина, но та и сама баба – заведется, не остановишь.
Я могла уже кормить сидя. Вставала. Делала шаги вдоль кровати. Шатало, как ветром, обносило голову, палата зыбилась, качались окна и стены. Ходуном пол. В голове едкий тонкий звон-писк. Знаком по первой контузии: то ли пищит где-то гигантская невидимая оса, то ли нескончаемо звонит отдаленный будильник. Кто держит меня под затылок жестким холодным ухватом? Кто.. В глазах плаванье-пляска черных, красных и белых точек. Они перемещаются, перемещаются, перемещаются... Но все-таки я стою, держась за кровати, иду к окну и там пересиливаю дурноту и звон. Мир постепенно обретает устойчивость, затихает, не пугает корабельная эта зыбь. Стою на своих нога х. Сколько раз понимала заново великое значение этого: встать на ноги. Словно бы с вертикальным положением и способностью двигаться воскресала уверенность человека в его крепости и долговечности. Даже самые тяжелые раненые, обреченные, перед смертью еще пытались встать. Это я видела много раз. Однажды, уже за Днепром, когда перевязывала раненого, неподалеку встал вдруг абсолютно мертвый немец. В том, что он был убит, у меня не было никакого сомнения, лежал полузасыпанный землей и снегом, в зачернелой, застылой крови. А он вдруг поднялся, и в руке у него была граната! Я замерла, разинув рот, припав к раненому, а немец пошатнулся и упал, упал уже мертво, граната, не то брошенная, не то выпавшая сама собой, катилась по стылой земле. Я растянулась, закрывая раненого, давя его и себя к земле. Но взрыва не было.
327
Взрыва не было.. И тогда я, не решаясь встать, ползком потянула раненого, он был без сознания, дальше и дальше от места, где лежала граната, похожая длинной ручкой на толкушку, не докатившаяся каких-нибудь два метра и не взорвавшаяся...
Во время такого пробного хождения меня и бросило на тумбочку. Повалилась, сшибла кружку с молоком, ударилась о спинку кровати и, хорошо еще, села на койку, не брякнулась на пол. Молоко же, как нарочно, разлилось по палате лужей-дорожкой. И вошла старуха нянька.
– Вот и мой сама! – заорала она, вытаращивая кисло-белые, безумного вида глаза. – Мой сама! Пропасти нету! Ра-не-тые! В... мать!
Если б она не сказала это «ранетые», я бы, наверное, сдержалась: чувствовала какую-то свою вину за пролитое молоко. Но тут я вскипела такой ненавистью к этой грузной ведьме с гневной рожей, что, не говоря ни слова, нагнулась, подняла кружку и, размахиваясь сколько было сил, ляпнула
с криком:
– Га-дина! Вон отсюда! Вон! Гадина!.. Га-ди-на!!!
Упала на пол. А в старуху летело со всех сторон что было: кружки, стаканы, подушки, тапочки, халаты. Няньку как сдуло. Куда делась ее неповоротливость. В коридоре она заорала, заголосила. На шум-крик прибежала дежурная врачиха, родильная сестра Марина, Игорь Михайлович. Все они пытались идти в атаку, сзади выла нянька, но палата взбунтовалась, женщины кричали, требовали Маргариту Федоровну, и, когда она явилась, строго уставясь на нас глазами боярыни Морозовой, Кошкина сказала за всех:
– Вы вот что, простите, не знаю, как лучше.. Вы эту старуху больше к нам не наряжайте! Придет – изобьем. Миром! Как сумеем – отделаем. Посадите? Нет, не посадите.. А вам стыдно держать этаку хамку в женской больнице. Ей в тюрме, может, где надзирательницей быть, а не здесь.. Это страм, вот что я вам скажу.
Нянька больше не появлялась. Палату мыли сами, по очереди. А я
328
начала быстро поправляться. То ли взрыв этот подействовал на меня, то ли что я могла вставать и ходить, – я опять обрела себя, собрала силы, стала прежней неробкой и нерастерянной, какой, кажется, была все годы на фронте, на передовой. Теперь я ходила и по палате, и в коридоре, а что самое главное – в туалет. О господи, о чем приходится вспоминать! А это было, наверное, едва ли не главное страдание всех больниц, палат, родильных и неродильных, – возможность справить нужду не на людях, которых всегда стесняешься, не хочешь и не можешь посвящать в свое запретное бытие, в его простую тайну. Сколько пролито женских слез из-за этих суден и невозможности справиться с тем, чему природа положила быть отдельным от чужих глаз и ушей. С тыдно, а сказать надо: вот картина, когда взрослую, молодую, большую женщину садят, кладут ли на это проклятое судно, – ничего человечество не придумало умнее! И родильная сестра Марина, бойкая, наторелая во всем, не стесняющаяся ничего, приговаривает над ней, как над маленькой: «Пись, пись, писсссь...» А женщина багровеет, провалиться готова со стыда, мучается, не может ничего, потому что не одна, потому что хоть и не глядят, отворачиваются, сочувствуют – сами бывали,
– но, ах ты мука, на таком вот вроде бы пустяке. А я думаю, будь моя воля, не жалела бы денег, строила палаты для лежачих на одного, крохотные бы, да на одну. Куда такое? И будет ли хотя бы там, в том красивом будущем? И уж, конечно, могло ли быть в сорок шестом, послевоенном, когда все еще жило, катилось едва остывшей войной, войной пахли и каша, и хлеб, скупая пайка по строгому счету, и чай, непохожий на чай, и сахар – ложка желтого, мокрого, пахнущего словно кошачьей мочой песку...








