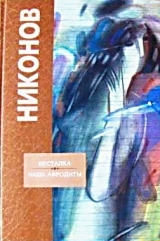
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
280
281
XXVI
На фронт в сорок пятом ехала совсем не так, как когда-то. По крайней мере, до Москвы в обычном спальном вагоне, а дальше хоть и в воинском, но быстро, без задержек, без долгих стоянок неведомо где. В сорок пятом была уж совсем не та война. Близился ее конец, и неудержимо, безостановочно, с отлаженной неукротимостью шли и шли к западу эшелоны зеленых танков, стояли на платформах страшные самоходки ИСУ-152 – «зверобои» и те машины, укрытые брезентами, под двойной охраной, «катюши». Артиллерия и танки словно бы подавляли всю другую и прочую массу войск, бросались в глаза своей многочисленностью. Пехота казалась бросовой, незаметной. «Что она может?!» – сказал бы не ведавший сути войны. В сорок пятом была другая война: уверенная, неукротимо победная – такой она, наверное, представлялась по песням в сороковом довоенном.. Может быть, так начинали ее немцы. Все повертывалось, все менялось местами.. «Победителей» везли в эшелонах с охраной на Урал и в Сибирь. Они же тянулись на восток арестантскими колоннами. Им кричали, грозили, матерились: «Эй, фрицы, шагай веселей! Чего носы повесили, арий-цы!» И думалось, даже со злорадством: вот вам «нах остен»! Вот вам Россия, меряйте! Жалкие дураки, нация, позволившая себя околпачить кучке самодовольных дьяволов. Как-то не думалось тогда, что многие из этих бредущих вдоль полотна людей в серо-зеленых холодных шинелишках, в ненавистных нам швейковских шапках, хромающих, перевязанных, заросших неприятными бородами, были на грани отчаяния, кляли судьбу, просто отупело брели с дальней утешающей мыслью: отмучились, отвоевались, целы, а там будь что будет! Они были в тон сожженным развалинам городов, станций, испаханной взрывами земле, кое-как прикрытой снегом, остовам сгорелых машин, уткнувшихся в землю, обгорелым, обломанным лесам и казались их живым воплощением, вытекающими остатками военной жизни. Издали колонны пленных напоминали медленно ползущих гусениц.
282
Через границу Польши переехали ночью, не знала даже когда, – спала. Эшелон шел в сторону Ченстохова, но вскоре остановился: то ли взорвано, то ли разобрано – восстанавливается на нашу колею полотно. Дальше добирайся как можешь, и, мне такое не впервой, напросилась в автомобильную часть, идущую в том же направлении. Как на грех, в январе в Польше стоял сильный мороз, конечно, не уральский, но все-таки градусов десять – пятнадцать было. Дул ледяной западный ветер, несло снегом, и, пока я ехала в кузове, среди каких-то ящиков, было тоже не тепло, но вот машина остановилась, водитель постучал, чтоб я выбиралась, указал дорогу к Ченстохову, и колонна этих машин «студебеккеров» ушла вправо. Влево и прямо двигался кой-какой транспорт, но теперь надо было добираться уже целенаправленно, в свою часть, а это куда сложнее, чем просто ехать в приблизительном направлении. Никто как будто ничего не знал – обычная прифронтовая неразбериха, когда идет наступление, фронт катится вперед, а ты на «ничейной», необжитой как бы, необустроенной земле, где ни целого населенного пункта, ни комендатур – вообще ничего жилого, – население угнано или попряталось, войска были и стремительно ушли, тылы частью с ними, частью отстали, и вот идешь как бы жутким, нелепо бесконечным кладбищем, развороченным бомбами и снарядами, с мертвыми танками и занесенными снегом трупами возле них, которые даже не воспринимаются трупами людей, а так, будто нечто причастное и никогда не бывшее одушевленным. Я старалась даже не глядеть по сторонам, больше поглядывала в небо да вдоль дороги в вечной въевшейся прикидке, куда сунуться, если налет... Но никаких самолетов не слышалось, и я шла, надеясь, вот-вот будет наконец какой-нибудь городок, село и тогда точно узнаю, где моя дивизия, а там и полк, и санбат. К вечеру добралась до полусожженного поселка. Комендатуры здесь не было, но стояла зенитная артиллерийская часть, и мне сообщили, что фронт километрах в сорока отсюда, а дивизия наша должна быть вблизи Ченстохова. Я задевалась хотя бы тому, что артиллеристы из нашей 13-й армии. Утром в сторону фронта уходил десяток
283
«студебеккеров» с боеприпасами, и меня брали с собой, обещали добросить до самой дивизии или где-то поблизости.
Выехали, как водится по-русски, не утром, а в полдень. Километров десять машины рубили перебуровленную взрывами снежную целину. «Студебеккеры» эти на диво справлялись с бездорожьем, хотя сердце мое замирало, когда машина с ревом садилась в воронку, водитель, натужась и словно бы сам припрягаясь к двигателю, толкал рычаги, и «студебеккер» полз вверх, одолевая, крошил мерзлую землю и снег, – ехали дальше, пока не вышли на шоссе, и здесь опять открылась картина только что минувшей войны: искореженные машины, закопанные в оборону сгорелые танки, орудия, разбитые станины и колеса, лошади в снегу, все застылое как бы навечно, и средь этого царства смерти текла, пульсировала только дорога: машины всех мастей, даже и длинные немецкие грузовики, отдельные танки
– идут из ремонта, тягачи с огромными гаубицами резерва, санитарные машины – эти навстречу, оттуда.
Вдали уже словно бы слышалось глухое бормотание фронта. Туда летели тяжелые бомбардировщики, тройками, пятерками, летели даже без сопровождения истребителей. Именно это обстоятельство – летят свободно, как на параде, – говорило мне – видимо, немцы бегут, сопротивление сломлено, и дивизия, конечно, движется быстро.
Меня высадили возле пустой деревушки. Сказали, тылы дивизии были здесь два дня назад. Вдали грохотала артиллерия.
– Теперь доберешься! Рукой подать! Да осторожнее, гляди, целиной не вздумай! – учил, закуривая, шофер. – Покури на дорожку? Не куришь? Ишь, строгая.. Ну, ладно, бывай, по дороге, по колеям лучше держись. Бывай! Курносая! Ох ты какая...
Первые же встреченные на дороге тыловики подтвердили – дивизия наша. Но наступление идет быстро, и передовая теперь, должно быть, уже километров за двадцать отсюда.
Я пошла по дороге, рассчитывая, что часа через три-четыре, конечно,
284
приду в расположение полка, доберусь до санбата. Сначала бодро шла, придерживаясь приблизительного направления, которое указали солдаты, вдоль неторного проселка, шла час, другой, третий и хватилась, что, видимо, фронт дальше или движется с такой же скоростью: он грохотал все так же далеко, на дороге ни души, в полях – никого. Меркнет, темнеет короткий январский день. Может быть, я вообще сбилась с пути, взяла направо или еще в какую-то ненужную сторону. Сказывалось, должно быть, и мое ранение. Я страшно ослабела, хотелось есть, пить, присев где-то в яму у обочины, съела сухарь, заедала пресным ледяным снегом. Снег был тут черный, серый, пахнул порохом и мазутом. Что мне было делать? Ждать на пустой малоезжей дороге? На ветру, что становился к ночи словно бы ледянее и ледянее? Идти вперед – хотя ноги уже просто подламываются? Вернуться назад? Но куда? Где я? В этой Польше, оказывается, можно заблудиться в чистом поле. Решила: сколько держат ноги – вперед. Вперед! Авось хоть подобие жилья, хоть какое-нибудь укрытие, но наступила темнота, и меня вдруг стало трясти в ознобе, стучали зубы, будто все смерз-лось во мне, внутри. Наверное, от этого съеденного снега, который и не напоил – жажда осталась, – и только выхолодил все изнутри. Может быть, сдуру, в отчаянии я попыталась еще бежать, но очень скоро выдохлась, упала в какую-то воронку, полную замерзших трупов, с криком выскочила из нее, подвихнула ногу, потеряла шапку и брела уже в полной темноте на гул фронта, что-то бормоча, наверное, была похожа на помешанную. Может, до передовой осталось близко, но силы мои кончились, дороги я не видела, опять оступилась, свалилась в траншею и уже не смогла выбраться, в траншее хотя бы не дуло этим ледяным ветром, от которого у меня закоченели колени, ноги, одеревенело лицо. Лишь убедилась, что в яме нет трупов, втиснулась под нависший край оснеженного дерна, поджала ноги, подняла, натянула на голову воротник шинели, вместо шапки достала, надела берет. Думала: полежу немного так, отдохну, согреюсь своим дыханием, все-таки здесь за ветром, а потом вылезу и пойду дальше. Сперва было холодно и
285
неудобно. Однако, сжимаясь в комочек, подтянув колени к груди, я все-таки словно бы грелась, дышала на грудь, засунула ноющие руки в рукава. Только ноги, поджатые под шинель, никак не согревались, не переставали мерзнуть.
Я уснула, впала в забытье. Мне было тепло. Снилась летняя гроза. На горизонте собиралась мрачная синяя туча. Падали молнии. Гремело. Отец и мать, празднично одетые, стояли со мной на улице, у парадного крыльца. Вроде бы мы собрались в парк – был выходной – и совещалась, идти или остаться дома. Я хотела в парк и отец вроде бы тоже, но мать сопротивлялась, сердилась, указывала на тучу, которая не придвигалась и не удалялась, а лишь грохотала. И все падали там зубчатые, змеистые молнии. Тогда я заплакала, и мать вдруг стала дергать меня за руки, больно трясти.
Очнулась оттого, что меня раздевают, больно трут руки, ноги, лицо и особенно уши. Пахло спиртом, табаком. Я закричала, пытаясь вырваться, но все тело мое было сплошная неподвижная боль, не повиновалось мне, а меня терли и дергали, пока я не поняла, что это солдаты, наши. Оказалось, уже почти окоченевшую меня нашли утром солдаты хозвзвода и похоронная команда.
Искали в траншеях топливо, сносили сюда убитых. Так и наткнулись на меня, нашли даже мою шапку.
кухонной избе укрыли шинелями, принесли котелок чаю, заставляли пить, хотя все во мне смерзлось, ломило, и, ошалев от боли, я кое-как пила чай. Он казался невероятно горячим и холодным одновременно, как если бы
глотала горячее мороженое. После чая я снова впадала не то в сон, не то в бред, перемежаемый какими-то мыслями, стыдом, что вот меня чуть не догола раздевали, растирали незнакомые мужики. Я и лежала в чьей-то мужской рубахе. Потом думала: уж хорошо, что незнакомые, так лучше. Опять уснула и проспала до полудня, до жара в оттаявшем теле. Теперь не знала, куда деться от этой жары.
полдень принесли поесть. Обморозилась сильно. Нос, щеки, уши – уши особенно – нестерпимо жгло, они распухали. Руки я спасла потому, что
286
засунула их в рукава. Ноги же, видимо, ознобились сильно – пальцы крутило, кололо, точно выворачивало длинной ломучей болью. Потихоньку я даже стонала, вытирала слезы..
Еду принес сам повар – толстый, рыжий, пожилой старшина. Должно быть, хотел посмотреть на меня. А я сразу узнала: вот он! Да это же он? Господи? Жив! Круглая, на заборах рисуют, рожа. Глазки – точки! Рот до ушей! Вспомнилось: эшелон, едем на фронт, к Сталинграду. И еще: это же лицо в проеме вагонной двери и крик: «Беги, девки, бе-ги-и-и!» Наш спаситель тогда. Он открыл дверь. Вот только забыла, как зовут. Степан.. Анисимович? Он. Точно он. Только еще больше взматерел, порыжел, округлился на фронтовых харчах-кашах. Да, конечно, он. Жив!
– Вы ведь.. из Свердловска! – полуспросила я. – Степан Анисимо.. Поставил котелок. Вгляделся.
– Откуда знаешь?
– Да я с вами.. С госпиталем.. В эшелоне ехала... Тогда...
– Да неуж? Ты? Как тебя? Такая махонькая была, булочка подовая? Ты? С Валькой-диетсестрой подружки?
Назвала себя. Он тотчас сел рядом.
– Ох ты, девка моя! Землячка еще, значит?.. Ты, говорят, из госпиталя,
выписки?
Объяснила. Рассказала и про город. Слушал, будто мед пил. Потом спросил про ресторан «Ялту». Сказала, что «Ялта» вроде бы жива-здорова, стоит на месте, только не знаю, кого теперь там кормят. Все рестораны-кафе закрыты для спецобслуживания.
– Ну-у, это понятно. Для «эс-пе», всяких «эс-пе-бе», – это понятно. Свято пусто не стоит. Кормят народ и счас. Кто вот только на моем месте поварит-то? Директором кто? – сказал он, закуривая махры. – Директор у нас Сан Иваныч, шибко деловой был. А сам ничо не ел почти. Язвенник. Кишка-то у его, это, как ее, многоперстная-то, с язвой.. А так деляга мужик. Жог!
287
Промолчала. Не рассказывать же – вот она жизнь, ее чудеса! – что с директором этим две недели назад встречала Новый год у Виктора Павловича.
Когда я отставила котелок и крышку – управилась со всем, – повар поглядел.
– Добавки, может, требуется?
– Спасибо. Сыта – во!
– Ну, ладно. А крепко ознобилась-то? Нос-от, гляди, как разнесло? Небось отвалится. А уши-то!! Уши! Как пельмени вареные! Болят? Не дотронешься?
– Угу.. – пробормотала, думая, где бы взять зеркало. Помнится, в вещмешке было, да только где мешок? Не знаю где.
– Мешок твой, – угадывая мысль и движение, сказал Степан Анисимович, – цел. У меня стоит. Принести?
– Зеркало бы мне.. – попросила я, радуясь, что мешок, а значит, и все мое немудрое добришко не пропало, есть там и зеркальце.
– Тебе счас только зеркала и не хватает, – захохотал во всю зубастую пасть. – Ладно, принесу мешок. Только совет – лучше счас не глядись. Шибко красивая. Эх ты, бабочка-беляночка. Знаешь хоть, чем лечить кра-соту-то? Уши-те? Не знаешь? То-то.. Еще старшина. В одном званье мы с тобой. Дак вот, я в Гражданскую служил-воевал, обмораживался страшно и, может, сам бы вот этакой был без ушей и безо всего. Старушка меня, баушка научила. Обмороженье-то перво дело морковью тертой лечат. Моркови надо на ночь натереть-привязать. Поможет обязательно. Жар-от вытянет. Ну, кожу, конечно, не спасешь, слезет кожа, и то должна тоненько так, как луковая скорлупа. Да это уж куда ни шло.. Нарастет.. Ноги-то покажи. Да не бойся.. Э-э-э.. Ноги-то – ужас у тебя. Аж синие. Эх ты, девка моя, девка.. Ну, ладно.. Терпи.. Счас я. – Забрал котелок и ушел, а я преисполнилась благодарности к этому, как ни гляди, безобразному мужику, почувствовала греющее душу уважение.
288
Пришел он скоро. Принес зеркало и мешок.
Гляделась и охала. Господи, на кого похожа! Круглая рожа, нос, как редиска, распух, уши малиново-багровые лезут из-под волос, на щеках красные клоунские пятна. Чуть не бросила зеркало. Заревела. Именно так, не плакала – ревела, как говорят, белугой, с какими-то причитаниями.
А он сидел, гладил меня тихонько по спине, бормотал:
– Эх, сколько вас, девок, зря понасбирали.. Безжалостно ведь, если разобраться. Ну, война войной, а все-таки, так думаю, какие вы вояки? Кровь кругом, устрашение.. И девочек таких вот – в бой? Чем это думают? Каким местом? Кто ето все решил? Души у его нету. Да еще мужиков на себе таскать! А? У меня вот дочки, навроде тебя, слава богу, дома. А ведь чем ты грешнее? Ой, господи, не разбери-поймешь, чо творится с этой войной. Давай отдыхай, отлеживайся. Поспи еще. Сон, после врача, второй лекарь.. Морковки я тебе к вечеру найду, может. Нету овощей, на крупе, на дроби сидим. Да картошка эта сушеная, американка, провались она. Однако у поляков пошарю. Спи. Вот тряпки мокрые принес, приложи. Полегче станет..
Повар ушел, а я уснула, сытая, благодарная этому человеку. Спала. Но боль все время чувствовала и сквозь сон, не давала повернуть голову. Уши, нос горели, как будто к ним прикладывали уголь, и, просыпаясь, я со страхом думала: вдруг останусь без носа, без ушей, без ног.. У нас в госпитале ведь было отделение обмороженных. Там я не работала, но знала, обморозившиеся ничем не лучше раненых, лечится это трудно, гниет, переходит в гангрену. Этого мне еще не хватало.
Вечером он принес ужин и валенки.
– Ухажером заделался! – хохотал, присаживаясь ко мне на топчан. – Раньше-то я давно уж на девок и глазу не клал. Да у нас в ресторане-то одно бабье.. Кругом, извини, конечно, кругом в задницах ваших на кухне-то вертишься. Бабы сами заигрывали. Толкнут да чо да.. Ну, и я врежу, бывало, по толстой.. Чо там стесняться. Свои. А теперь вот, за три-то года, оценил, в каком добре был. Только когда на вас гляжу, душа-то и отходит.
289
Мужики кругом, провалиться им, да еще у нас дураков всяких, недоумков навалом.. Стосковался я по хорошим бабам. Правду говорю.. На девок и вовсе бы молился. А ты давай ешь, не стесняйся. В ремне потом нову дырочку проткнешь – все дела. Ремень-от у солдат знаешь зачем? Чтоб, когда солдат наестся на неделю вперед, пузо не лопнуло. А когда жрать нечо
– утянул, чтоб не просило. Сама главная штука солдату – ремень. Да вот, знашь, недавно запасников к нам пригнали, из запасного полку, откуда-то с Волги, из Саратова, чо ли. Голод-ние! Ужас.. Дак оне у меня в первой день жмых у лошадешки-водовозки весь выгребли, во как! Я понять ничо не могу. Лошадешка на меня, как на бога, смотрит и ржет. Чо, мол, ты? А она опять за свое. Поглядел в яслях – ничо нету. До крошки. Она сроду у меня этот колоб не выедала. А потом гляжу, солдаты-то его мусолят. Да чо вы, говорю, робята, чо я вам каши, супу не дам? Вот какая бывает чуда. В запасном-то харчами, видать, не балуют. Давай ешь, не стесняйся. Обмороженному еда впрок. Мяска тебе раздобыл, поджарил. Хлеб вот, белый. Пальцы-те как? Давай еще погляжу.
Ноги болели. Уши, нос – не дотронешься. Никогда и не думала – так обморозиться. Ну, бывало, прихватит нос, щеку, потрешь снегом, варежкой..
все. А теперь было, видимо, куда серьезнее.
– Вот и морковь тебе достал. Выпросил у панов. Натер. Терки-то нету. Ножом скоблил. Давай бинт, или тряпка у тебя есть, и обвяжемся. – Гладил меня по голове. Отец, да и только.
Бинт был в вещмешке, и повар, усадив меня, как маленькую девочку, стал обкладывать уши прохладной влажной морковью, потом бинтовал.
– Давай и к сакуле-то, к носишку-то, привяжем. Ни-чо-о! Не стесняйся! Отвалится, дан хуже будет. Сакулька-то у тебя шибко славная, как у лисички, кверху глядит. Вот и давай спасем ее. – Прикладывал морковь и бинтовал. Остались только глаза и рот. Хохотал.
– Нн-о-о! Красавица теперь! Ну, ничо-о. Терпи! А моркови-то и поешь. К ногам давай привяжем. Привяжем.. Это средство верное. На себе
290
пытано. Я в Гражданскую в траншеях-то славно пообогревался. На Волочаевке был. Знаешь песню? Вот там песня нам была.. Мороз-то калит. А если ты в траншее, может, замерзать станешь или в окопе, печку делай. Это просто. Лопаткой подкопал, вроде как печурка, кверху дыру продолбил, хоть штыком. Все.. Клади щепки, чо попадет, затопляй и грейся. Дым-от кверху, как в трубу, хорошо тянет, и ты все-таки обогреваешься. Ой, скорей бы, ско-рей кончалася эта война, дожить бы хоть. Опять бы я тогда к бабам, в свой ресторан.
XXVII
Морковь помогла. Дней через пять я была уже в своей части, живая и здоровая, только ноги, пальцы, еще побаливали с месяц.
В роте встретили как именинницу. Кричали «ура!», тискали, целовали, пытались качать – не могла отбиться. А больше всех усердствовал Бокотько. Он снова прибыл к нам.
– Медали не бачу! Хиба ж тебе ничьего? Лидо? Ничьего нема? Та не может быть? Як же так? Иди до комбата. Почему – не можу? Який такий стыд? Тоби ж героя дать надо! Тодысь сам иду..
И кажется, ходил к новому комбату, капитану Смольникову, к ротному, совсем молоденькому лейтенанту Савенко. И лейтенант, и капитан обещали выяснить. Доложить командиру полка. Но.. Командиром полка был наш бывший комбат, майор – теперь уже подполковник – Полещук, а бывший комполка стал командиром дивизии. Война стремительно меняла положение людей: прежние подчиненные становились начальниками, здоровые – увечными, живые – погибшими, лейтенанты – майорами, безвестные мужички – героями с Золотой Звездой, но были и такие, кого не догнала ни почесть, ни орден, ни слава. Не знаю уж, что там, кому докладывали. Но вскоре меня вызвали в санбат, поздравили с новым званием. Теперь я становилась офицером – военфельдшером, присвоено звание младший
291
лейтенант медицинской службы. Поздравляли и в батальоне. Я благодарила комбата, как полагается, по-строевому. А он сказал, что погоны получу скоро и, может быть, от самого командира полка. Обрадовал.. Не знала тогда, что погоны эти, узенькие, серебристые, с маленькой звездочкой, я запомню на всю жизнь.
Но пока приходилось думать не о них, не о погонах, а о раненых, о том, где и как устроиться на ночлег, как связаться с санбатом, лечить и доставлять больных. Шло наступление. Мы знали – недалеко Берлин. Шли уже по немецкой земле, форсировали немецкую реку Одер. Странное название – Одер. Ведь это же союз в немецком языке. Обозначает «или». А что – или? Или конец войне?
Вот не пишу в этих воспоминаниях, какое у меня было настроение, состояние в те февральские, мартовские дни. А было – ужасное. Не хотелось жить. Все валилось из рук. Ведь писем от капитана Алексея Дмитриевича Стрельцова мне больше не было. НЕ БЫЛО! Не было. Не было... Я писала в часть, в ту самую полевую почту. Письма мои и не возвращались, и словно не доходили. Жив Стрельцов, ранен, погиб – не знаю и сейча с. Не было мне ответа, и, кажется, после пятого безнадежного, безответного письма я перестала писать...
Наша армия двигалась к Берлину. В апреле началось общее наступление, и я помню ночь перед рассветом, когда все выло, грохотало, дрожало, летело кувырком и там, впереди, за линией какой-то реки, ходил сплошной огонь, точно дымилась полоса страшных вулканов, вы-брасывающих пламя, дым, камни, балки строений. От воя снарядов, грохота пушек, рева несущихся на бреющем штурмовиков невозможно было опомниться, и, зажимая уши, я лежала в узком полуокопчике, изредка приподнимала голову. Когда идет артиллерийская подготовка, лучше всего укрыться и лежать. Но здесь, у Берлина, не рыли окопы, тем более траншеи, лежали, укрывались, кто где. Огонь же артиллерии и «катюш» был неописуем, его не выдержала бы никакая армия, никакая оборона. И когда
292
мы переправились через Шпрее, обходя город Котбус, его даже не было видно из-за сплошных огненных туч. Впереди нас, обходя немцев далеко справа и слева, шли танковые армии, оставляли в тылу порядочно в котлах, и было так, что позади нас, идущих к Берлину, грохотал еще какой-то внутренний фронт.
За четыре дня мы уже под Берлином, впереди и справа Цоссен, предместье, расположенное на высотах и прикрытое, как говорилось в приказе, мощной линией долговременных укреплений. Странно, что здесь были и болота, и лес, которого совсем не ждала я увидеть в Германии. Польша, по сравнению с ней, была совсем безлесная земля. Лес лесом, но кругом и городки, деревни, ничем не отличающиеся от городков, каменные виллы, каменные и кирпичные стены коровников и сараев, столетиями заселенная, возделанная, ухоженная с немецкой старательностью земля. Поместья с парками, где все строения – кирпич, камень и черепица, вековые липы и дубы, уже начавшие зеленеть. И все это дышало огнем, огрызалось, строчило внезапным металлом. Здесь прятались фаустники, снайперы и просто оголтелые мальчишки, фанатики, посланные умирать и умиравшие с недетской решительностью и глупостью.
Чем ближе к Берлину – страшнее становилась смерть, ранение, – победа вот она, вот-вот грянет. И цепи не вставали в атаку, даже самые отчаянные предпочитали залечь, бесстрашные еще полгода назад, становились здесь осторожными. Понимая это, не желая губить лишние жизни, командование до предела усиливало артиллерию, огонь «катюш» и эрэсов, а рядом с нами в боевых порядках шли танки, самоходки, воздух дрожал от бомбардировщиков и штурмовиков.
Дым, гарь, лязганье танковых гусениц по каткам – вот все, что хранит моя память, мое зрение, обоняние, рассудок, – это непрерывное движение вперед и раненые, раненые, раненые, не считая убитых.
После краткой остановки под Цоссеном мы должны были идти на Потсдам, за Берлин, обходя его с юга. Впрочем, сведения эти неточны. Знали
293
только: Берлин вот он, близко. Это он, наверное, вдалеке – серые, красные крыши домов, в черных масляных столбах дыма. Туда волна за волной летят «Илы», бомбардировщики Пе-2. Всякий населенный пункт нам казался окраиной Берлина, да так оно, наверное, и было в действительности.
Вечером двадцать третьего апреля, когда мы остановились в каком-то поместье, через связных мне передали приказ явиться к командиру полка.
«Ну, вот оно! Опять!» – подумала я с какой-то противной внутренней дрожью, какая бывает, когда надо сделать что-то самое неприятное, требующее напряжения всех душевных сил и оттого все-таки не делающееся лучшим и легким. Но я быстро собралась, захватила-надела зачем-то и свою сумку, пораздумав, сняла ее, почистилась, обтерла хромовые сапоги, не забыла и поглядеться в зеркальце. Глянула оттуда здоровая деваха – именно так, иначе не скажешь, щеки с облупленной кожей, из-под берета выгоревшие, выцветшие на ветрах волосы. Нос уже набрал загара, даже и глаза стали какие-то другие – вот открытие, раньше я не замечала, – другие у меня сделались глаза, после ранения, что ли, а может быть... Нет, ничего «не может быть», если жила теперь в постоянной печали, все валилось из рук, все, и даже война, к которой я притерпелась, не казалась уже бесконечной. Глаза у меня были замученные, истосковавшиеся и безразличные одновременно. Они не ладили со здоровым цветом лица, с загаром... «Как с лесозаготовок приехала», – сказала себе, пряча зеркальце, продолжая при этом размышлять, зачем я понадобилась подполковнику Полещуку, теперь я видела его совсем редко, лишь случайно попадалась ему на глаза, но всякий раз и спиной, и затылком ощущала его трогающий, неприятный взгляд. «Опять начнет приставать!» – подумала-решила я, и в этой своей женской убежденности, предположительности почему-то не было теперь робости, того страха, с каким обычно шла, ходила к нему, когда Полещук был еще комбатом. «Да, подумаешь?! Ну, в крайнем случае, полезет – дам по морде как следует – да что я, раба, что ли? Вот еще!»
Штаб полка был в глубине усадьбы, в помещичьем доме, половина
294
которого была разбита, развалена, а другая странно уцелела, лишь везде почти вылетели стекла. У связных, у охраны спросила, где комполка, и мне показали по лестнице наверх и влево. Это был типичный старинный особняк с высокими потолками, узкими коридорами и окнами в виде решеток в таких же узких высоких проемах.
Дверь одной комнаты в углу была приоткрыта, в боковом коридорчике
телефонов сидели не то радисты, не то телефонисты, слышался зуммер.
– К подполковнику? – вопросом сказала я, и телефонисты махнули-указали на дальнюю открытую дверь. Заглянув туда, я увидела командира полка. Он сидел за огромным столом, накрытым к ужину, и что-то писал.
– Входи, Одинцова! – сказал он, увидев меня. – Входи.. Садись... – досадно махнул, когда я захотела представиться официально.
Присев на краешке стула, я поняла, что он не писал, а рассматривал какой-то альбом с открытками или с марками. «Вот, – протянул альбом мне,
– ишь, фриц-то, хозяин, видать, коллекционер был. Марочник. Как это по-научному-то? Фило.. как-то. Фила...» – «Филателист», – сказала я.. «А.. Да. Знаешь? Был у нас на Севере, тогда я в Воркуте служил, главный врач один.. Тоже такой, обалделый. Марки собирал – хлебом не корми.. Со всей зэковской почты отклеивал, дурак. Дынин, помню, фамилия была.. Фило? Как там? Фило-телист.. Ха-ха...»
В альбоме аккуратно, сериями, закрытые целлофаном, марки со свастиками. Парады. Солдаты со зверскими лицами. Танки. Самолеты. «Юнкерсы». «Мессеры». И – Гитлер, Гитлер, Гитлер. Гитлер в машине, Гитлер с фолькс-штурмовцами. Гитлер с девочкой, гладит ее по головке. Гитлер с собакой. Марки к дню рождения фюрера. Видимо, выпускались каждый год.
– Занятно? – спросил Полещук.
– Не знаю.. Не очень... – ответила я.
– А ты, Одинцова, все такая же, – сказал он, как бы с сожалением и попутно удивляясь.
295
– Какая уж есть, товарищ подполковник, – попыталась улыбнуться, чтобы сгладить официальный ответ.
– Ладно.. Я тебя.. Не за этим вызвал. Вот! – достал из планшетки пару узких серебряных погон. – Поздравляю! С первым офицерским. Не хотели еще давать. Мол, фельдшерское не кончила.. – Он поднялся. Встала
я.
– Может, и больше звездочек надо было.. Да уж больно строптива, – улыбнулся во все свои желтые зубы. Желтые глаза глядели в упор.
«Как у волка», – подумала я про эту улыбку с острыми клыками.
– Получай, примеривай, товарищ младший лейтенант. – И смотрел все с этой пугающей меня улыбкой.
Старалась улыбнуться и не могла, так неприятен был этот человек, но кое-как пересилила себя, улыбнулась.
– А это вот – личное офицерское оружие. – Он протянул мне откуда-то со стула кобуру с пистолетом. Кобура была новенькая, блестевшая добротной кожей.
– «Вальтер». Трофейный. Дарю. Это уж от себя. Цветов бы надо.. Да где их возьмешь.. Да цветы что.. Завянут.. А эта штука полезная, пригодится в бою.
– Благодарю.
– Ну, носи, не теряй. А теперь садись, Одинцова. Давай выпьем. Звание обмыть надо. Положено.
Села. Все пыталась улыбаться, хотя где-то в душе, может, действительно была рада по-детски. Я – офицер. Ну, пусть самый маленький, пусть первый или, наоборот, последний, а все-таки офицер. Называть командиров офицерами стали два года назад, но слово все еще было новинкой. Его ценили. Но поначалу хмыкали, таращились: «Ваше благородие... Господин... Хм. Офицер!»
На столе у подполковника была водка, немецкий ром, коньяк, какое-то вино с красивыми наклейками.
296
– Что будешь пить?
– Лучше бы ничего, – вздохнула я. – Но.. раз уж положено.. Что послабее...
Налил мне полный стакан темного густого вина. Себе – стакан водки.
– Ну, строптивая, давай.. По-фронтовому, а? За твою звезду! – сказал со значением.
Водку он пил, запрокинув голову, как воду, выпил, сморщился, тряся головой, полуприкрыв веки, хватнул каких-то консервов на хлеб. Закусил. Ел
глядел на меня теми же хищными глазами.
Я только пригубила, вино было вкусное, терпко-сладкое, хорошо пахло.
– Ну-у! Так нельзя, младший лейтенант.. Одинцова.. Лидия ведь? Лида?! Нельзя так.. – сказал Полещук, укоряя взглядом. – За звезду пьют до дна.
И я выпила до дна. Не устояла. Впервые в жизни я выпила так много, сразу целый стакан; узкий высокий немецкий стакан, наверное, был больше нашего.
– Вот это – дело! – похвалил подполковник. – Закуси. Рыба вот.. Какие-то еще омары-кармары.. Ничего на вкус. Крабы вроде. Те вкуснее, правда..
И вдруг вместе с распускающей душу теплотой я почувствовала блаженное расслабление во всем моем сжато-напряженном теле, в руках, ногах, груди, даже словно бы в губах, которые до этого улыбались принужденно-напряженно, а теперь сами потянулись в улыбку. Мне стало вдруг хорошо и легко – самая подлая стадия опьянения, не лучшая часть. Человек с полосатыми погодами, с зелеными звездами на них, узколицый и ушастый, уже не казался мне таким противным, холодно-чужим.
Все-таки он командир полка, наш комбат, которого я знаю давно, с которым провоевала два года. К тому же он храбрый, уж тут ничего не скажешь, храбрее офицеров я, пожалуй, не видела. В бой поднимался, трусов








