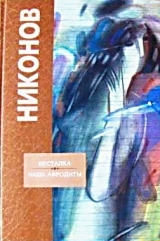
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
Были и совсем нелепые случаи. В обороне, не помню, за каким населенным пунктом, на неделю остались без табаку. Искурили все запасы, вытряхнули-вывернули все карманы, подбирали брошенные цигарки, толкли, мешали с травой. Кто-то пробовал курить кисет – не пошло. Слишком вонюч тряпочный дым. Искурили цибик чаю – кто-то сказал, заменяет табак. Оборона полка была на выступе, немцы справа, немцы слева, позади
– сгорелое поле подсолнухов, выжженное огнем «катюш». В светлое время через поле стелют косым фланговым огнем, рвутся мины. Стреляют и ночью, но реже, ночью нам и подбрасывают продовольствие и боеприпасы. А табачку все нет. Курильщики решили послать за табаком в деревню, которую
215
мы прошли, осталась километрах в трех. Но и до деревни все равно через поле. Черно-серое, жуткое, откуда тянуло тленом сгоревшей земли и ходили сажные вихорьки. Пошел за табаком ночью парень из пополнения, лихой, хулиганистый, круглоглазый. Помню его руки в синих наколках, помню фамилию – Канюков. В роте поговаривали, Канюков из бывших заключенных, чуть ли не из воров. Держался он независимо, нагловато. В первый же день полез ко мне, ночью, прямо в землянке. Пришлось смазать по наглой роже – выхода не было. Сунулся днем – и с тем же успехом. Пригрозил «не забыть». Но я и сейчас вспоминаю, боюсь: не из-за меня ли решил доказать Канюков свою лихость. Ушел он ночью, почти самовольно. Старшина Пехтерев сказал только: «Ничего не знаю, ничего не видел!» Понимал, Канюков и так бы ушел. Ни ночью, ни утром он не вернулся.
– По бабам рванул, – обсуждали его новые друзья-казаки Агапов и Федькин.
– Ну, точно.. Энтот не откажется! Хват.
– Хрен с им, подождем, табаку бы принес.
– Ух, курить хочется, печенки выворачивает.. Как бы вот пить все время..
– Этим бы придуркам, хозвзводовцам, у... Х-лопцы! Славяне!! Не придет он. – Пулеметчик Глазастый, осторожно и долго приглядывавшийся
полю, сполз с бруствера.
– Чего-о? Почему!!
– Не придет. Вон он. Лежит.. Глядите сами! Я-то далеко вроде вижу...
Да и фамиль моя.
– Не высовываться! Не высовываться! Мать вашу! – хрипел Пехтерев.
– Да не-ет.. Кочка это..
– Сам кочка.. Я дальнозоркий. Лежит.
Достали откуда-то, сбегали, бинокль. Солдат лежал на поле метрах в семистах от линии окопов. В бинокль было видно светлую голову —
216
Канюков и каску не надел, рядом набитый чем-то вещевой мешок. Конечно, табак.
– Эх, Канюков, Канюков! Дорого встал тебе этот табак. Куда полез, дура. Как это..
– Когда его? Ночью, что ли?
– Ночью не могли. Ночью вряд ли.
– Не все равно? Лежит.
– Может, раненый?
Молчали, высматривали.
– Нет, ребята, – сказал опять тот же Глазастый. – Кабы раненый был, хоть бы малость ворохался. Мертво лежит. На снайпера напоролся.
Кто-то припомнил, слышал на рассвете одинокий выстрел.
Скорее всего Канюков запоздал. Не рассчитал, что на поле рассвет наступает раньше, видно яснее, а на черном был виден с первыми проблесками зари. Шел, наверное, в рост или бежал, кому охота ползти по пеплу и саже.
– Э-эх, Витька, Витька! – Агапов и Федькин, что прибыли вместе с Канюковым, о чем-то совещались. Сперва обсуждали вполголоса, потом оба вдруг перелезли край окопа, поползли.
– Куда-а? Назад! Назад!! – орал, обнаружив их, старшина Пехтерев. Но они уже ползли далеко, быстро, неловко вихляясь, как ползают
неумелые. И тотчас почти щелкнули выстрелы: тах... тах... Агапов – он был впереди – уткнулся в землю, ноги его тянулись, будто устал, делал гимнастику. Федькин же зачем-то вскочил, кинулся обратно. И снова это короткое «тах!» бросило, воткнуло его в землю у самого бруствера.
Старшина Пехтерев сидел, обхватив пилотку руками.
Ночью принесли и Канюкова, и Агапова. Федькина втащили в траншею сразу. Он был ранен через позвоночник в живот и умер в траншее.
Ночью же привезли нам табак. В вещмешке Канюкова оказалась совсем не махорка, был набит сырыми кукурузными початками.
217
Кукуруза мне памятна еще и тем, как двое молодых солдат полезли за ней на поле и напоролись на прыгающие «шпрингмины», – оба они погибли.
С молодыми были и комические истории. Один солдат, пробавляясь возле кухни, уронил в самодельную трубу топки чуть ли не противотанковую или обычную гранату. С воплем кинулся бежать. Кричал: «Гра-на-та! В кухне! Взорвет!!» Все кругом мгновенно залегли. Ждали взрыва. Взрыва не было. Из печи валил мирный сизо-белый дым. Лежали долго. Взрыва не было.
– Точно уронил? – лежа кричал лейтенант.
– Точно. В трубу..
– С запалом?
– Нет. Запал у меня.
– Чтоб тебя... – и так далее.
Без запала черт с ней, с гранатой. Тол выгорит – и все.
За Канюкова и тех ребят-казаков старшину Пехтерева хотели отправить в штрафную. Спасло только общее показание: солдаты ушли самовольно. Вот оно: «Не видел, не слышал». Хитер оказался старшина.
А вечером другого дня к нам прибыл знаменитый на весь полк, на дивизию снайпер Кремнев. Я увидела его, когда вернулась к ужину в землянку, уж простите, проверяла солдат на вшивость! Надоедная и противная обязанность – да что делать? Кремнев сидел перед котелком, неторопливо хлебал суп. Поразило меня, что сержант был совсем не грозного вида, среднего роста, с круглым, парнишечьего склада лицом и каким-то странным, неподвижным взглядом, которым он смотрел в котелок. Присев неподалеку со своим котелком, я присмотрелась к снайперу и поняла наконец, что он – одноглазый! Живой глаз у него был серый, внимательный и добрый, вставной же, голубой-голубой, поглядывал как бы в какую-то дальнюю даль, был беспощадно жесткий и – веселый.
На гимнастерке сержанта орден Красной Звезды, давний,
218
высветленный, с облупленным, без эмали, одним нижним лучом. Слева тихо переговаривались три медали «За отвагу». Три «За отвагу»! У стены стояла его винтовка, показавшаяся мне короче обычной, может быть, из-за трубы прицела.
На меня Кремнев не обратил никакого внимания. Спокойно доел суп. Так же внимательно выбрал из крышки подставленную кашу. Достал немецкий термос, отвинтил крышку, налил чаю. Потом так же аккуратно завинтил, закрыл и защелкнул крышку котелка. Закурил, тряхнув пачкой, угостил ребят. Курил он папиросы с невиданным названием – «Краснофлотские». Потом снайпер подробно расспросил ребят, откуда примерно стреляли, как лежали убитые Канюков и Агапов. Взял винтовку и шагнул из землянки. Кто-то из солдат почтительно кивнул Кремневу вслед, сказал, что сержант убил не то семьдесят, не то восемьдесят немцев, сам попал под снайпера, вернулся в строй. Чувствовалось, уважали этого Кремнева.
Кремнев вернулся часа через два и сразу стал устраиваться спать, постелил шинель, достал какое-то подобие маленькой подушечки.
– С ночи пойдешь в секрет? – спросил кто-то.
– Спать хочу! – сказал снайпер и отвернулся.
Его не тревожили. Даже не шумели. Говорили шепотом. Велика слава человека с тремя серебряными кругляшками «За отвагу».
На рассвете я проснулась и увидела, что Кремнева на месте нет. Не было и его винтовки. За землянкой росный сентябрьский рассвет. Желтая ветровая заря светила на востоке. Было еще вроде далеко до солнца. И земля пахла мирной осенней свежестью. Я подумала почему-то, как прекрасен рассвет без стрельбы. Просто один рассвет. Ранняя рань, когда и глина на бруствере сияла жемчужной роской.. Меня томила мысль, где снайпер, и тихо-тихо я стала пробираться, переходя за выступы траншеи, пока не увидела Кремнева. О женское любопытство! Снайпер сидел на корточках и словно дремал. Он как будто совсем не собирался стрелять. Повернул голову
219
на мои шаги, безразлично посмотрел и только помаячил рукой: «Дальше не ходи!»
Я остановилась, думая, что сержант погонит меня, но он даже не смотрел больше в мою сторону и опять словно задремал. В это время солнце взошло над степью и край бруствера, обращенный внутрь, озолотился влажной песчаной глиной. И тотчас Кремнев встал, надел каску, осторожно поднял винтовку, тихо-тихо уложил ее в подготовленную заранее ложбинку-выемку. В движениях его было что-то охотничье, профессиональное. Так, может быть, готовятся, ждут уток на перелете, какую-то другую крупную дичь, которая вот-вот должна появиться. Солнце поднималось. И вдруг Кремнев легко встал на заранее отрытый приступок, приник к прикладу. Через секунду гулко хлестнул выстрел. С полосы послышался крик. Все смолкло. Я напялила каску, осторожно выглянула за бруствер, но ничего не увидела, кроме травяного, кой-где взрытого пространства с бугорками и кустиками полыни, освещенного сильным настильным солнцем. Кремнев снова припал к прикладу, словно хотел стрелять еще, но не выстрелил, а, поглядев, медленно опустил винтовку в траншею, слез с выступа, стал чи-стить запачканные песчаной глиной сапоги и колени.
– Убил?! – не то крикнула, не то прошептала я.
Он ничего не ответил, только поморщился и, подойдя, чуть отстранив, протиснулся мимо. И опять запомнилось, как радостно-изумленно светился его не знающий ни пощады, ни сомнения голубой глаз.
Снайпер-немец больше не стрелял.
XXI
С Ниной, инструктором из второй роты, мы сдружились не сразу. Слишком дикой, независимой, упорно молчаливой оказалась тощенькая эта девчонка – тонконогая пигалица в болтающихся сапогах. Сапоги болтались, несмотря на ватные брюки. Таких хлипких, ледащих девчонок я не видала на передовой, хотя здесь и вообще женщины встречались редко. На правах
220
старшей по возрасту, званию, фронтовому опыту я пыталась ей помогать, подсказывать, но скоро отказалась от затеи. «Сама!» – было главное Нинино слово. «Сама я..» И тут как хочешь, ничего не докажешь, не будешь ведь кричать, что этого самого опыта, горького, кровяного, выползанного и выстраданного, не заменишь никакой спесью, самоуверенностью, никакими кубиками, «шпалами», а теперь вот новыми еще погонами. Да и не хотелось мне доказывать какой-то, по-русски если сказать и по-фронтовому, з..., что за плечами у меня уже двухлетняя с лишним война, и не где-то по тылам, штабам и обозам, хоть война и там – война, не хотелось говорить, что сидит во мне, как вбитая навек, и эта Курская, Орловская, и Днепр, и, как там ни крути, Сталинград – первое крещение под «юнкерсами», что где-то там, внутри меня, госпиталь, челюстно-лицевая, та годовая голодуха, эшелон, без меня умершая мать, которую я даже не повидала. Два с половиной года? Много это или мало для человеческой, девичьей жизни? А раскинешь умом,
получалось много, господи, как много, будто не одна прожита жизнь. Иным на веку и десятой доли такого хватит. Много. Господи, как много...
Вспоминаю имя Божие, была крещеной, росла неверующей, такой, наверное,
оставалась, а не раз молилась неосознанно эти годы кому-то, спаси, сохрани, не дай свершиться... Просила и теперь. Где-то далеко, в Белоруссии, полевая почта 73176, воевал единственный теперь для меня мой родной человек. Мой! Так звала его про себя – Алеша. Алешенька! Мой, я не знала, сколько, насколько. Знала, м о й и, точнее сказать, всегда будет со мной, на всю жизнь теперь, а душа выгорала, болела, тревожилась, трепыхалась пойманным воробушком. Детство. Золотые дни. Темная застреха, куда лазали за птичьими яичками, заставали рукой теплое, в дрожь вгоняющее...
Пачкала чернилами грудь и бюстгальтер, лила счастливые слезы на треугольнички полевой почты. Почта. Полевая. Фронтовая. Кто получал? Вспомни. Строчки еще вымазаны, зачерканы. Штамп цензуры. Понимаешь
– неизбежность. А душа бунтует, может, там самое главное хотел он сказать, и кто-то читал, черкал, может, насмешливый, злой, равнодушный.
221
Отвечала на каждое письмо, посылала тоже пачками, как приходили. А писала-то чепуху, стыдно вспомнить, потому что знала, будут читать эти, кто ставит штамп. Разве так надо было писать?.. Жарче. Теплее.. Роднее.. Лезли из-под пера казенные строки. И ничего бы я не хотела, как оказаться с ним, на его батарее, – теперь он командовал дивизионом, получил капитана, орден Красной Звезды за тот бой. Но если бы даже не дивизионом, допустим, полком, дивизией, разве мог он взять меня к себе – такое только в кино, в книгах про войну, в солдатских байках. Да и сама не могла вот так легко уйти-уехать из батальона, из полка, в котором воевала второй год. Думала-мечтала, хоть бы встретиться, на день, если бы на неделю! Если бы хоть как-нибудь случайно. Да где они такие встречи на войне, на передовой? Как тогда?? Но ведь мы были даже в составе одной армии. И то – случай.
К весне мне и Нине из санроты дали постоянных помощников – санитаров-узбеков. И пока стояли в обороне, мы вырыли свою землянку на двоих. Надоело спать в общих, надоело загораживаться шинелью, плащ-палаткой. Надоело, надоело, надоело-о! Солдаты помогли нам устроиться отдельно, а проще говоря, прикопали к землянке яму, сделали перекрытие из горелых бревен; получилось – днем медпункт, ночью жилье. В общем, даже уютно. Нары на двоих, столик, какой-то драный сенник, набили сухой травой
– набрали на буграх. Даже и траву эту собирали ночью. Любой снаряд, конечно, пробил, разнес бы наше убежище, но все-таки нам казалось в нем безопасно – работал древний инстинкт пещерных тысячелетий.
В своей землянке лучше спалось, отмякли, выстирали белье, привели себя в более нормальный женский вид. Почувствовали это сразу по усилившимся взглядам, комплиментам, причем Нина словно бы взревновала меня и к бойцам, – что греха таить, мне этих взглядов, словечек, льстивых похвал доставалось больше.
– Опять тебя кричат! Слышишь, зовут? Везучая какая-то.. Всем нужна. Только и везде: Лида! Лидочка!
– Ты просто новая. К тебе не привыкли. А я..
222
– Да ладно уж! Новая! Всю жизнь так..
Звали в землянку на очередного именинника. Пришла, воспитала, что одну звать нехорошо. Двое нас. Солдаты, конечно, загалдели. Просили позвать Нину.
Вернулась. Нина лежала на нарах, укрылась своей шинелькой. Злой, брезгливый взгляд. Сжатое лицо.
– Пойдем? Тебя зовут тоже! За тобой пришла.
– Тоже.. Нет уж.. – через молчание.
– Да пойдем, посидим. Не дуйся. Приглашали, правда. Все просили.
– Нет.
– Почему?
– Тоже – это уже не то. Это ты за меня выпросила.
– Нина?! Ничего я.. Сказала только, что мы вдвоем.
– Вот-вот.. Никуда.. Не надо было. Не пойду.
Пыталась уговорить. Нет. Молчит. Даже отвечать перестала. Отвернулась. В конце концов я рассердилась. Что я – нянька? Сколько можно уговаривать! Цаца нашлась. Коза упрямая. На бал, что ли, зовут? Ушла. Возвратилась поздно. Ночь. Темно. На ощупь хотела лечь. Тихонько стянула сапоги. В землянке натоплено. Тепло. Сняла и гимнастерку. Юбку не стала. Спала всегда в юбке. Мало ли что. Без гимнастерки – выскочишь. Без юбки – никуда. Почувствовала – Нина не спит. Только отодвинулась к стене.
– Есть хочешь? – спросила я напряженно.
– Нет.
– Хлеб есть. Вот сала принесла. Галеты... Шоколаду кусочек..
– …
– Да ты что? Чего недотрогу корчишь! (Сколько раз мне самой такое говорили!) Ну? Здесь фронт! Передовая! – разозлилась я. – Ну-ка, давай встань. Я тебе приказываю! И ешь! Зачем я несла? Кому?
– И не надо было.
223
– Ну и... – тут уж я не сдержалась.
Легла. Пистолет под сенной подушкой. Сумка над головой. Укрылась бушлатом. Молчали. Тьма, как в яме. Да это и есть яма. Пахнет глиной, дымом, йодом. Едва различается вход-лаз. Завешан половинкой разодранной маскпалатки. Тянет оттуда холодом, ночной свежестью. А так воздух у нас чистый, не накурено, не воняет портяночным духом, спертой вокзально-махорочной вонью. Бьет-садит вдали тяжелая артиллерия. Трещит самолетик
– «русфанер». Где-то что-то творится. У нас молчание. А начать могут в любой момент.
Зафырчит дрожащим огнем, опишет дугу ракета. Повиснет другая, третья. И заполощет отовсюду цветным светлячковым огнем, завизжит, подлетая, смерть. Нет. Вроде бы сегодня спокойно. Спят немцы... И мне бы уснуть.. да не могу. Разнервничалась с этой...
– Отвернись! Чего ты такое пила? От тебя водкой-табаком, как от пьяного мужика! От кабака несет! – злой шепот.
– Еще чего? Дворянка.. Я и пила-то каплю. Не водку – ром.. Только пригубила.
– Табачищем – дышать нельзя..
– Да это они меня прокурили!
– Все равно – гадость.
– Из каких это ты сюда попала?
– Да уж не из таких.
– Ладно.. Обижай, – по-детски, наверное, сказала я. – У меня ведь ни отца, ни матери.. Заступиться некому..
– Что? – помолчав, отозвалась Нина.
– Что слышала..
– Ты правда сирота? Правда нет родителей? – она сбросила шинель, села в темноте.
– Такое не врут...
Тогда она вдруг склонилась ко мне. Почувствовала, как ее тонкие
224
пальцы гладят мои волосы.
– Оба погибли?
– Отец, видимо, на фронте. Мать умерла.. У тебя?
– У меня.. – Нина вздохнула. – Так же. Только мать от бомбы. Мы из Ленинграда. Питерские..
– Ну, значит.. Обе мы сироты.
– Прости меня! Ради бога, прости, – вдруг задышала мне в ухо. – Я ведь не знала.. Я – злая.. Прости, а?
– Что там.. – пробормотала я сквозь слезы.
– Давай встанем! Зажгем свечку. Поедим. А? – шептала она, обнимая
меня.
– Давай! – согласилась я, тронутая этой горячностью.
Зажгли свечу. Сели на нарах. Зареванные, взлохмаченные, в заношенных рубашках.. Две фронтовые ведьмы. Толстая и тонкая.
Теперь Нина ела. Ела жадно. Временами по-детски шмыгая. Виновато взглядывая на меня. Глаза тоже по-детски блестели. Она даже похорошела в этой сутеми. Была какая-то неузнаваемая. Совсем не противная, замкнутая на семь замков злючка, какую знала я уже второй месяц.
Потом сидели прислонясь.
– Как ты здесь?
– А что? Мне все равно.. Только бы не снился этот наш дом. Лестница. Мать была дома. И бомба.. Мать не успела. На лестнице.. Отец у меня композитор. На оборонных работах умер. Наверно, от голода. Я его не могла найти. До весны пробилась у тетки. Тетка у меня двоюродная. Тепличницей работала. На окраине... Там болота.. Весной лягушек ели.. Правда. Выкапывали вместе со льдом – и варили.. А я до того дошла – зубы выпадывают, вся опухла. Ноги.. Лицо. Меня вывезли. А тетка осталась. Не знаю, жива, нет. Не отвечает. А нас на Урал привезли. Хотели еще дальше. В Среднюю Азию.
– Ой? Не в Свердловск?
225
– А ты свердловчанка? Нет. Свердловск мы проезжали. Большой город. А мы жили в Каменске. Такой городок. Горы. И степь рядом. Заводы там. Огромные. Тоже – голод.. Но нас-то, дистрофиков, кормили. А так и звали.. Я, правда, быстро поправилась. А жить не знаю как.. На завод? Куда мне. Слаба. Я ведь пианисткой собиралась.. В музыкальной училась.. Тогда решилась. Пойду на курсы. Там раньше курсы РОКК были. А теперь краткосрочные, санинструкторов. И вот меня в госпиталь..
«Надо же! – думала я. – Повторяет мою судьбу..»
– В госпитале долго не пробыла. Подала рапорт.. Хочу на фронт. Я очень хотела сюда. Думала: отомщу за маму, за отца.. За тетку. За всех... Вот
здесь. А только – чего я тут? Перевязывать? Чувствую – не моя работа. Я и в госпитале так. Потому, может, и не задержали. Плохая я сестра была. Злая.. Не о ранбольных думала, а как бы мне. Ну.. Вот, говорят, школы снайперов есть. Туда бы мне. Вот обживусь, подам рапорт. Хотя – боюсь. Не отпустят, наверное. И снайпером быть.. Ой, не знаю.. Ведь убивать, убивать..
Гладила ее по плечу. Худенькое, костлявое плечико. Плечико кузнечика.. Какой ты снайпер.. А ведь не права я. Не трус она и не злая.. Пережила столько.
А дальше рассказывала я.
Нина молчала, только по-детски тискала, сжимала мои руки худыми пальцами. Кажется, я обретала подругу.
– Давай-ка спать, – сказала я, обнимая ее. – Успеешь ты еще везде.. Успеешь.
Легли, укрылись шинелями. Под голову бушлаты. И помнится, уснули вдруг обе так крепко, отчаянно, детским провальным сном, каким не спали, наверное, обе давным-давно.
Прошло несколько дней, и нашу дивизию начали выводить на переформировку. Радовались этому, как малые дети. Только и слышалось:
226
«Ну, славяне, отоспимся-а, отожремся-а!» Вот оно, фронтовое солдатское счастье. Ночью оставляли позиции, их занимала дивизия сибиряков, крепкая, нерастраченная, хлебная, пахнущая новыми шинелями, полушубками, обутая и одетая, – куда нам. Отходил наш полк, всё, что осталось от него, – все, кто остались после многомесячного движения и обороны. Впрочем, «остались» – не то слово, отходили в тыл живые, оставались тут те, кто неподалеку, меж сожженным полем и деревней в братских могилах, как их называют вроде бы тепло и нестрашно. В роте выбыла треть состава – раненые, контуженые, убитые. В роте у Нины не меньше, а говорили, наш батальон крепкий, в других потери тяжелее.
Расквартировали нас в большом украинском селе Солоничи, которое, на удивление, мало пострадало от войны и пожаров. Были, конечно, хаты без кровель, задымленные стены, иссеченные сады, но немцы здесь отступили поспешно, не успели похозяйничать. Здесь же был и санбат, мое начальство, с которым общалась я, лишь когда привозила раненых, писала карточки, получала бинты, пакеты, медикаменты, отчитывалась, работала на сортировке раненых и операционной сестрой.
На переформировке дали новое обмундирование – сапоги, гимнастерки, юбки, белье, и наконец-то мы пошли в настоящую баню. Что там было за мытье на передовой, да еще в наступлении, зимой – курам на смех. Бывало, и не умывались неделями. На Украине вода – вечная проблема. Вода – главное для нас, медиков. Попробуйте обойтись без нее! Поить раненых, мыть руки, стирать. Оборачивались кто как мог и умел, а боялись еще воды отравленной, зараженной. В отступлении немцы часто травили колодцы, лили бензин, бросали трупы, каждой проточной, текучей воде, речке мы были рады не знаю как и в наступлении, и в обороне. А тут – баня. Настоящая. Впрочем, настоящей она была условно. Что такое фронтовая баня? Даже самая лучшая? Какое-нибудь строение, в котором тыловики налаживали котел, проводили трубы отопления, ставили бак для холодной воды, лавки для мытья. Неподалеку всегда была прачечная,
227
«вошебойка», автоклавная для бинтов санбатов. Мирная, хотя вроде бы, с другой стороны поглядеть, сугубо военная жизнь: лошади-водовозки, фуры с бельем, кухни, склады, машины с ящиками и мешками, солдаты, одним своим видом-одеяньем напоминающие – нестроевщина, инвалидная команда, звали их и грубее, чего уж.. Тыловых профессий несть числа, тут и шорники, и сапожники, оружейники-ремонтники, слесари, шоферы, женщины – швеи и прачки, телефонистки, на которых все поглядывает, заигрывает загорелая и бравая фронтовая братва. Фронтовиков видно сразу, здесь они – герои, ордена, медали, у иного рука на перевязи, забинтованная голова, этих и вовсе голой рукой не тронь – самые форсистые. К бане и к прачечным их тянет магнитом.
В натопленном, воняющем портянками и потом, фронтовой грязью и землянками предбаннике, где мы раздевались, окна забелены известью, горит тусклая лампочка. Раздевались, стесняясь друг друга. Драные чулки, портянки, заношенные, не приведи господь, бюстгальтеры, рубашки застираны до чего-то желто-серого. Нина оказалась такой худой – не ожидала я, ахнула. Позвонки на тощей, тонкой спине, на шее бегут буграми, бедра двенадцатилетней девочки, ноги – тоже, и груди у нее – господи, не было ничего. Торчали припухшие большие соски на едва обозначенных возвышенностях.
– Никак не растут, – заметив мой взгляд, усмехнулась Нина, – прямо наказанье.
– Ничего.. Так, может, лучше. Ползать по земле.. Не мешают. Я вот маюсь – больно.. Еще, говорят, модно.. маленькая грудь.
– Скажешь! – вишневела, косила темным взглядом из-под татарской пряди. Почему-то сейчас, обнаженная, походила на девочку-татарку. – Я из-за этого со школы страдаю. Все девчонки как девчонки. У меня.. Одна я такая. Палка. Доска..
– Были бы кости – мясо будет.
– Мне – не «мясо», хоть бы на женщину походить. Тебе хорошо. Ты
228
вон какая. – Она посмотрела на меня влажными глазами оленьей стати.
В предбаннике было и зеркало. Высокое, коричневая резная рама под потолок, старое, желто-задымленное временем стекло. Подошла к нему и увидела себя так, как не видела многие месяцы, годы. У нас и дома не было такого зеркала, где могла бы я увидеть себя со стороны, с головы до ног. Кажется, узнавала и не узнавала себя. Это была, конечно, я и в то же время не я. Здесь на меня прошлую, на меня во мне, глядела из рамы здоровая светловолосая женщина с по-бабьи распущенными густыми, ждущими мыла волосами, упругая, крепкая и какая-то донельзя голая. Мороз побежал по мне. Я?! Это я? Не может быть. Толстые ноги, живот низком вперед и даже вверх, большими чашками груди – мои? Где же я – девочка, которая была еще в госпитале, девочка, которая уходила на фронт, ехала в эшелоне? Разве что осталось лицо? Нет, и в лице я теперь видела те же перемены. Задубелая круглая бабья рожа, нос кверху, волосы растрепаны, самоуверенный взгляд.. О, как я не понравилась сама себе, как огорчилась! По сравнению с мальчишеской, детской худобой Нины я была действительно взрослая и по-женски, уверенно, взросло нагая.. Открытие потрясло, смутило меня, хотя где-то далеко, на донышке души, было и приятно – я чувствовала свою новую суть, новую силу. Я – женщина? Как это так?
Вспомнила. Что-то подобное было уже со мной однажды. Еще давно. В седьмом я училась? Или в шестом? Нет, в седьмом.. Мать послала меня в поздний августовский день купить арбуз. Их всегда продавали недалеко от нашей улицы, в овощном загончике, у ларька, где горой громоздились эти по-азиатски полосатые и таинственно зеленые, с палевой желтизной круглые ядра, звонко накачанные, холодно-глянцевые несмотря на жаркий предосенний день. У загончика толклись женщины, старухи, мужчины с пожилыми перекислыми лицами. Катали, выбирали арбузы, брали на руки, как бы взвешивая, подносили к уху, жали, стукали, напряженно прислушиваясь – что там можно услышать? Я не умела выбирать арбузы, а так не хотелось принести домой белый, стояла, слушала, глядела во все глаза,
229
как выбирают, пыталась понять.
– Та не бери ж ты этот! Не бери! Цэ ж – каун! Кауни-цу бери! – южным певучим голосом учила черная впроседь круглобрюхая тетка, сладко поглядывая на толпившихся дяденек.
– От она, кауница, побачьте сюды! От! У ея мачатка-то ширше. Кауница усягда слаже кауна, як женшчина мужика.. – поигрывала плутовой бровью.
– Это еще, тетка, проверить надо! – не соглашались дяденьки.
– Ну, чаго? Поглядь, побачь, ты, видать, в цьем деле ще малый! – ух, не тетка, старая блудница.
Очередь хохотала.
Перекатывая арбузы, я наклонилась низко и вдруг ощутила незнакомый мне, колкий и ласкающий меня стыд-холодок, который бежал по ногам и выше. Обернулась. Незнакомый пожилой, лет за тридцать, мужик смотрел на меня в упор, как голодные смотрят на хлеб, но безнадежно, когда знают – хлеб взять нельзя. Ничего не дадут. Я одернула юбку, краснея до жара, и вспомнила, что вчера, перед близкой школой, мать купила мне новое платье и трикотажные женские трусы, которых я никогда еще не носила, носила шитые, какие попадут. Я надела их после бани, и вот надо же – забылась, заголилась, наверное, перед этим мужиком, как привычно нагибалась и раньше, никогда не раздумывая, что на меня будет кто-то смотреть. И зачем?
Очень рассердилась на этого нахала, дурака.. Присела и уже не выбирала арбузы, а просто трогала их, как валуны. Взяла, какой был тяжелее, и, все оглядываясь и одергиваясь, потащила на весы, где бойко кидала гири, брякала медными чашками золотозубая продавщица.
Дома арбуз оказался едва розовый, пресный, вкусом – кочерыжка. Я плакала. Мать утешала. Отец смеялся, ел арбуз. Но страдала я, кажется, не из-за этого арбуза, в конце концов его все-таки можно было есть, я сердито недоумевала на того тридцатилетнего, из-за которого, наверное, ничего не
230
нашла, поторопилась и со взглядом которого словно бы потеряла что-то донельзя свое, детское и такое нужное мне, а заменившееся чем-то другим, тоже нужным, лишь гораздо тяжелее было его понять, ощутить, нести и носить.
На следующий день, собираясь в школу, – долго-долго стояла у зеркала (не потому ли вспомнила все это сейчас? Хотя зеркало было у нас не такое, вполовину меньше). Я трогала брови, сжимала и выпячивала губы, всматривалась в свои глаза. Потом с воровской осторожностью выдвинула ящички подзеркальника, нашла среди пуговиц и бумажек материн карандаш для бровей – она никогда почти им не красилась – и тихонько, с той же воровской осторожностью тронула свои золотившиеся от лета, от моей девичьей младости-дурости брови. Брови и волосы мать у меня называла крестьянскими. Вообще, часто она звала меня «крестьянка» или «крестьяночка», «матрешка», любила, когда я носила косынку, платок, зимой пуховую кроличью шаль, – говорила, что это мне идет.
Подкрасила брови, тронула и ресницы. Они стали темнее, красивее, но вдруг, будто от непредсказанного колдовства, изменилось и мое лицо – стало старше, увереннее, глубже в незнакомой мне женской сути, и я испугалась этого нового своего лица, торопливо принялась стирать карандаш с бровей и ресниц. Он никак не исчезал, становясь слабее, все-таки оставался, и, даже когда я кинулась на кухню, вымыла лицо и глаза, крепко, до боли вытерла полотенцем, оно не стало прежним моим лицом – новое выражение все лежало на нем, и тот же озноб-жар, что пробежал по мне вчера у лотка с арбузами, простегал меня снова от пяток до затылка.
Вот и теперь в желтом зеркале фронтовой бани отражалась другая Я, опять новая – Я..
Медленно отошла от зеркала. Медленно отворила дверь в мыльную. «Что это со мной?» – не то думала, не то прошептала.
Там, на лавках, мылся целый взвод девушек-связисток, едко пахло потом, банным паром, мыльной водой и женским телом. Девчонки терли
231
друг другу спины, лягались, пинались, окатывались водой, шлепались, орали, визжали, хохотали. Мы с Ниной было потерялись в их толпе, но скоро, так же дружно, как мылись, девушки чуть не строем ушли. Мы остались одни и набрали тазы горячей воды. Горячая вода! В бане было жарко сверху, но холод по ногам, скользкие скамьи и пол, забеленные, как в разде валке, окна здесь потекли желтыми разводами, придающими всему помещению унылый, помойный вид. Тускло горела в радуге пара желтая лампочка. Но что это было все-таки за наслаждение – мыться горячей водой, драть мочалкой, ногтями заросшую грязью, не отмывавшуюся без этой воды голову, намыливаться и смывать соленый пот и словно бы даже верхнюю часть кожи со всей этой фронтовой, окопной, траншейной грязью-коростой. Что за наслаждение так мыться! Кажется, я стонала от удовольствия, от счастья возвращающейся чистоты. Как сравнишь баню с ручьями, с речками, ямами, где доводилось мыться на походе и в обороне, разве сравнишь мыло с глинистым песком, которым я часто, за неимением ничего другого, терла руки – отмывались вроде бы, – а вот лицо пробовала – больше не захотела..








