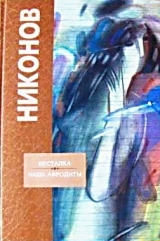
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
– вот сяду, подломлюсь сейчас прямо на поребрик, на край остановки, забрызганный полузамерзшей дорожной грязью! Надо назад, в больницу, но идти снова через ночной пустырь, где, казалось, и днем-то бродят привидения, выше сил.. Это я не смогу... Не смо-гу-у!
«Держись! Держись! – бормотала, как всегда в таких случаях. – Держись! Ну, дыши, дыши глубже! Это пройдет! Пройдет! Все пройдет.. Это просто усталость.. Успокойся! Дыши. Дыши!» Среди книг из черных шкафов две были об индийской йоге. И хоть обе я не осилила до конца – занимаясь ею, надо быть чем-то вроде тунеядца, какого-то занятого собой бездельника,
– я все-таки усвоила главную суть учения: жизнь – в дыхании. Хочешь жить – дыши.. Так, уговаривая себя, стараясь перебороть слабость, держась за столб, глядела в темноту. Я не решалась даже махать проезжающим машинам, как это сейчас сплошь делают женщины и девушки, возвращаясь поздно, охотно и храбро, чтоб не сказать больше, влезая в первый остановившийся какого-нибудь морковного цвета «Москвич» или «Жигуль».
457
Машины проносились, обдавая всякий раз новой безнадежностью, и мне казалось, я уже одна-одинешенька на всей темной остылой земле, никому до меня никакого дела (оно и правда было так), и если я не помогу себе сама.. Опять сама, всегда сама! Я не думаю, что со мной станет.. Это сейчас так рассуждаю – тогда же словно инстинктом животного поняла: не окажусь сейчас в тепле, около людей – погибну, да, вот тут, на трамвайной ночной остановке, – такого не случалось со мной и на фронте, тогда и там были, видно, неистраченные молодые силы, резерв возможностей и, как-никак, рядом были люди, такие же мерзнущие, мокнущие, забившиеся в земляные норы, раненые, которые ждали меня как жизнь, как надежду на спасение...
Здесь же и теперь люди спали в теплых постелях, в надежных квартирах, им было не до меня, и откуда они могли знать, что вот стынет на ледяном полуночнике какая-то несчастная бабенка, может быть, к тому же гулящая, пьяная беспуть, и впрямь не нужная ни себе, ни им.
Я была в состоянии, близком к прострации, когда замаячил зеленый светлячок такси и что-то вытолкнуло меня к дороге, заставило поднять руку. Расхлябанная, горбатая «Победа» затормозила с противным визгом и хрипом. Я никогда не ездила в такси. С моими деньгами только в них и ездить! Я даже боялась такси. И когда вечером, бывало, они сами останавливались, а шофера, щедро улыбаясь, предлагали подвезти, отшучивалась и отмахивалась, возможно, и со злостью. Но сейчас я села, даже словно повалилась на сиденье рядом с водителем. Мне было как будто все равно куда ехать, лишь бы прочь из этого мрака, ветра и озноба, ходившего по телу долгими волнами. Одна только мысль и перебивала дурноту: «Хватит ли у меня денег? Сколько стоит это такси?» Я ведь не знала, что в них есть счетчик. Решила: немного погодя спрошу, если денег не хватит – выйду.
– Подпила, что ли? А? Ты, девочка? Куда везти-то? – услышала наконец голос таксиста.
В тепле машины, освобождаясь от озноба, отдыхая от охватившего душу ужаса, невидящим взглядом глядела на лицо таксиста.
458
– Пьяная, – сказала, приходя в себя. – До Восточной везти.. Сколько
туда?
– Хм. Сколько накрутит... Ты что? На тачке не ездила? Или без денег? Без копейки не вожу. Десятка, полторы..
«Пятнадцать рублей!» – ужаснулась, но промолчала. В машине было тепло, уютно. Стучал счетчик или часы. Мягко качало. «Победа» мчалась по безлюдным улицам, с шелестом раздвигая тьму. Отходили мои заледенелые ноги, колени, сошла дрожь, и я уже осмысленнее поглядела на лицо спасителя. Простецки широкое, наверное, бывшего колхозного тракториста. Гаслый окурок зажат в углу рта, здоровенные руки на руле, привычно подкручивают руль. Руки грузчика, пахаря. Мужские руки.
– Видно, здорово ты поддала! – опять сказал таксист с каким-то намеком. – Долго гуляешь, курносая.
«Ух, ненавижу, когда меня так называют!» – совсем приходя в себя.
– Да кто я вам? Чего вы? – вдруг вскипела я.
– Ну-ну! Ишь ты! Строгая.. Чего ты?
– И не «ты»!
– Ну, извини. Я попросту. Деревенский. А ты вроде и не пьяная? – взглянул пристальнее.
– И попросту надо вежливее! «Ты-ы»..
– Какая вы.. Вы кто будете?
– Зачем вам? Вы же все уже определили.
– Ну, не серчайте.. Я – попросту. Вижу теперь. С работы.. должно.. Не выпивши. А нам всяких возить приходится. Да и время такое. Какая уж работа? Счас только гулящие..
– А такая! Медсестра я. Из больницы. Со смены.
– О-о. И так поздно?
– Операция.
– А-а-а, – протянул он уже другим голосом. Выбросил потухлый окурок. Нащупал пачку.
459
– Закурить можно?
– Курите.. Хотя я терпеть не могу табак.
– А.. Ну, тогда я не стану.. Ладно.
Он стал вдруг неуверенный, потерял свой беспечно-наглый тон. На время замолчал. Но краем глаза я видела, – он рассматривает меня, и рассматривает пристально. Взгляд прошелся по рукам, поискал обручальное кольцо, не нашел, оттеплел, порхнул по колену в распахнувшиеся полы пальто и, должно быть удовольствовавшись обзором, вернулся к дороге.
Я запахнула пальто. Молчала. Оттаивала. Все-таки он не представлялся мне противным, этот мой спаситель. Не окажись его, что бы со мной было? Даже не могу предположить.
Молчала.
– Так вот ездишь, ездишь.. Мыкаешься, не спишь.. А еще девушки такие строгие, неразговорчивые.. Попадаются.
– Я не девушка.
– А кто вы?
– Ну, мать, вдова, – ляпнула, чтобы отделаться: отвяжись ты со своими разговорами. Как часто мужчины противны этой дурной, расхожей, прилипчиво-примитивной речью.
– О-о-о.. По вам не скажешь! А сколько же лет, однако.. Вам? А?
– Такое у женщин не спрашивают.. Много... Или мало..
– Эт-то правда, что не спрашивают, а вы все равно как девчонка.. Я думал – двадцать.. Двадцать пять навряд.. А?
Он ошибся почти на двенадцать лет. Я молчала. Обычный, наверное, дежурный у них, таксистов, разговор.
– Ну, звать-то вас как хоть? Не скажете? А? Эх.. Зря.. Я ведь от души.. Теперь поняла, что понравилась. И не как-нибудь, сильно понравилась.
Это знают и понимают все женщины, сразу, всегда. Понимают самые тугие умом. Здесь не нужен ум, здесь шестое, седьмое ли женское чувство.
Он довез меня до самого дома, а когда открыла сумку рассчитаться,
460
сказал:
– Завтра вас встречу?
– Зачем это?
– Ну.. Кхм.. Ну, просто.. Понравились вы..
– Не стоит.
– Деньги мне ваши не надо.
– То «не вожу», а то «не надо»?!
– Дак я думал..
– И мне ваших тоже не надо, – сказала, кладя деньги на сиденье, дергая ручки дверки. – Как она у вас открывается?
– На себя надо.. Вот. Поговорили.. К себе ручку. Тяните.
– До свиданья. Спасибо..
– Так приеду? Кончаешь когда?
– Кончаете..
– Х-х.. Хм. Ну, погодите.. Какая вы.. Кончаете когда.. Во сколько?
– По-разному.
Я торопилась. Сын, наверное, не спит. Обещала вернуться в восемь, не позже девяти. И еще миновать жуткий ночной двор, который и днем-то – пустыня.
Ушла. Почти убежала. Что мне этот, даже с румянцем, в общем-то не противный парень? На вид ему.. Не парень, конечно, – мужчина. Лет тридцать – не больше. Наверное, нет тридцати, и я старше его. И не люблю таких вот хватких, которые сразу к делу. Натерпелась от них на фронте – и тут то же! Везде-везде одинаково: присказки, шуточки, приставанья-токованья, одно другого глупее, тошнее. И в больнице хватает мужского внимания. Избегала мужчин чересчур смелых – и всегда попадала к ним.
– Где ты так? Чего такая красная? – сын встретил у дверей.
В комнате накрыт стол. Ждут расставленные тарелки. Кастрюля супа греется на плитке. Стоит нераскрытая бутылка фруктовой. Сын и я ее любили. Покупали редко. Нам все дорого. А сын ревниво оглядывает меня,
461
что-то ищет в лице, в движениях.
– Устала я, Петя.. Устала.
– С усталости бледнеют, – резонно заметил он, по-мужски поджимая губы и все еще приглядываясь.
– Поел бы.. Задержалась из-за операции.
– Что я буду один? Одному и невкусно.
Видимо, не нашел то, что искал, смягчился взгляд. Сели ужинать. Шел второй час ночи. Рассказала, как мерзла на остановке. Поехала на такси. Одобрил.
– Ты бы совсем замерзла! Уже все передумал. Сказала в девять.. Бежать, что ли, тебя встречать, искать? Вот телефона нет, плохо. А то бы позвонила. В такси хорошо ехать? Мягко? Мне бы хоть раз прокатиться! Да ладно. Дорого, наверное?
– Дорого, Петя.
– А все равно правильно. Не простыла хоть!
Неделю спустя тот же таксист встретил, когда я подходила к трамвайной остановке. Был не по-осеннему теплый, солнечный вечер. «Победа» стояла у обочины. Он вылез из нее мне навстречу, празднично улыбался. Вид был одновременно принаряженный, будто праздничный, и растерянный. Теперь я получше разглядела. Светловолос, новая куртка расстегнута, свежая голубая рубашка, белые зубы блестят в улыбке. Подумала почему-то, что с таких вот рисуют плакаты. Что-то такое, помнилось, видела где-то: семья трактористов! Впереди он, плечи в разворот, мужественное, доброе лицо, шея, улыбка, рядом женщина в красной косынке, мальчик при ней, позади желтые колхозные поля и трактор. И все, семьей, устремленные, улыбчиво-голубоглазые. Вперед и выше!
– Здрасте.. А я жду.. жду.. Это.. Давно уж..
– Здравствуйте. И напрасно. Я ведь на трамвае езжу. Такси не по заработку. Теряете время. Деньги.. Копейку.
– Да какие могут быть разговоры? Я же.. Вот еще! Про деньги не
462
думайте. Вот еще! Я же за так довезу..
– А «за так» я не езжу. Это еще дороже!
– Почему это? Как? – теперь он выглядел только растерянным, сник, потерял свою плакатность. Хмурил светлые поблескивающие брови. – Да са-дитесь! – указал на открытую дверку.
– Я же вам объяснила? Не хочу быть обязанной..
– Какая вы.. Девчонки вон сами просятся..
– Их и возите.
– Опять обиделись? Обидчивая. Не подумайте что.. Я от души. Серьезно..
Подошел трамвай, и я уехала. Таксист показался глупцом. Видела, как некоторое время он катил рядом с трамваем. Потом «Победа» рванулась, обогнала трамвай, ушла вперед. Подумала: «Слава богу! Вот привязался.. Благодетель». Смотрела в окно, слушала, как кондукторша, крикливая баба с придурью, костерит каких-то ребят на площадке, заставляет брать билеты. Ребята гигикают, баба грозится звать милицию. Таксист этот, может, и правда ничего парень – добрый, простой. Что-то такое есть в нем. Но ведь и
простоте, простоватости бывает какая-то жестокость, неослабность. И помнила это: «Без денег не вожу»! Без денег! Бог с ним! Даже не стоит разбираться. Зачем? Для чего? Рассудком отрицаю начисто такого «ухажера», а память держит мужские руки, крепкие руки, улыбку плакатного тракториста – парня, выросшего на деревенском полевом просторе. В профиль же он неуловимо напоминал Алешу, навсегда потерянного, навсегда моего. В военкомате в сорок восьмом сделала запрос – лет через пять мне сообщили: капитан Алексей Дмитриевич Стрельцов погиб под Минском в июле сорок четвертого.. Все.
Тысяча девятьсот пятьдесят..
...Теперь был 1958 год. Мне шел тридцать шестой, и я была незамужней. Мне оставалось недолго до возвраста, когда кончался срок весталок. Срок служения странной богине Девственности, Чистоты,
463
Покровительнице Семьи. Уже после тридцати трех что-то такое случилось со мной: перестала я крепко спать, становилась все раздражительней, все беспокойней. Думала – всему виной квартира-общежитие, где то веселились гости Коли-пианиста, то орали, плясали пьяные браконьеры или друзья буфетчицы – беспокойная «благоустроенная», в которой никто, кажется, не умел и не хотел жить по-людски. Или все-таки была другая причина, что скрыта уже в моем возрасте, в моем безбрачии, женской сущности, в чем-то еще? Отчего я похудела? Отчего так обострился слух, блестят глаза, отросли-загустели волосы, так что теперь уже много ниже талии и я завязываю их узлом, еще как-нибудь, потому что стесняюсь заплетать в косу? У меня внезапно твердеют губы, груди, и все чаще ночами будит, тяготит и холодит мысль: «Неужели так я и проживу одна; ведь уже близко, рукой подать до срока, когда женщине вроде нечего ждать, нечего терять и не о чем мечтать? Хорошо еще, что я с сыном. Иначе бы не знаю, как жить. Сын делит мое одиночество, разрушает его, но все-таки я как была бессемейная, так и есть: малонужное существование, ущербность, временами невыносимая почти, тоскливая пустота, как в комнате, но без стен, особенно по ночам, – днем работа, днем некогда думать-гадать. Все как исповедь. Но по-прежнему я отталкиваю тех, кто суется ко мне, кто явно подходит знакомиться. Иногда нарочно и будто назло им начинаю разговор с забот о сыне, и азартный мужской блеск в глазах собеседника тотчас тухнет – иные стараются отъехать потихоньку, но я-то вижу, жду этого и, понимая, словно злорадствую: «Ага! Ра-зо-ча-ро-ван! Вот так тебе!» Впрочем, кого винить? Вообще, зачем обвинять кого-то, кроме себя? Скорее всего, и я поступила бы на их месте так же. Я человек, и ничто человеческое... Кому радость брать женщину с уже достаточно взрослым детенышем, заведомо зная или не зная, как он тебя встретит, как отнесется.. Но, может быть, сильнее, чем мужа, я хотела отца своему ребенку. Отца, но не отчима, и, понимая всю невозможность, абсурдность желания (ведь не хотела и отца, который у него все-таки был!), по крохам будто, по лучшим мужским черточкам собирала в
464
себе образ мужчины – истинного, настоящего, и прежде всего такого, как мой Алеша. Я все старалась внушить себе: Алексей Стрельцов – отец моего сына. Сын носил его отчество, так, в сущности, кощунственно данное мной. Вина мучила, когда раздумаешься. А сын, пока был младше, донимал расспросами об отце. Кто он? Как я с ним познакомилась? Какой был? Почему нет даже фотокарточек? И приходилось лгать, выкручиваться, объяснять необъяснимое. Видела недоверчивый свет в глазах сына, тот самый, когда знают, что собеседник врет, и стараются, делают вид, что верят
– ври дальше, – стыдятся в душе за него и за себя, пытаясь все-таки сохранить на лице все признаки правдивого восприятия, даже, быть может, поддакивая лгуну. Но чем старше сын становился – реже были расспросы. Как-то огорошил: «Почему у меня не отцова фамилия, в смысле – мужа? Какая была его фамилия?» Пришлось сказать. «Я бы лучше ее носил. И ты – тоже». Пришлось опять говорить: «Не успели зарегистрироваться. Фронт. Война. Были бои под Берлином». Лгала. Краснела. Думала, как все объяснить.
– Значит, ты и женой его не была! – отрезал сын. Иногда он был беспощаден.
А я уже не могла лгать. Смотрела и молчала.
– Не была! – повторил, осуждающе-презрительно глядя на меня. – Если б была, мы бы и не жили так. Получали б пенсию за отца. А где его родные? Вообще.. У нас в классе есть сын настоящего полковника и есть сын генерала. Смеются надо мной. Говорят, что все вру. А кто-то сказал, что я сын технички. Зачем ты меня обманываешь? Какой-то Полещук.. Командир полка..
Он был беспощаден.
А когда я заплакала, уткнувшись в стол, сын бросился меня утешать, даже встал передо мной на колени. Чуткая душа.. Жесткая душа... Да неужели – Полещук?!
Так жила. Шли мои дни и ночи. Утекала, развеивалась, молодость.
465
Наверное, последняя. Да какая уж молодость? Я, Лидия Петровна Одинцова, участница войны, фронтовичка. Тридцать шесть. Идет тридцать седьмой. А там.. Я и тридцатилетие, двадцатипятилетие перевалила с болью, чувствовала себя такой старухой – не приведи господи! Понимала и теперь – вся моя внешняя молодость, моложавость – обман. Может, кого и обманешь, только не себя. В душе будто снегу намело – так и несет холодом. Маячит впереди, грызет словцо: сорок! Сорок скоро! «Сорок лет – бабий век». Кто сложил поговорку? Если б хоть бабий! А то стыд сказать-то, девочка под сорок лет, не трогана, не целована. И добро бы дурнушка – сиди, не рыпайся, такова доля!! У дурнушек семьи, мужья – все как у людей. Тридцать шесть! А сколько видела за эти годы! Иным не видать за двести. По радио, которое слушаю волей-неволей, недавно передавали: живет на Кавказе старик Мухаммед или Махмуд – не запомнила, – ему уже сто сорок. Пасет баранов, работает на винограднике, ест простую пищу, пьет родниковую воду и молодое вино. Отродясь никуда не отлучался из аула. Все эти годы! Каждый день его похож, наверное, на прошедший и на будущий, год на год, а теперь уж – век на век. Но так ли долга его жизнь? Что ее длина? Не похожа ль на тот мой подвальный, хотите – так подпольный период, когда семь лет проскочило как день, и, если б не книги, я, наверное, потеряла бы все, потеряла себя. Мысль не давала мне покоя, и, обдумывая ее так и сяк, приходила к одному: время измеряется не количеством суток и лет – время измеряется количеством пережитого. Но тогда я, наверное, старше, чем тот стосорокалетний Мухаммед или Махмуд! Впрочем, своя ноша всякому кажется тяжела. Можно изводиться по пустякам, можно отмахиваться и от трагичного. Тяжесть времени различна для всех. «Не судите..» Не судите и меня, если пишу, что после тридцати и ближе к сорока душа моя пришла в несогласие с телом, которое, словно наверстывая упущенное, все его прошлые мучения и раны, цвело теперь притягивающей людей красотой и – мучило меня. Теперь именно это тело его, необуздываемая, неведомая мне раньше власть донимали меня везде, на улицах, в больнице, где ко мне
466
тянулись хотя бы взглядом и самые страждущие, и старики, и молодые, мужчины и женщины, каждые со своей оценкой, в трамваях, где мне галантно уступали место, чтобы тотчас с улыбкой осведомиться: «Который час?» или «Что вы делаете сегодня вечером?». Мне хмельно улыбались наши женатые врачи, и за все эти тринадцать лет меня никто не обнял, не поцеловал, не проводил до крыльца, как не было ничего такого и за весь срок моей молодости, исключая те несколько дней во фронтовом госпитале, где счастье на миг коснулось зыбко порхающим крылом не то бабочки, не то впрямь той синей неуловимой птицы.
Машинистка в комнате над нами – одиночка с двумя интернатными детьми-мальчишками. Кажется, я уже говорила, что полы-потолки здесь деревянные: высохли до звона, и, видимо, в таком состоянии дерево еще усиливает звуки, потому что стрекот машинки долбит по голове, переносится с трудом. Морщится даже мой терпеливый сын, занятый игрой в солдатики или чтением военной книги.
– Опять завела! – говорит он, косясь на потолок. – Хоть бы сломалась у нее эта машинка! Пулеметчица..
Машинка умолкала в полночь, когда являлся «приходящий муж». Он наведывался аккуратно через день, громыхал сапогами. Машинстка стелила. Они громко переговаривались, хохотали. Женщина все время что-то роняла на пол. Сапоги бухали: «Бух, бух, бух, бух». Половицы скрипели:
Сын-спартанец засыпал и под этот грохот, под назойливый скрип, лязг панцирной сетки. Я же не могла уснуть. Привыкнув за годы к подвальной, чем не могильной, тишине пустой ночной школы, лежала и проклинала «благоустроенную», гадюку Качесова, устроившего нам такую пытку, – недаром сопел, выписывая ордер, сиял свиными глазками. Кажется, здесь я уже ожесточалась на людей, окружавших меня, – на пьяницу буфетчицу, шалопута пианиста, дуру старуху, похожую на ведьму из Гауфовой сказки, на эту стерву машинистку и ее похотливого хахаля, который, едва кончив
467
скрипеть и вроде бы угомонившись, заводил все сначала – сквозь потолок неслись вздохи, стоны, дурной истерический смех в послеполуночной тьме, когда и на улице уже не горели фонари, ужасно скрипела в дурном ритме, лязгала кровать. Потом опять грохотали сапоги. «Муж» уходил перед рассветом. Он никогда не оставался до утра – спешил то ли к жене, то ли на службу. Я засыпала. Но иногда было и так, что во второй половине ночи или в прочие дни к Ирочке (так звали машинистку) заглядывал другой любовник, по голосу судя, совсем молодой парень. Должно быть, она была ненасытна. Если же не было никого, всякую ночь я просыпалась от звона ночной посудины. Казалось, что льется прямо на голову.
Вот такое соседство. И я думаю, человек, живший здесь до нас, при первой же возможности попросту бросил комнату и сбежал, ибо жить в ней не было никакой возможности и тянулась одна беспросветная маета. По воскресеньям или еще в субботу вечером машинистка приводила своих интернатных сыновей. В шесть-семь утра они уже кричали: «Ку-ку! Ку-ку!» Дальше начинался визг, вопли, возня, падали стулья, что-то грохалось и раскатывалось по полу. Потом дети заводили проигрыватель, включали на всю возможную громкость. У машинистки были хрипучие, заезженные пластинки. Мелодии помню наизусть и теперь. У меня и сейчас начинается что-то вроде нервной крапивницы, когда ненароком слышу вот это:
Чико-Чико,
из Порто-Рико!
это Чико прибыл к нам из Порто-Рико!
Чико-Чико,
из Порто-Рико...
Они заводили его раз по двадцать. В те редкие ночи, когда машинистка все-таки спала или ее просто не было дома, я отдыхала, как от тяжелой ноши,
468
но безмятежно отдохнуть в этом проклятом, набитом жильцами «дровянике»
– так звали дом аборигены – было невозможно. Где-нибудь все равно, хоть отдаленно, пело-бормотало радио, неслись гулевые крики, кто-то ссорился, кто-то затевал переделки в квартире, не стеснялся стучать и в два часа ночи, кто-то плясал, справляя именины или свадьбу, и везде трубили, рычали в самый поздний, любой час расхлябанные краны и сточная канализация. Досыта и до слез нажившись во всех этих коммунальных и «благоустроенных», прихожу к выводу, что человечество, миллионы лет жившее в пещерах и землянках, все-таки не приспособилось за столь краткий срок к стремительно вершащемуся многоклеточному бытию, к микрорайонам, к бетонно-кирпичному стандарту, где оно совсем еще не научилось жить и вряд ли скоро научится. К тому же миллионы лет человек был без радио, без телевизоров, магнитофонов, воющих водопроводных труб, пылесосов, центрифуг и стиральных машин и без того безвыходного как бы положения, когда один дурак легко портит жизнь сотням нормальных людей. На фронте, в землянках, я, бывало, спала лучше, чем в «благоустроенной», вечно в ожидании, даже во сне: вот явится не знающая никаких приличий блудливая баба, эта Ирочка, зазвучит ее голос – крик, наглый смех, забухают сапоги, а то и «Чико» опять поедет к нам из Порто-Рико.
Ирочка довела меня до отчаяния, и однажды я встретилась с ней на лестнице, высказала все.
Пустоглазая тощенькая дрянь, она смотрела, поджав впалые губки. Бледненькое, блестящее от крема косметическое лицо завзятой пустельги и хамлюги, подбородок лимоном, выщипанные бровки, одна жесткая наглость во взгляде. Больше ничего. Ничего!
– Кто ты такая мне указывать, как жить?
– Я.. Я уже не могу домой заходить, спать не могу от вашей машинки, от вашей возни, вашего грохота, вашей..
– Если голодная – так и скажи. И тебе приведу.. Чего орать? Сама
кто?
469
О, сколько я видела потом, сейчас, тогда точно таких. Их словно бы больше и больше!
– Скажи своему.. хахалю, чтобы он хотя бы снимал сапоги!
– А может, я люблю как раз в сапогах? – она меня уже мерила взглядом готовой цапнуть гадюки. – Кто ты такая меня учить?! Ты такая же б... Одиночница! Фронтовая подруга! Строишь из себя! Во-е-ва-ла там! Знаю как!
И тогда я ударила ее. Столкнула с лестницы. Она покатилась, завизжала на весь подъезд. Из квартир высовывались и меня стыдили! А машинистка кричала: «Сука! Стерва фронтовая! Я этого так не оставлю! Ты у меня наотвечаешься!»
И меня действительно начали вызывать к следователям, приносили повестки. Меня предупреждали о возможной ответственности. Машинистка наврала, нагородила, что я избила ее сильно. Собирала свидетелей. Неожиданно на ее стороне оказалась одноглазая Таисья. Меня же защитил Коля-пианист, показавший, что Ирочка первая стала меня обзывать. Дело едва закрыли. Я проклинала себя за горячность. Сорвалось. Стоило трогать эту гадину. И еще я поняла: подлец всегда защищен! Пока найдешь управу – сама сломаешься! И все продолжалось по-прежнему: машинка стрекотала, сапоги бухали еще наглее, кровать скрипела и Чико-Чико ехал к нам из Порто-Рико.
Ломала голову: куда деться? Как избавиться? Как? Снова куда-нибудь
школу? Просить квартиру в больнице? Но любой Качесов только буркнет: «Жильем обеспечены? Все по норме? Отказать! Меняйтесь». Сменить квартиру? Но в лучшем случае выменяешь нечто подобное, да и сама совесть словно заграждала мне дорогу к мысли о таком обмене, а точнее, обмане. Слова не зря стоят рядом. Звучат сходно. Кого бы я обманула, завлекая в этот
– хотелось назвать его грубо точным неприглядным словом? Купить дом? Как в золотом сне, мечтала теперь об отдельном домике, пусть бы самом крохотном: комнатка, кухня, лишь бы без соседей справа, слева, сверху —
470
отовсюду, без невыключаемого радио, без «Чико-Чико». Готова была пилить дрова, топить печь, носить воду на коромысле – лишь бы отдохнуть душой. Купить... дом. Но на подступе к желанию падали руки. Какой дом, если вечно недостает денег на самое необходимое. Правда, теперь, как одиночке, мне платили пособие на сына. Пособие пособием. Оно точно названо. А моей двухставочной зарплаты медсестры только едва-едва. Купишь платье или пальто – и на полгода режим строгой экономии. Счастье еще – обходимся без долгов. Долги непереносимы. Даже мелкие: рубль-два. Они мучат, вгоняют в нервное напряжение, в постоянное напоминание: не забыть. Отдать! Большой долг я как-то даже не могу представить. Наверное, это скала, которую надо держать, или как меч, занесенный над шеей. Как под мечом жить? В мудрости моих тетрадей было: «Бедность без долгов – зажиточность». Вот такая зажиточность у нас длилась уже более десятилетия. Бедность без долгов. Выкручивались. Бывало, к столу один хлеб, картошка с солью, вместо чая – вода без сахара. «По-суворовски!» – называет такой «чай» сын, усмехаясь недетской улыбкой. Я готова целовать, тискать его за эти слова в такие минуты. Но сын не любит «нежностей», выворачивается, когда обнимаю: «Да чего ты? Маленький, что ли!» По-суворовски.
Ходил в школу легонько одетый. Не носил зимнее пальто. С одиннадцати записался в секцию самбо. Возвращался в синяках. Иногда хромал. Не жаловался. Ругала. Отмахивался. Учился средне и вроде бы без всякой охоты. Без двоек, и то, наверное, чтоб меня не огорчать. На все свое мнение. Не переубедишь, не переспоришь. Или молчал, или отворачивался, кричи не кричи – камень. В солдатики играл по-прежнему увлеченно, клеил танки, занял своими армиями весь угол, чертил карты, писал диспозиции или приказы. Уже не дивилась, со страхом убеждаясь: кажется, все-таки он сын своего отца.
А таксист продолжал меня встречать. Его звали Костя. Константин Михайлович Самохвалов. Он был настойчив, как никто из случайных
471
знакомых, если не принимать в расчет больных. Но привязанность больных
– до порога. В отделении, на койке: «Лидия Петровна! Лидочка! Лидуша, родная, милая, дорогая». Взглядом по лицу, по халату, по косе – стала ее заплетать, надоело мучиться с прическами, – взглядом по чулкам, туфлям. Потом: «Спасибо, Лидочка! До свиданья, Лидочка». – «До свиданья», – разве что опять здесь, в палате. Уходили, будто растворялись, исчезали из памяти; вероятно, и я оставалась в их памяти белым расплывчатым пятном – женщина в медицинском халате или только этот халат. Я и не ждала никакой благодарности. Многие профессии, а особенно медики редко видят ее. Куда чаще озлобленное: «Не так лечили!», «Не вылечили!», «Чего они знают?!», «Им бы только резать!», «Им бы...». И никто не думает, что болезнь бывает сильнее врача, что в болезни чаще виноват сам больной, что лечение – дело долгое, непростое, общими силами. «Им бы только..» Мы привыкли. Мы притерпелись. У нас своя гордость. Работа. За нее платят не щедро. Трудятся же все по-разному. Есть среди нас нерадивые, есть тупые, есть карьеристы – есть всякие, а в основе, считаю, все-таки подвижники, все-таки человеко-любцы, сострадательные и честные, может быть, самые сострадательные, одержимые этой сострадательностью. Простите, вырвалось.. Но душа человеческая тайно ждет благодарности, надеется, как на справедливость, на счастье, благодарности-то простой – добрым словом, приветом. Убеждалась всю жизнь: лучшие люди – благодарные люди, худшие – те, кто за добро платят злом. Самые лучшие платят добром за зло. Этих по пальцам перечесть. Не густо. Святые. От них по земле сеется благородство. Сеется благородство. Лишь плохо всходит.
Таксист Константин Михайлович был настойчив. Был вежлив. Не узнавала в нем того первого, когда вез полуобморочную, полузамерзшую, с заледенелой душой. Если вспоминать о благодарности – спас. Не хотела, но привыкла. Отыскивала в нем Алешу. В тоне голоса, в профиле ловила едва уловимое, оживляющее. Озадачивало, напоминало ту мою единственную любовь. Пишу «любовь» – а что знаю о не й? «Любовь – не вздохи на
472
скамейке и не прогулки при луне». Что тогда? Бесконечные взгляды, руки, приставания-прилипания, шутки-прибаутки да еще тоска, исподволь гложущая душу, как весенняя вода берега. Томилась такой любовью душа. Отравлялась. И осыпались берега. Мутнела вода. На подходе к сорока мучилось тело. А может, и не бывает никакой любви? Нет ее? Одна выдумка? Не бывает? Мечтала – стану женой. Буду сладко родить детей, вести дом, встречать мужа на пороге.. Будут солнечные дни, как у матери с отцом, будут счастливые вечера и ночи! Дождалась? Вот – дом: «благоустроенная», сыновья безотцовщина – чем не сиротство? Работа. Больница. Отделение с вечным запахом крови и мочи, от всех этих ран, гниющих почек, банок с пробами по Амбурже и по Зимницкому. Да и то не горе. Горе – кончается уже моя молодость, проходит, вся почти ушла. Неужели в будущем одна только гордость, как у нашей ветеранки-нянечки, суровой старухи Анны Семеновны, уже пятьдесят лет отдавшей больничным стенам, больным. Анна Семеновна – как сама урология. Суровость, терпение через боль, страдание через молчание, лучшие больные таковы, лучшие врачи похожи на своих пациентов.
А Константин Михайлович Самохвалов уже приглашал в кино. Привозил билеты. Соглашалась без радости. Сходили и во второй, и в третий раз. Дивилась себе. Смотрелась внутрь. Ледяная, действительно, что ли? От Константина Михайловича, чем дальше, нет отбоя. Теперь не «Победа» – серая «Волга» с оленем, похожим на самоварный кран, ждала у подъезда больницы. Сестры и нянечки быстро разнюхали, врачи ухмылялись, я краснела. Но никуда не могла деться (а впрочем, не особенно и старалась).
Как-то весной Самохвалов пригласил меня в ресторан.
VIII
Зачем я согласилась? Вопрос, наверное, не редкий в жизни женщины. Зачем?.. Почему? Не хотела, не предполагала, не ждала, не думала. Никогда
473
не бывала в ресторанах, проходила мимо, представляя себе нечто запретное, как вертеп. До войны рестораны считались роскошью, ходить туда могли, как думалось, особенные, очень состоятельные люди, актеры, писатели, директора, а по мнению моей матери, еще жулики и прощелыги. Так считала она, и чего-то подобного во взглядах придерживался отец. Были они в ресторане, кажется, всего один раз, на банкете по окончанию строительства не то вот этих «госпромураловских», не то «городка чекистов», – а вернувшись, вспоминали, как в ресторане красиво, какая музыка и как забавно все подается «на грош с вилочки», икра, например, в особой посудине на колотом льду, где кажется – ее много, на самом деле – чуть, так же обманно свернута ветчина, настрогана колбаска. Родители придерживались насчет еды старорежимных, старосветских ли правил, мать так и готовила: много, вкусно и попросту, без лишних затей. Вспоминала те далекие разговоры, когда уже согласилась идти в ресторан, вспоминала и всем известную «Ялту», ресторан в центре, с директором и с поваром которого сводила меня судьба. Не раз проходя мимо этой «Ялты», слышала гром музыки – играл джаз, из вентиляторов несло шашлычным чадом, за шторами тени танцующих, у подъезда стадные, полупьяные, приторные взгляды, ухмылочки, восклицания, и, ненавидя все это, бывало, заранее пе-реходила улицу на другую сторону. Меня те люди постоянно окликали, словно бы ждали-требовали непременной игривенькой улыбки и ответной коль уже не теплоты, то хотя бы какой-то приобщенности. Приобщенности к ресторану.








