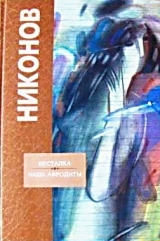
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
На фронте, в госпиталях, работая техничкой и сестрой, накрепко убедилась – женская привлекательность скорее уж наказание, чем счастье. И если б родилась дурнушкой, как знать, не хватила бы, может, и половины своих бед, по-иному сложилась бы судьба. Никогда не считала себя красавицей, вероятно, вполне справедливо, к красавицам к тому же не слишком и лезут – их боятся, стесняются, но природа постаралась, дала мне что-то такое – вот эту самую, видимо, привлекательность, за что,
474
как за Лобаеву, с отроческих лет цеплялись мужские взгляды, если я даже не хотела этого, старалась внимани е уменьшить. А старалась не всегда, была женщиной – от этого не уйдешь. Была и сейчас.
Собираясь в ресторан, накануне еще ломала голову: «В чем идти?» Опять женский вопрос. Опять вечный для всех. Для меня особенный – не было ничего настоящего, праздничного, платья например, тем более вечернего, да скажите: у кого оно есть и было тогда? Нет платья, нет никаких украшений, хороших модных туфель. Из всего ресторанного – одни чулки с черным швом, черной высокой пяткой, крик моды тогда, который позволила себе купить, но ни разу не надевала. В моду к чулкам с черной пяткой входили широкие юбочки-«кринолины», юбки «бочонок» и «тюльпан», туфли на «бразильском» каблуке – десять сантиметров. Мода красивая. Да...
Если б «кринолин», если б туфли.. Прическу.. Волосы еще хоть куда, коса уже ниже бедра. Маета с ней. Закручиваю, закалываю попросту. Из праздничного, пожалуй, еще белая шерстяная кофта, одна юбка поновее. Решила – их и надену. И все кляла себя, зачем согласилась в этот проклятый ресторан?
Сын смотрел, как я собираюсь, причесываюсь. Застеснялась даже. Во взгляде не насмешка, не ревность, нечто провидческое, он, конечно, догадывался о моем состоянии, тем более что я и не пыталась ничего скрыть, кроме того, что иду в ресторан, иду не одна. Он догадывался, что в моей жизни что-то изменилось, меняется.
– Что ты так смотришь?! – не вытерпела, сердито сворачивая косу в привычно тяжелый круг. Сердилась притворно, чтоб оправдаться.
– Ничего... – отвернулся, стал смотреть в окно, где тополь, только что одевший вершину в яркий майский лист, тянулся в легкое вечереющее небо.
– Петя? Я же.. на день рождения.. Пригласили.. – и еще что-то бормотала пошло-пустое, оправдательно-противное, лживое.
Молчал, не оборачиваясь, глядел на тополь и на закат. Заря за крышами
475
была ясная, высокая. Розовые тона вверху еще чуть светлели, чуть холодели.
– Что же.. Я не могу пойти? Я и так, знаешь, никуда не хожу. Могу я.. наконец? Могу..
– Можешь.. – раздалось через спину. – Только все ты врешь.. – он вздохнул.
– Петя?! Как ты со мной? Что это значит? «Врешь». Маме? Мне? – опять оправдывалась.
Сын обернулся. Недетские грустно-насмешливые – теперь словно не мои и не отцовы – его собственные глаза. И они видели меня насквозь, всю меня, всю мою недействительную, неспасительную ложь, путаницу мыслей, смущение, смятение.
– Петя? Почему ты так со мной? Я никуда, никуда не пойду.. Почему? Объясни..
– На день рожденья покупают подарок! Не суетятся, как ты. Не мажутся.. Не смотрятся столько. Ты как замуж собираешься! Одни волосы полчаса крутишь.. День рожденья..
– Я.. хочу быть красивой.. – жалко сказала я. – Чего ты выдумал?
– И так – красивая. – Он снова отвернулся.
– Ну, хочешь? Не пойду? Никуда не пойду. Все! – взялась за кофту.
в самом деле была готова никуда не идти.
– Раз обещала – иди! Только никогда не ври, – грубо ответил он и ушел на кухню.
Зачем согласилась? Все уже было смазано сначала.
Самохвалов ждал меня на углу у оперного театра. Был разодет, в новом весеннем пальто, – вечер по-майски холодный, но пальто расстегнуто, виден и новый бостоновый костюм, белая сорочка с галстуком «стрела», дорогие ботинки на каучуке и даже велюровая шляпа, которая не шла к его провинциальному, еще не вписавшемуся накрепко в город лицу, была не по сезону. От его нарядов тотчас еще более выцвело мое неновое вишневое
476
пальто, полинялая косынка, состарились туфли и даже щегольские чулки «черная пятка» сделались пошло-ненужными. Кавалер не мог скрыть, что ждал меня более роскошной, приодетой, а я пришла почти такая же, как ходила на работу. На лице его отразилась мука за себя, за ненужное в данном случае франтовство, но, с другой стороны, может быть, лишь за мой нересторанный наряд. Все это он попытался быстро спрятать, но не смог, покраснел, попытался улыбнуться, улыбка вышла кислая. А когда я сказала, что в ресторан не пойду, Самохвалов нахмурился – глядел на свои желтые чешские ботинки, на меня и снова на ботинки. Кажется, такие назывались фирмы «Батя».
– Так я же.. Столик заказан. Днем еще заезжал. Метру полсотни бросил. Нельзя. Не идти.. Пропадет. Заказ пропадет.
– Да зачем это: столик, аванс?! Вот еще!
– Так делается. Метр у меня знакомый, ну, не мой, а ребят. Место лучшее выбрал. Официант, Вовка, будет свой. Что ты? Нельзя. Все будет без обману. Аванс же..
– Не пойду я.
– Ну-у, во-от! – теперь с искренним огорчением он снял свою велюровую и снова надел горшком. Лучше б не надевал. Вот на какой-то литографии я видела Есенина в шляпе, с трубкой. И шляпа, и трубка не шли ему. Самохвалов сейчас был похож.
– Шляпу-то зачем?
– Ну, что ты.. В ресторан же! Тузом надо.
– Тогда мне хотя бы надо дамой. Потому и не хочется. Нарядов у меня
нет..
– Да ну-у-у, бро-ось, – сказал он тогда как-то по-мужски, повелительно-мягко, и это сломило меня. Пошла.
Майские листочки едва пробивались меж розово цветущими на закате яблонями. В холодном небе свистели стрижи. Они что-то знали, к чему-то готовились, простому и ясному, как небо, которое они чертили.
477
Было все-таки как пытка. Долгая, на весь вечер, но я решила ее вытерпеть.
Пытка началась уже в вестибюле ресторана, где сначала швейцар, а потом старик гардеробщик, оглядев через поднятую бровь мое пальто, все-таки взял его очень небрежно, как берут, скажем, какую-то мазаную рвань, спецовку, не стесняясь ворчать при этом внеразбор, но ясно: вот-де лезут прямо с улицы всякие, ни стыда, ни совести. Это брюзжание читалось на его лице, когда он вернулся и с тем же видом наглого превосходства, собственного знания жизни не глядя сунул бирку. «На, возьми! – брякнула она. – Бери, провинциальная дура со своим разряженным дураком! Ни ступить, ни молвить, а туда же...» Швейцар у входа, весь в желтых позументах, тоже еще раз оглядел меня сверху донизу, снизу доверху. «Да ты, видно, в людях первый раз, – было на жирноватом изношенном лице. – Первый и последний. Таким-то здесь не место». И они оба напомнили мне хамелеонов, когда тут же первый почтительно распахнул дверь, а старик гардеробщик, изобразив сладкую радость во всех сединах-морщинах, выбежал из-за стойки раздевать важную пару: он – в дорогом коричневом пальто, с повадкой крупного чиновного владетеля, она – дама, настоящая, дорогая, отменная, в розовых просвечивающих, прозрачных (почти) крепжоржетах, соблазнительных изгибах, надушенная и золоченая. И как жеманно достойно приседала, держась за него, надевая золотые босоножки-полутуфли.
Здесь, видимо, всех расценивали на деньги. Встречали по деньгам и даже не только по одежде, но по каким-то еще неведомым признакам крупных, толстых червонцев, у людей, служивших тут, было явно особое чутье на сыто масленый запах больших купюр. Это поняла по самому воздуху ресторана, публике, толкущейся в вестибюле. Смело крашенные девочки. Развязные, малопуганые молодые люди, из папиных захребетников. Прототипы таких, кого сейчас называют «деловые». Парочки с разницей лет
478
на двадцать или тридцать. Пары вроде вышеописанной. Здесь и «мой» Самохвалов гляделся, пожалуй, белой вороной, никак не завсегдатаем – про себя я уже все сказала. Он старательно причесывался у широкого зеркала, делал это степенно, по-крестьянски. Закончив, дунул на расческу. Пожалуй, он понимал мой позор и мое состояние – явиться в эти хоромы в почти будничном, бедненьком. Особенно хороши мои чулки в неновых башмаках. И хотя я, наверное, не походила на женщину с улицы, на птичку-пташку, которую пригласили на вечерок и которая так же запросто приняла приглашение (для этого есть особые приметы, и такие пташки здесь как раз щебетали целым десятком, на них швейцары не обращали внимания – они свои), именно моя несхожесть и не вписывалась в табачную атмосферу вестибюля, где плавали-доносились вместе с говором звуки оркестра сверху и дальние запахи кухни снизу.
По широченной, довоенного размаха лестнице – ресторан был при гостинице, строенной в те же времена, что и больница, где я работала, с архитектурными излишествами, которые еще только начали отменять и упразднять, – мы поднялись наверх, причем, поднимаясь, я вспомнила своего отца и маму – они ходили, кажется, на субботники рыть котлован для вот этой гостиницы. Кто помнит теперь людей в стеганках, с ломами, с лопа-тами – разве что в старом, сером, мельтешащем дождевыми штрихами кино, где люди мечутся угорелыми муравьями, бегут дергающейся чаплинской походкой и похожи на человечков-дрыгунчиков, которых мастерил мне в детстве отец. А ведь то было истинное прошлое и нелегкое, хотя в фильмах все оно, казалось, шло под духовой оркестр.
И еще один служитель при входе в зал оглядел меня весьма критически, но уже ничего не сказал, – я же прошла врата и чистилище вестибюля и была, следовательно, допущена в общество избранных. Но мне хватило и его взгляда.
Громадный зал ресторана с квадратными яшмовыми колоннами и золотыми завитушками коринфского ордера (я была ведь все-таки дочерью
479
строителя, почти архитектора!) тонул в синем чаду, был полон, гудел ве-сельем, туманился праздностью. На эстраде модная певичка, выкатив бюст, пела низким шантанным голосом нечто рыдальческое, и оркестр красных, блистающих золотой медью словно бы дьяволов как бы стонал, вторил ей в такт качаниями труб, воплями саксофонов и тромбонов, вздохами контрабаса.
В ресторане мы оказались вовсе не одни, как я представляла и предполагала сначала, а за общим столом с друзьями Самохвалова, – похоже, были таксисты (так и оказалось, по крайней мере, трое из четверых). Все они уставились на меня. Радостно заорали. И хотя во взглядах их было и то, что заметила у швейцара, я все же мгновенно поняла, что понравилась, и даже понравилась до зависти к моему спутнику. И он так же все это понял, простил мне мой наряд, простил все, мы сели за стол. Нет. Ресторан не показался мне ни уютным, ни прекрасным, его роскошь была какой-то фальшивой, томила в то же время чадной приземленностью, а особенно не понравились мне пустяковые фрески на стенах – явно писаны халтурщиками: южное море, блеклые пальмы, кипарисы (как без них!). В общем, Крым или Кавказ со всей открыточной бутафорией, вплоть до белого парохода вдали. И еще маленький, конусом, парус. Все есть. И все поддельное, как крашенные бронзой капители колонн, как ярко переливающиеся, вспыхивающие елочные брильянты на черном платье певички, ее голос, сильный, красивый, но манерно испорченный рестораном, с искусственными придыханиями, как сами краснофрачные ливрейные музыканты со своими громкими инструментами. Обстановка, однако, подходила и к стенной росписи, и к папиросно-кухонному чаду, говору, смеху, звяканью вилок и ножей, беготне официантов с подносами, блеску лысин – их было много – и к накрашенной откровенности женских глаз и к усталости желтых, поддельно-хрустальных люстр в синем чаду, изнемогающих от этой усталости.
Неуютно, непривычно, голо, точно меня вдруг раздели, выставили
480
напоказ, на осмотр в витрину. Щупали взгляды тех, кто сидел за соседними столиками, и тех, кто был за нашим, – разглядывали уже откровенно, полноправно. Даже подумала: «Смотрины!» За столом кроме нас четверо. Все друзья. Все уже крепко выпили – «вмазали», «поддали», как сказал один из них, Миша. Мордастый, круглоплечий, широкий и, видимо, не-высокого роста. Знакомясь, как дверью, прижал мне руку, так что я ойкнула, а он, довольный, захохотал; по виду и по речам был дураком дурак, все рассказывал, как с кем-то вздорил, дрался, огрел кого-то монтировкой. Другой, рыжеватый, пучеглазый, по имени Сережа, был полон лишней, дурной энергии, она из него выпирала, рвалась наружу, в деятельность. Он картавил, не мог сидеть на месте спокойно, подпрыгивал, куда-то порывался, осаживал себя, беспрестанно курил и, тоже торопливо, всасываясь в окурок, торопливо пил, по-особенному забрасывая голову, втыкал в себя рюмки и так секунду сидел, подняв короткие брови, выкатив без того выпуклые глаза. В чем-то он беспрестанно клялся, кидал прибаутки, повторял всем известные, мусоленые анекдоты. К месту не к месту хохотал. А иногда, выпучившись, замирал – этакая сова. Третий – Володя, Владимир Варфоломеевич, – самый старший, золотозубый, плешивый, весь какой-то мягкий, мятый, как гнилое, мерзлое и оттаявшее яблоко. Рот его непрерывно светился. Он смотрел на меня осклабясь, точно кот на птичку, успевал еще оскаливаться на всех проходивших женщин, блестел ртовым комиссионным золотом, чмокал: «Вот бабе-ец! А корма-то, ребя-та? Кор-ма!»– и опять, щурясь, лил на меня свой гнилой золотой свет. Четвертый, самый молодой в сравнении с ними, моложе, пожалуй, лет на десять – пятнадцать, но битый, бывалый и оттого противно-уверенный, с ухватками уже подсушенного лагерями и пересылками, в глазах – яма, на пальцах наколото – какие-то словно бы перстни, – был в кожаной черной курточке, в ресторане – дома, на месте не сидел, приходил, уходил, приветствовал друзей-приятелей, и его приветствовали. Не понравился мне больше всех, я ему, должно быть, тоже. Это легко чувствую и, наверное, не могла скрыть неприязнь. Я все пыталась
481
поймать в черном, с присаленными отблесками давящем взгляде его хоть что-нибудь человеческое, не пугающее, не могильно-жуткое, как бы с обещанием немедленной расправы, ножа, переулка, еще чего-то такого, искала и не могла найти. Он улыбался, но только зубами, но только без глаз, глаза стояли, не поймешь, улыбался или щерился. Друзья звали его по-детски: Стасик, Стас..
Из обзора, осмысления компании нежданно сделала вывод в пользу Самохвалова. Он был все-таки явно лучше своих друзей, или я забыла известную всем пословицу, житейскую мудрость. Друзья не могут быть несхожими. Иначе – не друзья. Но Самохвалов был лучше по чистоте, мужской осанке, разговору, он все-таки еще не вписывался до конца в эту тройку-четверку, и тройка-четверка понимала, как понимают люди, мазанные одним миром, того, кто еще не успел приобщиться, однако приближается, небезнадежен. Что тогда присоединяло Самохвалова к ним, что объединяло всех этих мужчин? Шоферская профессия? Работа в одном предприятии? Но они были вроде не из одного таксопарка, были в разном общественном положении. Старая дружба – допустим, одноклассники? Совсем не подходило – все разных лет, разных для дружбы. Но тогда все-таки что? Этого я не могла понять, по крайней мере пока, да и некогда было понимать.
Нас встретили как опоздавших, тут же принялись наливать, потчевать. Миша кричал: «Штрафную! До дна!.. Штрафную, штрафную!» Сережа лил вино через край – и тут он торопился. Оркестр, будто подтверждая их крики, вдруг грянул бойкую мелодию, и певица в черном атласе, выставленная из него на треть желто-розовой голой грудью и спиной, держа микрофон у ярких губ, поигрывая густо черненным глазом, запела с той самой поставленной страстью. «Может быть, здесь и нельзя петь иначе, – подумала я. – В ресторане все должно быть ресторанное...»
– Люблю! – разнежился золотозубый Владимир Варфоломеевич, откидываясь в кресле, одним глазом ведя по наливным псевдомолочным грудям солистки, другим не упуская меня, соединяя в одно женское целое с
482
ней. – Люблю, – повторил, махнул мягкой ладонью, будто открывая всем дорогу в синий, чадный, блестящий лампами, лысинами, инструментами музыкантов мир, где тосковал и плавал густой, объединяющий всех голос певицы. У нее был все-таки очень хороший голос.
Здесь было нельзя не пить, и я храбро взялась за рюмку. Вкус вина. Оно горчило, было терпко-сладким, его я не пробовала добрых семь лет, с какой-то учительской вечеринки, еще при прежнем, первом директоре Вячеславе Сергеевиче. Семь лет? Нет, больше. Больше.. Господи, как летит время! Теперь уж не месяцы – годы. А скоро – десятилетия? Как будто куда-то все проваливается. Все потеряно? Ни молодости, ни счастья, ни подруг? Все потеряно.. Ничего не воротишь. Счастье отворачивалось.. Подруги? Их не было. Не заводились. Зина Лобаева? Не видела с тех пор, как она приходила в школу. Исчезла? Уехала? Ничего не знаю. Я все-таки выбралась однажды на ту длинную, кривую прижелезнодорожную улицу, дошла до места, где был сад, забор. Тополя все еще стояли там. И был забор, другой, новый. Барака – первого пристанища – не было. На месте барака ямы, сор. Нет, наверное, все десять лет я не пробовала вина. Голова кружилась, несло в глазах, а коса казалась мне ненужно оттягивающей голову. И мое опьянение тотчас заметили, по-своему оценили, без удивления, с радостью (Владимир Варфоломеевич). У меня же развеялся страх перед рестораном, перед залом в колоннах, публикой в нем, людьми за столом, в общем все-таки неприятными. Увереннее села, стала есть, попыталась войти в разговор. Но разговор все время шел о каких-то делах, деньгах, выручке, выгоде, выгодном рейсе или о Мишиных подвигах. Золотозубый (оказалось, как и предположила, не таксист, а какой-то экспедитор, не то зав) хвастал: привез импортный югославский гарнитур.
– Братва! За-качаешься! Черно-белый, полированный. Модерн. Было два. Один, – он сделал шевелящий жест мягкими пальцами. – Другой – мой. Приходите.
– А чо, Владимир Варфоломеевич? Раз можно – почему не нажить?
483
– подхватил Миша.
Непоседа Сережа все просился в какое-то дело, в «дело». Золотозубый снисходил, обещающе смотрел.
Стас-Стасик помалкивал, по стремительно бегающему взгляду – одобрял.
Деньги, деньги, деньги. Разговор о них не кончался, и даже «мой» Самохвалов включился, сказал: вчера за один рейс сделал план, возил цыган в Первоуральск и в Ревду. Не поскупились. По чести. В оба конца и сверх того. Деньги. Деньги.. Деньги..
Опять запела музыка. От столиков повалили в центр пары, танцевать. Самохвалов сказал, что танцевать не будет, не умеет. И тотчас меня пригласил Володя золотозубый, точно подкарауливал момент. Пошла, сму-щаясь, опять вернулась к своему состоянию неприязни к компании, к золотозубому, спугнувшему мое крохотное ощущение собственной значимости и раскованности. Танцевал он, как и ждала, противно, все притискивал к животу, ерзал ладонью по спине, ладонь, поглаживая сползала на талию, лезла на бедро и – через кофту чувствовалось – была мокрая, а я деревенела от усилия превозмочь гадливость, не оттолкнуть, танцевала плохо, не попадала в такт.
Потом пригласил Миша. С ним было проще, но танцевал, точно чурбан. И во время танца рассказывал про подвиги с монтировкой.
Сережа плясал как бешеный, выпучив глаза, крутил меня, толкал. Дурная энергия не давала ему покоя и тут, пихался локтями, налетал на танцующих то мной, то спиной, кто-то его обругал, кто-то толкнул. Ему хоть бы что, по-дурацки подмигивал, под конец просто скакал, выделывая кренделя, кривлялся, крутил руками. Стас-Стасик не приглашал. Дал понять
– я для него старуха. Срываясь с кресла, он прицельно бродил по залу, вытаскивая из-за столиков прогонистых девиц, скакал с ними чарльстон, «ча-ча-ча», кончив танец, бросал партнершу, исчезал, у него были все какие-то свои дела, разговоры с себе подобными. Этого Стаса просто возненавидела..
484
Сидели долго. Я устала от ресторана, от шума, музыки, танцев, назойливого золотозубого, который приглашал все время. Самохвалов принужденно улыбался ухаживаниям. Чем дальше – больше меня это злило. Зачем я здесь? Для чего пригласил? Для золотозубого! Для компании? Смотрины для всех? Постепенно разобралась, золотозубый тут вроде хозяина, от него зависят планы, рейсы, еще что-то и деньги, деньги, деньги. Кажется, именно это объединяло несхожих разновозрастных людей. Оркестр сыграл прощальный вальс. Музыканты поднялись. Сложили трубы. Но не уходили.
– Счас на броски играть будут! – заметил кто-то. А Володя, поманив официанта, что-то шепнул, вложил в руку. Спустя самое короткое время оркестр опять задудел, а певица объявила, что по желанию нашего уважаемого гостя они исполнят... И снова толстый живот упирался в меня. Танцевала как привязанная. Золотозубый не жалел денег.
Уходили чуть ли не последними, при полупотушенных огнях. Я шла, не зная, как отделаться от компании, от надоевшего Володи, от надувшегося
конце концов Самохвалова.. Не знаю, на кого он сердился – на меня или на золотозубого. В пустом вестибюле тот же самый гардеробщик, видимо за подкинутую бумажку, выбежал с моим пальто, галантно подал, надел, раскланялся. Меня он принял теперь за подругу не Самохвалова, а Владимира Варфоломеевича, очевидно широко известного тут. Отечески посвечивал улыбкой. И швейцар старался загладить ошибку, стоял у дверей, готовый их распахнуть. У зеркала я поправляла косу и вдруг увидела – по лестнице устало спускается одетый в синем пальто мужчина совсем не ресторанного вида. Этот вид и привлек меня. И вдруг я даже похолодела. Не может быть! Неужели? Лицо? Как я забуду это лицо! Вот оно: широкая рябая окружность. Глаза-точки. Широкие уши под кепкой, оранжевые в седину теперь виски.
– Степан Анисимович! – закричала.
Споткнулся на последней ступеньке, неловко шагнул, вглядываясь.
485
– Степан Анисимович!
– Девка моя! Лидка? Одинцова? – отталкивая недоумевающих, бросился ко мне, обнимая.
– Ты ли?
– Да я... я..
За спиной загалдели. Хватались за руки, за плечи. Лез Миша. Таращился Сережа.
– Да идите вы?! Сдурели? Мы по фронту друзья! – огрызался Степан Анисимович, отталкивая руки.
Коротышка уже готовил кулаки.
– Миша?! Перестаньте! Что вы? С ума сошли? Это мой.. Наш повар. По фронту. Сейчас же уйдите!
Еле отстал.
– Ну, девка, не ожидал.. Жива?!
– Жива! Что вы?
– Да слыхал, убило тебя. Ранило ли тяжело?
– Ранило.
– Горевал. Вот как! Не дожила, мол, девка до победы. Полшага оставалось. Жива! Слава богу! Как же.. И уши-те целы? Носишко цел? А? Лисичка? Вспоминал тебя! Вспоминал. Да идите вы? Чего надо? Поговорить
человеком дайте. Мы с ей четыре года! На фронте маялись. Понятно вам? У ей орденов-медалей, может, больше, чем у вас у всех. Сколь получила?
– Ничего.
Изменился в лице. Вгляделся.
– Как так? Что такое?
– Так вот. «За Победу» дали.
– А за Днепр? За дугу? За раненья?
– За них не дают. Не получилось.
– Да ты что это, девка? Да разве можно? Да как же так? Ведь тебя весь полк, можно сказать, знал! Сколько ты вынесла. Сколь? А Бокотько того,
486
бугая, кто тащил? Ведь он жив! И Обоянов жив! И Глухов-старшой. Я с однополчанами переписываюсь. Спрашивал об тебе. Нету. Как пропала, мол. Нет вестей. Что ты? Как это так? Справедливость где? – мрачнел, раз-глядывая меня. – А не шибко изменилась. Я сразу признал. Вот где встретились. С мужем, чай? Нет? А.. Ну.. Дело молодое... А я попросту. Я шефом здесь. «Ялту»-то закрыли. А я на пензию не хочу. Всю жисть поварил, теперь чо? Дома пельмешки стряпать? Нет. Работаю, Девка. Так жить легше. Ну, ладно, не стану держать. Извини. А поговорить надо. Заходи-ко. Как же это тебя обошли? Почто обнесло? У меня и то «За отвагу» есть, «За боевые».. Случай был, на дуге еще. Ах, девка. В больнице, говоришь, работаешь, – зыркнул по компании. – Так. Заходи. А вы чо? Думали – хахаль, что ли? Я б вам такую сроду не отдал.. Ну, до свиданья. Заходи-ко. Обязательно.
Обняла его сама, как родного. Он и был мне роднее родных, тем более этих, стоявших за спиной, мало что понимающих (а правильнее, наверное, понимали всяк по-своему). Степан Анисимович все-таки не показался им соперником, и они вышли.
А он, вернувшись с порога, еще спрашивал, как я живу, где, кем работаю. Пообещал списаться с Бокотько и с Обояновым. Как он их знал? Не могу понять. Воевали мы в одной дивизии, да дивизия ведь велика, и Степана Анисимовича до того случая, в Польше, когда обморозилась, я не встречала, а он, оказывается, обо мне знал, ведал. Разве что потом, на каких -нибудь встречах с однополчанами? Не могу этого объяснить и сейчас. Ну, Бокотько знали во всей дивизии. А Обоянова? Глухова? От расспросов удержалась. А он все твердил, что этого так не оставит, как будто от неполученных наград зависела моя дальнейшая судьба.
Когда наконец вышли, из всей компании на углу ждал только сумрачный, нахохленный Самохвалов. Распрощавшись с поваром, я подошла, вообще-то радуясь, что компания Миша – Сережа – Владимир Варфоломеевич – Стас исчезла.
– Ну? Навидались? – грубовато промямлил мой кавалер.
487
– Навидалась! – с вызовом ответила. – Что такое? Не ревность ли
уж?
– Да будут тут, всякие.. Старик же? А ты обрадовалась.. А рожа-то! Откуда такой?
– Мне этот старик жи-изнь спас! И не мне одной.. А с рожей осторожнее. Человек-то какой!
Пришлось рассказать.
– А-а-а.. Ну-у-у – как бы не доверяя, тянул Самохвалов, покосившись, добавил: – Неужто ты столько воевала?
– Считай, что всю войну. До победы.
– По тебе не скажешь. Я думал так, немного.. В конце.
Потом я напрямик спросила своего провожатого, что связывает его с такими друзьями.
– Не поглянулись? – усмехнулся он.
– Да уж – нет. Особенно этот Владимир Варфоломеевич. Во-ло-дя! До чего противный. И общего-то у вас не заметила. Кроме денег. Весь вечер: деньги, деньги, деньги.. Драки какие-то.. Фу..
– Хм.. Ну, это – Мишка.. Да он и врет больше, треплется. – Самохвалов потеплел, кажется, был доволен моей проницательностью. Сдвинул шляпу, прилаживался в такт к моим шагам. – А насчет общего...
Так работа же.. Мишка – сменщик. На одной тачке ездим. Серега – нормировщиком. Вовка – тот раньше завгаром был. Не здесь. Я у него начинал. А теперь он – поднимай высоко – Владимир Варфоломеевич! Базой командует. Стас – этот новый. Я его не знаю как следует. Володькин дружок. Блатняга. В замазке был, говорят, и даже по-мокрому. Вообще, согласен... Тип.
– Да что это у вас у всех за язык?
– Так шофера же мы. Не девочки.
– «По-мокрому», «в замазке». Миша этот матерится, отвратительно. Сережа – анекдоты, присказульки похабные.
488
– Так это ж не со зла... Слова. Эх, Лидочка, строгая ты какая (первый раз так меня назвал). У нас же без ругани, без мата не проживешь, без слов – как без рубля. Говоришь: деньги, деньги. Без них в таксо не суйся! В таксо – все на рубле. Мойщице – машину чтоб чисто – рубль, слесарю там, электрику, карбюраторщику – рубль, то-се сменить – рубль. Иначе – плакать будешь. Оденут и разденут. С диспетчершей чтоб ладушки, то вози ее, то рубль. Без этого букетик тебя обязательно накажет. Мы их «букетами» зовем. Самые дошлые девки в диспетчерской. У нас так: ты делай – тебе сделают. Да на том жизнь стоит! Законно? Жизнь. А как иначе? Откуда ты, Лидочка, такая? Вот удивляюсь все..
Это «как иначе?» я слышала с детства. «Как иначе?» – любимая присказка моего дядюшки. В застольях, на именинах у него и у матери она звучала всегда. В первый тот год войны, нет, кажется, в сорок втором, да, в сорок втором, весной, мать была у братца на дне рождения. Вернулась, задумчивая, напуганная. «У Михаила-то, Лида, чего только не было на столе! Как раньше! И колбаса всякая, и рыба, и сыр, икра! Я уж потом его тихонько спрашиваю. Что же ты, говорю, Миша, тащишь, что ли? А он только мне мигнул, как дуре: «А как иначе?» – говорит.. О-ох, ничего не боятся люди»,
– смотрела на меня с несошедшим сомнением. Я, помнится, промолчала. Что могла сказать? Честность матери была для меня абсолютной. А дядя? Недавно встретила. Шел, не заметил, скорее, сделал вид – «не знаю».
– Молчишь? – спросил Самохвалов.
– Думаю.
– А думать нечего. Друзей мне терять нельзя. Не с руки будет. Друзья
– все. Без друзей ты – ноль. Вот сегодня я платил за всех, а не в убытке буду. Учти.
– Сколько там с меня? Я ведь в состоянии отдать.
– Да ты что? Слушай? Лидия? Что ты за ба.. за женщина? Простую жизнь не понимаешь? Потому вот...
– Что «потому»?
489
– Да ничего я.
– Потому, мол, так и живешь?
– Не это хотел сказать..
– Это! Поняла.
– Ох, понятливая.. Ничего не скажи.. Правда. Ладно.
Мы подошли к моему дому. От ресторана не слишком далеко. Несколько кварталов. Я так устала, что, стоя у подъезда, хотела одного – чтоб мой провожатый ушел, оставил меня в покое. Но Самохвалов стоял как столб и смотрел на меня. Показалось, уйти сейчас вот так: «До свидания», и все – просто нельзя. Не имею права. Он, в общем, старался, ухаживал за мной весь вечер и тоже, кроме мучений, пожалуй, не испытал ничего. Пил мало, не танцевал, в разговорах был последним и неравным. И сейчас вот глядел на меня теряюще и жалко – не лишен все-таки некой самородной интуиции, стоял как обманутый и признающий, что его обманули. Са-мо-хва-лов.
Круглая, полная луна вылезла-вышла из-за угла крыши. Белый свет ее дымным серебром лег на голову стоящего передо мной мужчины, вычернил профиль, мужской, крепкий, и опять, с тайным ужасом вглядываясь, я подумала: Самохвалов похож сбоку на моего суженого, погибшего.
Нет, не знаю, почему стояла, почему задержалась, не отпрянула, когда этот, похожий на Алешу другой, обнял меня. Он обнял робко, не так, как я могла бы предположить, к неприятию чего была готова, и этой робостью вдруг сломил мое предубеждение, усталость, нервы – все, чем было напряжено и заряжено мое скрыто-открытое недоброжелательство, мое, может быть, постоянное и дурное уже сопротивление.
Он стал целовать и гладить меня. Что-то вдруг точно лопнуло во мне, раскрылось, обдало жаром. Это я поняла потом. А тут начала торопливо, горячо, без удержу отвечать на поцелуи, хмелея, пьянея, теряя голову, вся тряслась, содрогалась и, может быть, даже стонала. И, потрясенный таким моим ответом, он все сильнее притискивал меня, гладил, целовал до боли
490
губы, в щеки, в волосы, руки его расстегнули пальто, и он так сжал меня, задыхаясь от жадности ко мне, так, что я не могла двинуться и не хотела двигаться, поддаваясь его жарким рукам, которые трогали, гладили, мяли мое тело, как никогда я не позволяла никому, а тут вдруг разрешила, позволила, сама отдалась этим прикосновениям, жаждала и хотела их. Так было словно до бесконечности (что она такое?) и до приступа дурноты, который отбросил меня от него, и, уже не прощаясь, как сумасшедшая, я оттолкнула его руки и медленно вошла в подъезд. Ноги едва подняли до первой площадки. Дальше идти не смогла, плюхнулась на подоконник, смятая, растерзанная, в сбитой на шею косынке, расстегнутом пальто, с отстегнувшимся чулком. Господи.. Стыд.. Тряслись руки. Сердце билось пойманной перепелкой. Горело лицо. Болели губы. Что со мной? Жар от кончиков пальцев до грудей, до затылка ходил по мне, плавил и жег. Такого со мной никогда не было. Весталка нарушила обет? Но ведь срок моего невольного служения истекал. И обет, пусть так, я нарушила много лет назад, а еще не знала, зачем осекся тот но-венький «вальтер».. Господи, что со мной? Такого не бывало никогда. Дурнота ломила, гнула, качала взад и вперед.








