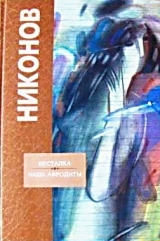
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц)
– Приходи! – сказала я. – Отсюда, наверное, если бегом, минут двадцать, вон до тех бугров, видишь?
– Вижу, – сказал он. – Только.. Как вырвусь – не знаю.. Приказ.. Не отходить от пушек.. Но я.. Я все равно.. Часов в десять..
– Нет, – сказала я, – тогда сама прибегу. Ну вот сюда, вон к траншее.
– Лида! Милая.. Господи! А не?..
Но я уже махнула ему и побежала догонять подводу.
– Ишь, как он на тебя спикировал, – сказал, прижмуриваясь, старик ездовой. – Знакомый, чай? Али со школы?
– Служили вместе, – ответила я, запрыгивая на грядушку тарантаса,
обливаясь потом, вытирала лицо рукавом гимнастерки. – Не могли
3 Это грубое фронтовое словцо было известно всем – «полевая походная жена» (примеч. авт.).
164
подождать.. Фу.. Запыхалась.. Как.. Догоняла.
– Дак кто тебя знает, девка. Может, у тебя дело какое, сердечное. А пробежалась – ничо. Молодая...
Никогда, наверное, не ждала я так вечера, как в тот знойный день четвертого июля. Немцы в этот день затихли, точно их и не было. Не слышалось ни стрельбы, ни криков, даже самолеты-разведчики – «рамы» – не кружили, как кружили они постоянно вблизи передовой. Весь июнь они бросали листовки: «Русские солдаты! Сдавайтесь к нам в плен! Жиды и коммунисты ведут вас к гибели. Штык в землю!» На иных листовках Сталин
огромным носом. Листовки мы рвали, жгли, сдавали ротному или старшине, и он отправлял их куда-то в особотдел.
– Затевают фрицы что-то. За-те-ва-ют.. – Лейтенант Глухов сидел у трофейной стереотрубы, разглядывал далекие немецкие позиции. Оборона немцев казалась вымершей. – Неужели ночью отвели войска с передовой?
– бормотал Глухов. – Ох, хитры..
Ротный был опытный, по моим понятиям, совсем пожилой человек, а для его звания особенно. Был старше комбата. Воевал в Гражданскую. Правда, тогда, говорил, был совсем молодым. Старший сын у него служил в авиации, воевал под Ленинградом, дома еще двое детей, сын и дочь. Жена, о которой он любил рассказывать, как она готовит, стряпает пироги. Показывал фотографию. С нее ревниво глядела дородная щекастая женщина-матрона. По жене Глухов тосковал, часто писал письма. А я, глядя на него, на его седоватую, никак не подходившую к лейтенантским звездочкам голову, грузную фигуру, всегда думала: таким бы уж и не надо воевать. Но солдаты любили его, слушались беспрекословно, он старался никогда без дела не рисковать, не тратить патроны, и, может быть, из-за его постоянной осмотри-тельности в нашей роте было меньше убитых и раненых.
– Не-ет.. Неспроста они притихли, – повторил ротный. – Надо сегодня охранение удвоить.. ребят рассредоточить.. А ты что, Одинцова, раскраснелась, как яблоко? Не больна ли? – И себе ответил: – Не больна..
165
Цветешь.. А ты тоже смотри, приготовьсь, чтоб все у тебя было в ажуре..
К вечеру я, не жалея воды, трижды умылась, раз на десять причесала свои загустевшие волосы, на концах они совсем выгорели до белесого мочального цвета. Подштопала гимнастерку, натерла травой пропыленные сапоги. Вечер все не приходил. Солнце сегодня клонилось к горизонту почему-то с замедлением.
Стрельцов пришел уже тогда, когда я перестала ждать.
– Еле вырвался.. Боялся, уйдешь.. Понимаешь – не сам хозяин.. И тебя еле нашел. Тут этих ходов-переходов нарыли, как кроты.
Он сел на край хода сообщения. Мы были далеко от передовой. И наконец стемнело.
– Знаешь, Одинцова, – куда-то в сторону глухо сказал он, – когда ты уехала, я ведь чуть за машиной не побежал.. Побежал бы, если б знал – догоню.. Как глупо расстались тогда.. Ни я тебе.. Ни ты мне.. А может.. – покосился на меня, в сумерках глаза были совсем черные. – Может.. Зря я к тебе лезу.. Тут ведь у тебя женихов, наверное. А? Что молчишь? Лида..
– ..Не зря, – краснея, пробормотала я.
– Ну, слава богу, – он вздохнул.
– Как хоть ты целая-то? – спросил с каким-то тайным намеком.
– Я маленькая.. Не попадают.. – постаралась отвести этот намек я.
– А меня ведь опять, знаешь, осколком цепляло. Легко, правда, в руку. Ну, обошлось. В санбат даже не ходил.. Зажило уже. Получил вот еще звездочку.
Только теперь, взглянув на его новенькие погоны, я заметила, что Стрельцов старший лейтенант.
– Поздравляю.. – сказала я, чувствуя: не то, совсем не то говорю. Некоторое время молчали. Стало совсем темно. Потянуло ночным
холодком, свежестью росы.
– Знаешь, – сказал Стрельцов. – Со дня на день должно начаться. Их наступление. И сегодня предупреждали.. – Он опять вздохнул и взял
166
меня за руку. Рука моя была холодная, его – теплая, даже горячая, сильная мужская рука, крепкая ладонь, пальцы, которые в обхват и осторожно взяли мои, – нет, совсем не те, не такие, не клещи, которые тискали меня недавно. Это была рука, от которой по всему моему телу прошел томный и сладостный ток – неведомый мне, никогда еще не пережитый.. Что это? Я даже попыталась отнять руку, но он не дал, прижал ее к траве, к земле. Я молчала, сидела съежившись.
– Что ты? – спросил он.
– ..Что?
– Дрожишь?
– Не знаю.. Это я.. Меня.. Знобит.. Чувствовала, говорю чушь.
И тогда он обнял меня, прислонился щекой.
Да, меня в самом деле знобило, трясло каким-то горячечным,
колющим, стегающим ознобом. Что-то подобное я испытала на миг давно, когда меня впервые взяли под руку, как взрослую. А сейчас это было сильней, горячей, невыносимее. Сейчас, я чувствовала, меня впервые обняли любящие, нежные и чистые мужские руки.
Я это чувствовала: они были чистые...
Он прижался ко мне, и так мы сидели, боясь шелохнуться, объединенные и согласные, как одно, переполненное счастьем нечто. Двое в одном, кажется, с одними мыслями и одним чувством. Звездная ночь стояла кругом. Низкие степные звезды. Гул самолетов вдали и дальний рокот моторов – голос войны. Но мы, кажется, забыли и об этом, забыли, что на войне, что мы на передовой, что вот-вот и надо расставаться. Его ждут, меня могут хватиться. Его – особенно.
– Идти надо.. – стоном пробормотал он. – Я время.. по звездам.
Идти.
– Что же делать-то? – прошептала я. Он молчал.
167
– Ну, что? Не горюй.. Встретимся снова.. Завтра.. Послезавтра..
– Послезавтра, – вздохнул, в темноте усмехнулся он.. – Послезавтра может не быть.. Даже завтр а может не быть.. Война.
– Да что же делать-то?
– Ничего.. Дай поцелую тебя.
– ...Я.. Нет.. Не..
– Ну?
Он снова обнял меня и поцеловал как-то неловко в нижнюю губу, в подбородок, в щеку и сам был неловкий. Я ответила ему. И тогда он стал целовать меня жадно, как изголодавшийся, изжаждавшийся пьет воду. И я отвечала, отвечала, отвечала ему до помутившегося сознания.
Так было не знаю сколько, пока он не оторвался от меня с каким-то стоном:
– Господи. Какая ты.. Какая ты.. сладкая.. Дай еще.. Еще! – И целовал снова.
Потом он бежал от меня, на ходу крикнув:
– Завтра! Или послезавтра. Приходи...
И бежала, с колотящимся сердцем, вся в поту, задыхаясь, я, пока не началась наша полоса. В землянку я пробралась точно вор. И едва отворила дверь, засверкало, загрохотало, завыло, засвистело. Все небо покрылось полосами огненного света. И секунды спустя затряслась, качнулась, ходуном заходила земля. Дикая сила взрывов мешала огонь, землю и воздух. Это нача-лась наша контрподготовка. В только что тихой, спокойной ночи забушевала, разгораясь, свирепая многодневная битва. Тогда она еще не называлась Орловско-Курской. Позднее пришло и название – дуга.
А в три часа тридцать минут немцы перешли в наступление...
XVII
Исчезло, перестало восприниматься время. Оно растворилось в
168
сплошном грохоте, визге летящей стали, в дыму, в нефтяном огне, который день превращал в ночь, а ночью все дрожало желтым пожарным светом, пылало словно еще сильнее, и не понять было: что это – утро, заря, вечер.. Если люди придумали ад – здесь было его воплощение, апокалипсис, когда казалось, земля разверзается и погибнут все, провалятся в этот огонь и дым, в грохот и вой, в ту самую геенну огненную – вот она, когда пылает сама земля и корчатся в ней правые и виноватые, святые и грешники, обреченные и торжествующие хотя бы на краткий и зыбкий миг победы, – все. Люди, люди, люди! Что вы тут сделали, на что способен ваш ум и руки? Люди? Что творилось тут под населенным пунктом Самодуровка. Населенным.. Я и сейчас не могу этого точно описать, осмыслить, что видела и пережила. В памяти и в представлении один черный, серый дым, грохот, мгла.. Иногда память моя выбрасывает кусками, как из сплошного пожара, из этого горючего дыма то груду убитых, то каски, подсумки, сапоги без ног, то пелену маслено-черного, расширяющегося к небу мрака, то груду изрытой земли и в ней ствол миномета, опять чьи-то ноги, рука, обугленный головней затылок, кислый будто бы вкус тола, взрывчатки ИХ снарядов, жар и копоть, в которой мы задыхались, когда бросались лицом в землю, пытаясь хоть как-то дышать, спастись, найти в земле, от земли силы держаться.
Земля же здесь напоминала нас, живых: она тряслась, ахала, вздрагивала, стонала. Она была мечущейся жизнью, по которой в истошном шабаше колотила смерть. И, послушные этой смерти, ее празднику, из горящего нефтяного чада, как бы гонимые дьявольской силой, катились на нас стада упорных, ужасных в этом упорстве хоботных машин. Они казались злобно слепыми, когда издали уже, по-слоновому урча, переваливаясь и покачиваясь, быстро приближались с переходящим в звон зловещим гулом и начинали поблескивать, грохотать короткими бегучими огоньками.
Не знаю, что их останавливало: мины, огонь наших противотанковых пушек, громкие выстрелы бронебойщиков. Время от времени, приподнимая голову над бруствером, я видела, танки откатывались, уходили, оставляли
169
посреди поля уже неподвижные искалеченные остовы, по которым ходил огонь, а иные из них все еще возились, кружа, как кружатся смертельно раненные чудовища, и крик горящих заживо долетал сюда, казался криком этих машин. Он тонул в грохоте артиллерии и взрывов, во всем этом пульсирующем: обо – обо – обо – обо! – что уже заменяло выстрелы, сливалось иногда в сплошной, нескончаемый, сдавливающий голову гул. В уши точно бьет тяжелыми клиньями. И – куда деться? Закрываешь, зажимаешь голову. Сам собой открывается рот – так легче переносить звук. Но и это еще не все, не конец света, страшнее разверзается земной ад, когда звеньями, волнами, сотрясая воздух и твердь, неслась с неба ревущая крылатая смерть, от которой, казалось, нет спасенья, куда ни кинься, как ни сожмись, настигнет, найдет, а свист бомб, грохот взрывов, истошный вой падающих пикировщиков мешали в единое свет, тьму, огонь и землю. И тогда представлялось: нет больше ничего, все погибли, всех накрыло. Комком сжимаясь на дне траншеи, закрыв голову, ждала: вот она! В меня! Сейчас!!
Взрывом меня осыпало, бывало, и тяжело заваливало, закапывало заживо рушащейся с краев и с брустверов землей. Никаких креплений боков траншей у нас просто не было, когда тут, да и не из чего в этой степистой овражной местности. После налета вылезаешь из земли, как из могилы, и прежде всего глазами ищешь живых, слышишь, где кричат. Отходит сердце: «Не одна!» Временами я будто теряла рассудок, он словно отключался, была только некая и вроде не принадлежащая мне сущность, и сущность эта жалась к боку траншеи, вздрагивала, что-то кричала, не пытаясь даже оп-ределить и понять, жива или исчезла, перешла за грань бытия, как переходят в нечто непознаваемое и непривычно простое. Тут уж не было страха, ни твоего «я», а только отшибленное в вечность спокойствие этой простоты.. Из такого состояния можно и не вернуться – и не возвращались. Седели.. Теряли речь..
Стихал налет, и тогда, точно колющий луч, боль не боль, мысль не
170
мысль, но подобие ее, то, что было выше моей женской сущности, назову неподходящим вроде тут словом: долг или не долг, но желание сопротивления и возвращения к жизни – заставляло вырваться из вла-деющего тобой страха, из его мутного плена, руки сами упирались в землю, поднималась голова, поправлялась каска, возвращался слух, и надо было только, кривясь от напряжения, понять: где кричат, где зовут или стонут? А кричали, стонали и звали часто везде: справа и слева, вблизи и вдали. Я нужна была всем, как спасение, хоть как жалкое подобие его, и, быть может, постоянное осознание этой нужности давало мне силы. Теперь я перебегала, передвигалась на коленях и ползком, откапывала вместе с бойцами заваленных, перевязывала раненых, и все это было уже не на знакомой, исползанной передовой. Батальоны отступили на несколько сотен метров, где-то и на километр-два в глубь обороны, на запасные позиции. Лучше бы сказать, мы отползли. Все, что осталось от нас. А по всей линии нашей передовой, на минном поле, в прозванных заграждениях, танковых ямах и ловушках, подорвавшиеся на фугасах, горели, кадили, чернели, иногда еще грохались нежданным взрывом остовы подбитых, уничтоженных танков. Иные из них походили на железные костры. Танки не прорвались, но и наших пэтээровцев не осталось никого, погибла от танкового огня и батарея маленьких пушек. Горели и наши танки Т-70, последние оставшиеся, закопанные в обороне, погибли девочки-связистки, под огнем пытавшиеся наводить связь, от роты не осталось и человек тридцати – меньше взвода, – кто не был ранен или задет несильно. Меня ранило осколком в руку, прорвало гимнастерку, снесло лишь кусок кожи, и я быстро остановила кровь. На такую рану не приходилось обращать внимания, и многих все-таки
– не знаю сколько, где там считать! – я успела перевязать, вытащить на закорках или с санитарами из роты, проводила в глубь обороны, если шел или полз сам, отправляла в санбат. Всякий раз я возвращалась, сдав раненых,
– опять перевязывать, раздавать пакеты, поить, что-то бормотать и причитать утешающее, гладить лица и руки умиравших, безнадежно
171
тяжелых. Кто-то из них, раненный в грудь и в живот, умирая, прохрипел: «Хорошо.. хоть ты-ы...» Я долго не могла разжать его руку – так держался он за меня.
Бой затихал на какие-то невнятные короткие периоды, и тут же непроизвольно я сваливалась в сон, но просыпалась тотчас, как начинался вой и грохот новой бомбежки, толчки земли. Понимала только – светопреставление продолжается.
До стягивающей сухоты хотелось пить. Голова кружилась. За все эти двое, трое или четверо суток – я и сейчас не знаю сколько, – помню, съела один сухарь и один раз попила из фляжки, остальное выпили раненые. Не могла ни умыться, ни прибраться, была, наверное, ужасна, как ведьма, вся в крови, в кишках, с руками, перемазанными свежей и черной запекшейся человеческой кровью, со спутанными волосами, землей в них – где-то давно потеряла каску. Но сумка с гранатой была у меня с собой, был теперь у меня и пистолет – ротный отдал мне ТТ того раненого Бокотько, но я как-то мало надеялась на этот пистолет, боялась стрелять из него, и он только мешал, оттягивая ремень. Что-то болело в животе, но думать о боли некогда. Все-таки и непостижимо, как я осталась жива в этом аду, не была даже ранена.
Новое утро начиналось новой атакой. Немцы будто взбесились. Такого непрерывного натиска не было никогда. Серые приземистые танки с огромными пушками, с плитами квадратной лобовой брони казались непробиваемыми, несокрушимыми, шли быстро, а за ними, тяжело выползая из-за горизонта, показались еще более жуткие, длиннорылые, широкобашенные чудовища. Чем остановить их? У нас не было даже жалких сорокапятимиллиметровок, и что могли сделать эти мелкие пушечки против танковых орудий, которые издали уже начали поблескивать длинным молниевым огнем, и тотчас, вслед за грохотом, тряхнуло, вздыбило, ударило взрывами впереди, справа, слева..
– «Тигры-ы»! «Тигры» идут!! – послышался крик, в полосе обстрела
172
замелькали гимнастерки, каски. Люди бежали. А я крутилась на коленях в мелком, недорытом окопе, не зная, что мне делать, как быть: вскочить или оставаться тут.. «Паника!» – подумала я. В это время в мой полуокоп кто-то прыгнул и тотчас вскочил, оскользнулся, больно ударил меня каблуком в плечо, поднимаясь с четверенек, матерясь, кричал: «Ку-да-а?! Назад! Мать вашу! Назад! Стоять! К оружию! Гранаты! Гранаты к бою!!»
Люди бежали. Я узнала комбата. Его голос. Высунувшись, увидела, как он с пистолетом в руке стреляет то ли вверх, то ли прямо в бегущих. Останавливались, поворачивались, кто-то вскинул на него автомат, но тут же свалился, то ли автомат не стрелял, то ли комбат не промахнулся. Паника улеглась. В это время через нас по танкам ударила тяжелая артиллерия. И сразу на пути длиннорылых машин стали подниматься гигантские взрывы. Тяжелые снаряды рвутся не так, как легкие: они глубоко и бугристо вспахивают землю. Но артиллерия била издалека, по площадям, и танки мало страдали от ее огня. Кто это сказал-написал про танки, что они ползут в бою? По-моему, они никогда не ползут, они катятся, мчатся иногда, как гончие собаки, если подходит такое сравнение. И стрелять по ним... Возле меня, справа и слева, опять бронебойщики, пэтээровцы, по двое перетаскивают свои длинные ружья. За ними тащат патронные коробки. Правее нашей обороны загрохотали пушки. Я знала, что танки может остановить, и то ненадолго, ров-траншея, вырытый саперами. На него теперь была вся надежда. Пушки справа били часто, похоже, противотанковые – такой же сухой, звонкий, лопающий звук, только гораздо громче. А танки были уже близко, я видела широкие утолщения на дулах их пушек. «Тигры» казались неуязвимыми. Только когда приблизился головной, с него прямым попада-нием тяжелого снаряда сняло башню, и он взорвался, замер пылающим широким костром, остальные катились, блестя огнем, их было не меньше пятнадцати, и теперь они перенесли огонь на батареи справа. У нас перестали рваться снаряды, зато на фланге огонь заходил сплошными неопадающими взрывами. Там был ад. И пушки замолкали, стреляли все реже. Удержит ли
173
«тигров» ров! На ров была вся надежда. Когда немцы подошли ближе, снаряды пушек, видимо, стали пробивать их броню, и длиннорылые танки начали останавливаться. Один. Второй. Третий!! Вот задымился и, дернувшись, встал еще один, а пятый вдруг подпрыгнул в черном разрыве, и, когда опала земля, я увидела танк опрокинутым – налетел на заложенный саперами фугас.
– Попал!! Попал на фугас! – закричала я. Видела, как из горящих машин черными муравьями выкидывались танкисты. «Эсэсовцы!» – почему-то подумала я, но, может быть, и вправду это были они.
Танки, должно быть обнаружив ров, стали рассредоточиваться. Но пушки справа стреляли все реже.
«А вдруг это не противотанковые? Вдруг это те, зенитные? – пришла, обожгла меня страшная внезапная мысль. – Зенитки, значит, он там! Стрельцов. Мой Стрельцов?! Алеша.. Как же я? Что же я? Господи? Может, он уже убит? Ранен? Что же я?» И, уже ничего не соображая больше, я выскочила из окопа, пригибаясь, кинулась туда, где грохотал бой, бежала, падала, снова бежала и ползла. Не думала, что нарушаю долг, что бросила роту. Ведь близко. Не убьют – вернусь..
Я думала только: «Хоть бы мне успеть, успеть!» Куда и зачем, я, кажется, не осознавала вполне, не соображала. В бою многое не представляется разумным, разум приходит потом, когда кончится бой, и, думается, часто такая «неразумность» спасает, несмотря ни на что.
Длинные дула зенитных пушек, повернутые параллельно земле, непривычно низко, дергались. Пушки стреляли. Но и вокруг них ходили взрывы, летела земля. Я ползла к пушкам, чувствуя, вот сейчас, вот сейчас меня тоже рванет, накроет снарядной волной. Убьет! Убьет!! – я чувствовала это спиной, плечами, шеей, вжималась в траву, сваливалась в воронки и продолжала ползти и перебегать.
Когда добралась до крайней батареи, пушек осталось всего две, вернее, стреляла только одна, вторая не то разбита, не то выбило всю прислугу,
174
дальше колеса, крестовины, разнесенные остатки платформ, убитые ар-тиллеристы..
У последней стреляющей пушки суетились двое. Один заряжал, другой наводил, третий, забинтованный, как чучело, в промокшие кровью бинты, полулежал-полусидел. Пушка была прикрыта каким-то нелепым броневым щитом, но все-таки он, должно быть, спасал огневиков.
– Перевяжи! – прохрипел раненый, увидев меня. – Сестру убило.. Нашу! Вон она!
Увидела мертвую женщину с измазанным кровью лицом, будто взглянула на себя. Поняла, что командир перевязывался сам, неумело намотал бинтов.
– Лейтенант.. Старший.. Стрельцов! Где Стрельцов? – крикнула я, падая рядом с раненым, морщась от взрывов и страшного грохота пушки.
– Там! – раненый махнул в сторону разбитых орудий.
Короткий свист и гул приближающегося снаряда положил нас всех. Рвануло. Осыпало землей. Ощупала себя.
– Цела? – хрипел раненый.
– Прицел разбило-о! Прицел! Мать твою! Прицела нет!
– Наводи.. через ствол! – стонал раненый. – В бок давай его! В бо-ок, жги!
– Эй! Снаряды подавать можешь? – крикнул один из пушкарей. И, не дождавшись ответа, заорал:
– Снаряды давай! Мать твою! Дура! Чего стоишь? Раззява! Снаряды! Я кинулась к ящику, стала хватать снаряды. Они были огромные,
тяжелые в сравнении с теми, какими стреляли мы из малокалиберных там, под Сталинградом. Сгибаясь, я кое-как вытащила, подала снаряд. Вытащила, подала второй. Отскочила.
Пушка загрохотала.
Буц! Буц! – под ноги летели гильзы. Глотала синий дым. Подавала снаряды.
175
– Еще один! Е-есть! – заорал тот, что наводил по стволу. – Еще один! «Тигра»! Есть!
– В бок их.. По тракам.. – стонал раненый. – В бо-о-ок!
Но танки, видимо, перешли ров. Снарядов в ящике больше не было. Взгляд мой бегал по гильзам: где еще? Где.. «Еще где-е-е?!!» – кричала я.
И тут произошло что-то, чего я никак не могу описать. Я увидела землю над головой, меня куда-то рвануло, дернуло, а потом ударило и сдавило с невероятной силой. Я провалилась в глубокий затихающий звон, и звон этот продолжался, то слабея, то усиливаясь; так было в самом раннем детстве, по воскресным утрам и на праздники ночью.
Очнулась я оттого, что меня кто-то тащит. Была боль во всем теле. Немой язык. Кое-как я открыла глаза. Меня несли на носилках двое. Солдаты. Они говорили по-русски, а я ничего не могла понять. Что они говорят? Смысл слов ускользал от меня.
Наконец я поняла.
– Шивелится! – сказал один. – Гылядит.
– Отходит, чай? – это второй.
– Да нет, оживаит, живой.
– Ну, слава богу. Не зря тащим. Живучая.
– Эй, девка. Говорить можешь?
Они опустили носилки.
– Эй, харошь Машь? Живой?
Увидела небритые пожилые лица. Русский и татарин. Санитары санбата.
А я снова оказалась жива.
XVIII
Полевой госпиталь первой линии. Сюда меня привезли из санбата. Я была жива в общем и невредима. Ссадины, синяки, ушибы, боль в голове и в
176
спине не в счет. Я все слышала, все понимала, но говорить не могла. Жесткая заслонка где-то там, словно в середине темени, отгородила мой язык от чего-то важного, без чего язык не повиновался, пытаясь сказать, я до слез, до тошноты напрягалась, а слышала одно жалкое подобие глухонемого стона: «А-а-э...а-э-ы-ых, а-а-ы..» – больше ничего. Язык не повиновался, чувствовала, он словно отсечен от какого-то мощного провода. Произошел обрыв, когда меня бросило, закопало взрывной волной.
Госпиталь размещался в сельской одноэтажной школе. Я лежала в одной палате с еще несколькими девушками, почти все связистки, прачки и одна докторша из этого же госпиталя, попавшая под бомбежку. Были еще две девушки-санинструкторы, очень тяжелые, раненные в голову, в грудь и в живот. Обе умерли почти одновременно на рассвете душного июльского дня, не приходя в сознание. На их место опять положили связисток. Мне было даже совестно лежать в этой палате, – я была как бы здоровая среди больных. Через неделю боль от ушибов прошла, умерился звон и качание в голове, от которого я не могла ходить, валилась на стены, присохли ссадины на руках и коленях. А речь не возвращалась. Я стала вставать, выходить в коридор. Голова тихо кружилась и болела приступами с тем сжимающим звоном, как было после взрыва на батарее. Иногда из носа ручейком бежала кровь. Я ложилась, но тогда донимали приступы тошноты, и приходилось вскакивать, шатаясь, выбегать из палаты, а вернувшись, видеть даже не со-чувствующие взгляды. В них было: «Симулянтка! Ишь, старается! Притворяется, лишь бы дольше пролежать. Ах ты, стерва! Все видим! За-тош-ни-ло ее. Знаем, отчего тошнит!» Вот такое читала почти в каждом взгляде. Никто ничего не говорил со мной. Да и как говорить? Ответить я не могла. Врачи лучше понимали меня, для них случай был не единичный. Я писала им на бумажке, как себя чувствую, где болит. Мне был предписан пол ный поко й. И наверное, этот режим, о котором говорилось вслух, особенно раздражал остальных. Полный покой для человека, который может двигаться, вставать, ходить, у которого ни одной раны! Да, меня могли,
177
имели право ненавидеть. Да и что за поко й в палате среди стонов, криков, бреда, рыданий умирающих, среди людей, которым гораздо больше не повезло, чем тебе, ведь я просто на время – не знаю только какое (врачи утешали: месяц-два – речь обязательно вернется) – сделалась немой, а все остальные были раненые, и почти все тяжело, в полости, в лицо, в ноги. Это были «осадочники» нетранспортабельные, таких теперь лечили во фронтовых полевых госпиталях, отправлять в тыл бесполезно – не доедут. Женщины, раненные в лицо и в ноги.. Таких было в палате трое, и все связистки – попали под обстрел с самолета, и «мессер» – как звали сплошь эти страшные, верткие самолеты, летающие то совсем низко, на бреющем, то недосягаемо высоко, – прошил их, лежащих, шеренгой пуль. У двоих девочек ноги были пересечены, у третьей пулевые ранения в бедра из крупнокалиберного пулемета. Я знала этот проклятый пулемет – раны от них были почти сплошь смертельны, зияли кровавыми дырами. Все девчонки переживали тяжело. Ноги! Изуродованы ноги! А красота женщин начинается с ног – кто это сказал? Когда? Наверное, в те времена, когда женщины не ползали по передовой и в них не строчили из пулеметов...
Днем еще так-сяк, крепились, держались, стонали и ругались, кто-нибудь обязательно что-то рассказывал, – главная тема про дом, про родных, про парней. Болтать любили все. Кроме врачихи из госпиталя, уже не помню ее фамилию, но хорошо помню в лицо: белое, такая важная, степенная брюнетка, с усами, – кроме нее, все были незамужние. А разговоры переходили и на непристойное, как бывает у женщин в своем кругу, когда одни, вдали от мужских ушей и глаз. Похабщиной часто глушат тоску, боль, храбрятся.
– Вот кому я теперь нужна, даже пускай поправлюсь, – начинала одна связистка, по имени Люда. Ранение и сейчас не согнало румянца с ее полноватых щек. – Ни чулки шелковые не надень, ни юбочку короткую. «Мессер» проклятый! Мессер, девчонки, по-немецки, кажется, – нож!
– Ты, грамотная.. – отзывалась другая, девчонка с грубым,
178
нахалистым лицом. – Нож! Вошь! Вот он и пластнул нас.. О-ой б.. Ноги мои, ножки.. Тоже оттанцевались, видать, оттопались.. М-м-м. Б... А я, бывало, на танцы приду – все парни на мои ноги, как кобеля. Подставочки! Все такое.. Вот теперь хоть вешайся.. Ходить, может, буду, и то спасибо. А-а.. Б... С-суки.. фрицы...
– Да хватит тебе! Одна ты, что ли? – унимала та, что была ранена в бедра. – Заныла.
– Молчи ты! У тебя-то не видно будет.
– Не видно.. Мужик-то что, слепой? Он и слепой найдет!
– Ну, не показывай, пока печать в паспорт не поставит. Не давайся..
– Нашла дурней кого. Счас девок с пробой берут..
– А ты – в темноте! Х-ха.. Ой..
– И в темноте найдет. У меня бы добро где на спине, а он вон где: три дыры сделал. Ни сесть, ни лечь..
– Вот, в потемках-то и сойдет. Не ошибется, по крайней мере! – похабничала связистка.
– С тобой говорить – горох молотить. Ботало. Я уж весь живот и бок отлежала. Не могу на спине-то. О-ой.
– Другой раз задницу им не подставляй.
– Девочки! – увещевающе строго вступалась дотоль молчаливая врачиха.
– А я все думаю: отправят нас в тыловой или здесь долечивать будут?
– говорила-спрашивала Люда.
– Может, и отправят. Может, и здесь зароют. Как зарастать будет. Да и фронт – вот он! Налетят, и крышка нам. Куда побежишь? О-о-ох. О-ой, до чо болит.
– У меня вот, девочки, гной идет и идет. Прямо как из прорвы. Думаю, может, пули у них какие отравленные?
– Отравленные.. Сама ты отравленная. Все красоту наводишь, а ты каши больше ешь. Зарастет.
179
– Галина Борисовна! Вы вот доктор. Наверное, знаете, сколько нам с такими ранами лежать? Скажите хоть. Утешьте!
Галина Борисовна умела всех слушать молча. Она и раненая, в постели, не теряла достоинства красивой, культурной женщины. В кровати даже лежала как-то особо, будто в привычном месте.
– Ну-у.. Если ни сепсиса, ни периостита.. Прогноз может быть благоприятный.
– Вы бы нам попроще. Дуры мы.. Время какое? Сколько?
– Ну-у.. Если все хорошо – месяца через три будете танцевать.
– Танцевать. Хоть бы сидеть, на спине полежать.
– А я вот на судно это проклятое не могу, хоть убей. Не для моей ж...
сделано. Встать бы.. а?
Через неделю я написала врачу, что не могу больше лежать, прошу разрешить ходить. Что-нибудь делать. Хоть бы картошку чистить.
Вставать мне запретили. Но что можно запретить в полевом госпитале, откуда словно бы слышно фронтовую канонаду, где стекла дребезжат от постоянно пролетающих «Илов» и Пе-2 и душа сжимается. Думаешь только: слава богу, наши. А ухо все ждет стенающий, тошнотворный гул «юнкерсов»-пикировщиков, особенно когда не спится или на рассвете.
Правда, фронт все более удалялся. Сообщения были: немцев жмут. Наступление продолжается, а еще была новость: при госпитале открылось отделение для раненых пленных. Новость потрясла. Как? Рядом с нами? Эти душегубы, изверги, с кем мы только что дрались не на жизнь, а на смерть?
– Госпиталь им?! Я бы их.. – стонала раненная в бедра, ей было худо, температурила. Ночами она бредила, кричала.
– Точно! Я бы их всех – под автомат! – соглашалась связистка, та, что была бойчее.
– Девочки! Да ведь они тоже люди. Ну, гонят их, заставляют воевать. Позади, говорят, у них пулеметы стоят. Эсэсовцы.. Вот и воюют.
– Сдавались бы..
180
– Они и есть пленные.
– Раненые? Это ты брось. Это не пленные. Я бы их по-другому как называла. Одно дело сдался. Другое – взяли. Их взятыми надо рвать и стрелять без пощады.
– Девочки! Вы не правы! Мы – Красный Крест. Мы обязаны их лечить.
– А что они с нашими делают? Они их лечат? Жалеют?
Спор часто доходил до ругани, до обид. А я, самовольно начав ходить, как-то забрела в отделение для немцев. Это была пристройка к школе, не то бывший хозяйственный блок, теперь забитый топчанами и койками, на которых рядами лежали забинтованные люди, изможденные, страдающие, умирающие. Слышалась чужая речь. И было странно, что за немцами ходят их же солдаты-санитары. Наши были только врачи. Я стояла у растворенных дверей. Перед ними на белой крашеной табуретке сидел пожилой солдат из тыловиков, с автоматом, домашне лежащим на коленях, курил махру.








