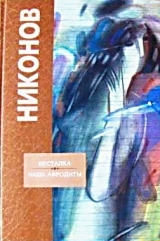
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Лишь, наверное, час спустя я пришла в себя, прибралась, подтянула чулки, стерла с лица эти поцелуи-печати и пошла по лунной, ярко освещенной лестнице, вспугивая кошек и какие-то тени, будто мелькавшие впереди и выше.
И, уже лежа в постели, никак не могла уснуть, перебудораженная этим вечером, ощущением своей нечистоты, – придя, мыла лицо, руки вехоткой, до боли, как дикая, – греховности, дурной рожей луны – так бесстыдно-откровенно, знающе глядела в окно, в кровать. От луны шел густой, ломящий свет. Она видела все. Она усмехалась. Усмехалась. Усмехалась мне даже во сне..
IX
491
Можно ли представить, что я натворила? Я вышла замуж за Самохвалова. Мне было тридцать семь. Сыну четырнадцать. Самохвалову тридцать два. Я была у него вторая жена, может быть, даже третья. Вышла замуж. Лидия Петровна Одинцова. Весталка. Как это получилось, нелегко объяснить.
Не хотела? За Самохвалова? Нет. Любила? И тоже – нет. По расчету? Годы? Выгодная партия? Некуда деться? Наудачу? Будь что будет? Судите как хотите. Да, расчет.. Годы. Бессонные ночи. Тело, которое после тридцати будто задалось целью мучить, изводить меня. Да, да, был и расчет! Конечно, был.. А может, всегда есть? У всех? Чем хуже других, тех, у кого мужья, семья? И я тоже хочу мужа, семью, детей. Хочу, наконец, засыпать за чьей-то надежной спиной, положить голову на мужскую сильную руку! Сколько можно еще одиночества, одинокой тоски, военных снов? Может быть, так я хотела забыть прошлое, войну, которая уж не так остро вспоминалась, но все снилась ранами, кровью, трупами, нависающим страхом; во сне я встречалась с теми, кого уж давным-давно не было и кто жил во мне, являлся, восстанавливая картины прошлого. И еще была постоянная мысль куда-то деться из этой коммунальной «благоустроенной» с картонными стенами и потолками, с радио, бормочущим во всех углах. А слава богу, тогда еще не было повсеместных телевизоров (они только-только явились в продаже, как диковинка, – громоздкие ящики с крохотным, в открытку, экраном), тогда еще не было магнитофонов и этих стереосистем.
У Самохвалова двухкомнатная квартира и даже машина «Москвич». Мне завидовали, поздравляли. Я и сама думала: «Пусть! Теперь все-таки не одиночка, у сына будет хоть не отец, то, по крайности, отчим. Да и чем, возможно, отчим хуже его настоящего отца, который вошел в мою память как самое черное воспоминание?»
Уехала из шестиэтажного дома на главном проспекте. Теперь поселилась на улице Свердлова, в только что построенном доме с высокими потолками и узкими окнами на бренчавшую трамваями улицу. Из всех
492
жильцов коммунальной с сожалением рассталась только с Колей-музыкантом, который, кажется, переживал период «творческих исканий», – так он мне сдержанно объяснил, а это значило: забросил свое ремесло, уволился из ресторана, крепко пил, перестал водить «возлюбленных», играть на гитаре, кроме этой – «девочки любили, а теперь их – нет». Коля сдавал бутылки «из фонда», распродавал книги и, вечно нуждаясь, позировал даже одному именитому художнику для жанровой картины. Картина, как он объяснил, была в традициях русских передвижников, что-то жалостное: старуха мать в гостях у сына, забывшего, занятого своей благоустроенной жизнью. «В сущности, конечно.. – говорил мне Коля, покачивая головой, усмехаясь в свои фатовские усики, – конечно, Лидочка, я так ему и сказал, этому барбосу: «Роль вы мне в композиции отвели премерзкую.. Но.. Чего не сделаешь ради искусства?» Ведь так? Искусство требует жертв. И я, Лидочка, его не последняя жертва. Как, впрочем, может быть, и вы.. И все на свете.. Все, Лидочка, требует жертв. Абсолютно все. Любовь, семья, счастье. Природа. Ваша жизнь. Моя.. Или ошибаюсь? Что вы, родная? Главное же в искусстве и в жизни есть искусство жить и – приносить жертвы. Великий философ Сенека-младший сказал как-то: «Все комедии кончаются свадьбами, а кто хватает розу, пусть не жалуется на шипы». Впрочем, может быть, не Сенека сказал, а Протагор, Анаксагор.. Кагор – черт, сколько их было, и все мудрецы. Почему, Лидочка, тогда так много было мудрых и так много дураков сейчас? Вот один перед вами. «Аплодисменты, как и ответ-ную любовь, можно лишь только желать». Черт.. Ваш муж схватил розу.. Но очень сожалею, Лидочка. Очень. Диана жила рядом.. Кому я теперь поплачусь.. С кем буду играть в солдатики.. А вы уверены, Петя примет вотчима? Петя у вас, доложу, феномен. Убежден, это будет новый Суворов, или Жуков, или спартанец, царь Леонид, только не дай бог ему Фермопил. А я его так полюбил, как брата. Впрочем, и вас тоже. Объяснение на пороге. Поезд ушел. Как всегда – поздно. Я, Лидочка, всегда и везде опаздывал в сей жизни. Есть такой психологический эффект. Эффект запаздывания. И я
493
подвержен ему фатально. С пеленок. Даже раньше. Опоздал родиться этак на столетие. Ну, ничего, в следующем рождении, в новой фазе бытия, возможно, все уравновесится».
Глядела на него. Повеса. Даже облик сохранил дворянского породистого хлыща. Хлыщ. Кутила. Но жило-было в нем нечто располагающее и словно благородное, несмотря ни на какие потери. И, грешно пугаясь себя в себе, думала, может быть, для Пети не было бы лучше отца, а для меня человека понимающего. Что – Самохвалов? К кому иду? В душе – лед. Дура. Авантюристка... Все, что угодно, чего не предполагала в себе. Сократ говорил: «Познай себя». Прежде всего себя. А себя-то как раз познать невозможно. Куда труднее разбираться в себе, чем в других. И вообще, никто себя не познает и не знае т. Как, уверена, не знал и Сократ.
И еще прощалась с тополем. Он уже дотянулся до края крыши. Дальше было солнце и свобода, если б не держали корни, не тусклая шахта двора. Тополь был веселый и грустный. Я понимала его. Он – меня. И он, показалось, меня жалел.
Квартира с рижской мебелью! Ее Самохвалов привез незадолго до свадьбы контейнерами откуда-то из-под Москвы, «достал» через базу Владимира Варфоломеевича и не уставал хвастаться, любоваться ею. В нем, Самохвалове, было-жило постоянно нечто вроде удивления подростка, отрока из дальней деревни, увидевшего непривычно прекрасную вещь и воскликнувшего при этом: «У-ю-ю-ю!» Это «у-ю-ю-ю» в Самохвалове сперва меня как-то даже забавляло, но довольно скоро начало и раздражать. Мебель надлежало всякую неделю протирать суконной тряпочкой с воском, чем мой муж и занимался с видимым удовольствием в свободные дни. Он был домосед и добытчик. Голова его постоянно занята вопросами благоустройства, покупки новых вещей, хозяйственных переделок. Он привозил дорогие обои, кафельную плитку, доставал «с базы» цветной линолеум для пола и кухни. Он все время прикидывал, где устроить лишнюю
494
антресоль, вделать шкафчик. Вил и строил свое гнездо любовно, старательно, прочно.
Вот пишу и думаю, какая женщина на моем месте не прижилась бы легко, возможно, благословила судьбу, наконец-то повернувшуюся к ней светлым ликом. Любая не любая, но не я, обнаружившая ошибку еще до свершения. Не я и не мой сын. Сказать ему о том, что собираюсь замуж, было самое мучительное; я просто извелась, пока думала, как объяснить со всякими предосторожностями и оговорками. Сын встретил это спокойно, вопреки моему боязливому предожиданию. Он, кажется, просто знал, вычислил все еще с того вечера, когда я пошла в ресторан, если не раньше..
– Выходи, – кратко сказал, чуть-чуть бледнея.
– А как ты считаешь? Думаешь?
– Да ведь не я выхожу-то..
– Господи! Какой ты.. Но ведь мы будем жить вместе. Одной семьей! Константин Михайлович хороший человек. Он будет заботиться..
– Обо мне? Из-за тебя?
– Ну, почему.. Мы же.. одной семьей...
– Нет, – сказал он, чуть улыбаясь. – Нет.
– Почему? Что ты еще говоришь?
– Потому что я не стану жить с вами. Это не мой отец. Я сын командира полка Полещука, а не таксиста Самохвалова.
– Петя? Петенька? Что? Как же так? Без твоего согласия я не.. Я.. Что ты такое говоришь?
– Согласие я тебе дал. Ты его и сама дала. Выходи. А я поступаю в суворовское.
Это было как внезапный гром.
– Из-за меня?
– Нет. Что ты? Просто все так совпало. Я давно это решил. Хотел еще
пятом. Да вот.. Вижу, как тебе трудно. И теперь все узнал. Ходил-спрашивал. Майор сказал, меня примут, как сына военного. Сына
495
фронтовички.
Знала. Он не бросает слова на ветер. Раз сказал – так и будет. Не отговорить. Не разубедить. Вспомнила, еще три года назад он говорил про суворовское, но я так не хотела, чтоб он стал военным, чтоб опять эта форма, которой сама наносилась до слез, вошла в наш дом... Сын тогда был мал, и я не приняла всерьез его намерения, разговоры. Думала: чушь, мальчишество. Пройдет. А видела: нет. Он упрямо шел своим путем. И может быть, это был путь его отца, унаследованный им. В то время не верили в генетику, отрицали многое, как в общем, мне кажется, не доверяют ей и сейчас, признавая отчасти лишь ее биологическую сторону. «Сын судьи станет судьей» – это всегда отрицалось. А сын подполковника вставал спозаранок по своему внутреннему, неслышному будильнику. Сын подполковника лез под холодный кран, пока еще все спали, в одной рубашке зимой, осенью уходил на пробежку. В школу ходил только в легоньком демисезонном паль-то без ваты. «Шинели ведь не на ней?»– возразил как-то на мои упреки. «Простудишься! Можешь заболеть». Он редко простужался. Любил, чтоб всегда была открыта форточка. Когда я оставалась на ночные дежурства, а приходила рано, заставала его спящим на полу, под форточкой. Иногда со страхом смотрела на него. А он выдумывал есть один хлеб неделями. Или сухари. Сухари и вода – больше ничего. Однажды нашла у него в кармане горсть крупы-овсянки. Полезла посмотреть, цел ли карман. Они у него часто рвались, и он их неумело, через край, зашивал. Овсянка, думала, для воробь-ев. Оказалось, ел сам, потому что так питались в походах римские легионеры. Я знала – его не остановить.
Осенью он поступил в суворовское училище. Когда впервые, гордый, одетый в свою новую шинель с красными погонами, гимнастерку и брюки с лампасами, явился ко мне (это он неизменно, однако спокойно подчеркивал
– приходил ко мн е), я заплакала от какой-то провидческой материнской боли. Было и радостно, и горько. Теперь я увидела совсем точно: это не только мой сын. Крепкое, в юношескую худобу удлиненное
496
лицо, уверенный взгляд, военная, врожденная выправка, военная походка – вся эта новая амуниция на нем – его. Видела суворовцев: мальчишки, хорошие, чистые, умненькие, а большая часть все равно мальчишки, одетые в военное. Передо мной же стоял прирожденный военный, это была не только его форма, его суть, а словно его будущее. Плакала. Что тревожило уже тогда, какие предчувствия саднили душу? Новая война? Или что-нибудь подобное? Разубеждала себя. Не будет! Не случится. Хватит! Не допустят люди, правительство. Еще свежо в памяти, кровоточит. А радио (и здесь оно было, я выключала, а Самохвалов любил) все время передавало: война, война, война. Вьетнам. Конго. И опять Вьетнам. И Ближний Восток. И Даль-ний Восток. Все словно заражено войной, и она не гаснет, лишь глохнет, таится, как торфяной подземный пожар, как костер, неразумно оставленный в лесу с угольями под пеплом; достаточно дунуть шальному ветру – родится пламя. Достаточно дунуть ветру – война опять побежит по Земле, зажжет леса и небеса, выйдет из-под контроля разума, пойдет в разгон, обернется вселенским безумием, и тогда только дым и тлен могут падать и падать века в горячий океанский бульон..
Мой сын в шинели суворовца! Я и гордилась тобой, и любовалась, и не переставала плакать. Начиналась какая-то новая полоса моей жизни. Чувствовала это и не могла ничего остановить. Временами представлялось: уж не я, не я словно с трою свою судьбу. За меня кто-то решает ее. Решает. Решал. Кто и зачем? Кто и зачем?
X
Во всяком замужестве есть или должен быть период привыкания, а лучше, если б он был даже перед тем, впрочем, не знаю, – ведь все дни, часы, вечера, месяцы сближения, дружбы, полулюбви, общения, когда одна судьба вживается в другую, а то, что было отдельным и единичным, приобретает общий, объединенный смысл, – все это все-таки не замужество,
497
не жизнь под одной кровлей, когда выясняется вдруг нечто непредвиденное и проза быта вовсю теснит хрупкие конструкции иллюзий и поэзии. И еще убедилась: для свыкания нужно не время – нужна молодость, молодая пластичность, взаимная глупость, взаимная доброта и какое ни на есть сродство душ, характеров, чувств и привычек. Время же только для дошлифовки, время – раствор для крепости, для однородной кладки. Как поздно я это поняла, на опыте, что шаблонно именуют горьким. Пословица про пуд соли не применялась к моим отношениям с мужем, – слово это ужасно звучало на первых порах. Муж. А я, значит, жена и, хочешь не хочешь, стало быть, некая собственность мужа, к которому – с первых дней нашего совместного проживания ясно поняла – не притерплюсь: не превращусь в Самохвалову. Уже неосознанно зная это, я, когда регистрировались, вдруг настояла на сохранении своей девичьей фамилии, Самохвалов и не слишком настаивал. Лишь поглядел на меня более пристально, и в его голубоватых с малой зеленью глазах я уловила первую искорку отчуждения. Почему не предположить, что и он сомневался во мне? Оба мы были не первой молодости, я – старше, оба знали жизнь и людей, и хотя Самохвалов казался часто простецким парнем-рубахой, пахарем от сохи и плакатным трактористом, а его крепкое лицо, похоже, еще долго не обрело бы черты исконного горожанина, в уме и сметке ему нельзя было отказать. Почему это, наделяя самих себя чуть ли не даром провидения, других мы сплошь считаем неразвитыми? Ошибка? Ошибка сплошная. И ею же было мое, головой в воду, решение о замужестве. Счастливые амурчики, как видно, не летали над нашими головами, когда мы казенно расписывались в этом ЗАГСе, – ведь будто не нашлось другого обозначения сей конторы, в том же здании, где высиживала я долгие очереди в жилотдел и где регистрировались не только браки, но и смерти, и рождения, и разводы. Ох эта казенная торжественность, и ныне вплоть до бутылки шампанского и этого заезженного марша-гимна, женщины с равнодушно-ужасно-торжественным лицом – такие бывают распорядительницами и в
498
крематориях, – холода колец, надетых словно по обязанности...
Свидетелей... Тогда свидетели не требовались, но присутствовали уже опи-санные друзья мужа и их жены, моих свидетельниц не нашлось. Все-все потрясло меня стекающей дрожью – именно в момент, когда ставились штампы в паспорта, я поняла безнадежную глупость затеянного. Вот даже мое сопротивление с переменой фамилии. А дальше, шаг за шагом, выяснялось – не совпадает все. Я по-прежнему работала в больнице, приходила поздно, муж оказался нервен, подозрителен, непримирим к моей работе, едва узнал, что это такое. Пришлось остаться лишь операционной сестрой. Конечно, облегчение, но Самохвалов и это едва терпел. «Уходи из такого отделения! – категорическое требование. – Мужиков щупаешь!» Объясняла, сперва терпеливо: «Не щупаю, а лечу», «В урологии много женщин», «Я – сестра», «Медицина – не театр». Ничто не помогало. По-своему Самохвалов был прав. Я ведь говорила о специфике профессии, ее предположительном влиянии на работающих. А в дополнение Самохвалов оказался еще дико ревнивым. Встречал – как подкарауливал. Следил. Внезапно приезжал. Заметив меня, идущую через пустырь с молодым палатным врачом, побелел, вытаращил глаза, еле удержала, чтоб не стал хамить. Дома дулся, требовал объяснений. Мне было дико оправдываться (в чем?), молчала. Муж лишь распалялся гневом. Ему нужны были именно оправдания, слезы и заверения. И я даже понимала и могла бы сыграть, а не хотела. Заверения, слезы – все это сладкая игра, когда любят. Ее ждут, ее хотят. Когда любят.. Очень скоро, если не заранее, мне стал ясен его мир, весь жизненный путь. Оказалось, что я у него третья жена! Первая осталась в деревне, другую бросил – якобы изменяла, – теперь была моя очередь пройти испытания, чтоб оказаться достойной супругой. И поначалу я старалась быть образцовой женой. Смешно.. Старалась.. Хотя и уверена, без старания, самовоспитания нет образцовых жен. Может быть, к этому надо готовиться на каких-нибудь курсах?.. Я рано вставала. Пока муж спал, готовила завтрак, успевала прибрать себя, заваривала чай. Самохвалов
499
просыпался только по будильнику, который ставил к изголовью. Спал Самохвалов очень крепко и так же, как спал, громко храпел. Я же, по обыкновению, спала чутко, плохо, первые же трамваи, пустые и гулкие, грохотавшие по каменной, ущельем, улице, будили меня, и всю ночь отвратительно такал-чакал будильник, который муж, боясь проспать, никак не соглашался убирать. Храп лежащего рядом мужчины изводил с первых дней, а точнее, ночей замужества. Храп. Самохвалов никогда не верил, что храпит, говорил: «Ну, толкни, если так. Делов-то!» Толкать было бесполезно, затихал на мгновение и, повернувшись на другой бок, снова заходился громогласным: «Ох-ро-ро-ро-ро-ууфф». Испорченный двигатель? Водокачка? Лежи, ищи сравнения. Храп. Вроде бы такой пустяк! Но, лежа подле этого крепкого, крупного, сильного человека – не выговаривалось внутри меня слово «муж», – я думала: видимо, уже безнадежно сломана жизнь, если ни к чему, ни к кому не могу приспособиться и вот, едва выйдя, уже не знаю, как освободиться от тяготы, куда деться, где и как жить. Мешает, смех сказать, не только храп, мешает запах пота, чужой, неприятный, мышино-терпкий, а я знала, он может быть родным.. Что там храп, пот; если годы спала по землянкам, в блиндажах, по чужим избам! Что там запахи! В отделение сплю, где приткнусь, под стоны больных, головой на жестком столе. А в походных палатках спала на ходу, валилась, мечтала о сне, как о счастье. Или там вконец и надорвалась душа, отравилась войной и теперь нести эту крестную муку всегда? Есть у Лермонтова всем известное «Я ищу свободы и покоя!». Крик души. Как поняла его теперь моя изжаждавшаяся по тишине, покою, надежности душа!
А за чаем, глядя на меня, невыспавшуюся, с красными натертыми глазами, Самохвалов хохотал, называл «прынцесса на горошине», потом и вообще стал звать «прынцесса», вкладывая в слово то иронически-снисхо-дительный, то с оттенком спрятанного презрения смысл.
В первую ночь, оглядывая меня, ежащуюся под его руками, пристальным взглядом, сказал с едва скрытым неудовольствием: «Где это
500
тебя так? Угваздало! Испластало-то? Ты смотри: тут рубец, там.. На животе-то! А это что? Пулей? На выход?!»
Первая ночь! Не первая, а такая же, как когда-то. Мучение.. Терпение.. Снова мучение.. По крайней мере для меня. Больше ничего. Разглядывал безжалостно. Напоминал Полещука. Все, что ли, мужчины такие? Что говорила всегда Лобаева.. И, закрываясь ладонями, простыней, отталкивая чересчур любопытную руку мужа, я молчала. Мои шрамы. В голову не приходило стыдиться, хотя знала, бывая в бане, – женщины в мыльной внимательно вглядывались. Жалели. «Досталось тебе, девушка!» Я еще, бывало, и гордилась. Смотрите! Воевала! Вот мои награды! Здесь, в постели, был другой взгляд, иной оттенок смысла в вопросах: «Не думал.. Хх.. Как тебя изувечило? И в боях была? Или как?» Отвечала кратко: «Была». Ничего не хотелось объяснять. Видела за вопросами лишь размышление: «Опять не ту взял!» Получалось, я словно обманула его. Скрыла рубцы. Через месяц, который принято называть сладким именем, Самохвалов заметил: «Чо это ты, как девка, все жмешься, не даешься? И холодная.. Лед. Как это тебя понять? Говоришь еще: «Войну прошла?» Ты навроде бабой-то как не была. Стыда в тебе этого на-тол-ка-но, не по-бабски». – «Какая есть..» – «Как же с другими-то?» – «У меня не было других..» – «Ну-уу этто уж ты, Лида, бро-о-ось.. Этто я зна-аю, – презрительно улыбался он. – Все бабы-девки так врут. Только слушай: «Ты первый! Ты единственный! Ты то-се...» Моя-то, Дуська, с которой разбежался, вра-ла-а.. Уши вянут. И так ведь врет – в глаза глядит! Ы-ых.. Ты, правда, навроде не такая.. А все ж.. Я теперь бабам не верю. Закон..» В речах и в делах оказался он куда более примитивным, чем казался вначале. Иногда, пытаясь растопить мой лед, он принимался рассказывать, какие у других есть жаркие жены. В пример приводил друзей, их супруг, особенно жену своего сменщика Миши, официантку из ресторана.
В остальном Самохвалов мужчина как мужчина. Обстоятельный. Заботливо-запасливый. Не приезжал без какой-либо дельной хозяйственной покупки. Там достал хороших яблок, там – тушенки, рыбки с икрой, изредка
501
дорогие коробочные конфеты, каких не бывает на прилавках. Все с базы! С черного хода! Выкладывал добро на стол торжественно. Явно ждал моих восторгов. Когда я восторгалась слабо, потухал, досадовал. «Что ты за баба!»
– было опять в голубовато-зеленых глазах пахаря. Он и слово это любил: «Па-шешь, па-шешь..», «Ну, я поехал па-хать». Не приезжал и без «калыма». После ужина любил, обшарив карманы, разложить «калым» на столе. Пересчитывал, зная, наверное, заранее всю сумму, может быть, даже в каких бумажках, но пересчитывал. Рубли. Трешки. Пятерки. Горсти мелочи. Часто бывали и крупные деньги, удивлявшие меня. «Что тебе так много дают? На чай?»– «Да нет.. Это... Это я.. Ну, сменял, в кассе.. Зачем мне эту лапшу..» Краснел. Лицо становилось особым, и сам напоминал в такой момент какую-то денежную купюру.
Сосчитав, удовлетворенно-сыто крякал. «Ну, вот.. Есть детишкам на молочишко.. Теперь можно..»– здесь он всегда обрывал фразу, приходилось лишь гадать: что «можно теперь»? «Левые» деньги Самохвалов клал на книжку. Посоветовал завести книжку и мне. Удивило, что нет. Кажется, не поверил. Как это так? Живет без книжки? Прячет, наверное, не хочет говорить. Иногда, без меня, рылся в моей сумке.
Меня он сразу посадил на бюджет. Выделял из заработка столько-то. Я должна была давать меньше, но тоже обусловленное, как по договору. Не знаю, есть ли такое в других семьях, не интересовалась, но привычка экономить во всем пригодилась и здесь, денег оказалось достаточно, и муж был доволен, хвалил за рачительность. Тут ему я неожиданно угодила. Скупым его было, пожалуй, назвать нельзя, несправедливо, он жил скорее по-крестьянски: денежка к денежке идет, денежка денежку ведет. Без копейки – не рубль. Все это можно, наверное, было не так, по-иному. Как-то без молитв денежке, но я предпочитала молчать. Молчать, между прочим, гораздо труднее, чем говорить. Особенно Самохвалов был доволен тем, что сын мой поступил в суворовское. Всячески одобрял, даже часто доказывал мне, что там «парень не разбалуется», вырастет разумный, «к дисциплине
502
приученный» и так далее. Когда Петя приходил на воскресенье, Самохвалов выбивался из сил, был любезным, угощал, хвалил, спрашивал об учебе. Старательно спрашивал. И так же старательно любезен, обходителен и воспитан был угрюмый самостоятельный сын. Оба они делали вид, что не понимают своей абсолютной отчужденности. Страдательная сторона – я. Меня сын как будто не презирал, это не точное определение, точнее будет, старался не презирать, насколько было в его силах, или просто не мог. Слишком много мы с ним пережили. Но я упала в его глазах, упала неожиданно, как запнувшаяся на ровной дороге, и отроческим своим умом, пониманием жизни он старался поднять меня, недоумевал, мучился, попытка понимания моего проступка – да, это бы проступок! – давалась ему с большим трудом. Вот, попробуйте выдайте свою мать замуж.. Если ошиблась я, как было трудно понять ему, ведь иногда я «проигрывала» внутри себя его состояние, только представив, что моя мать взяла и вышла замуж, а я нахожусь на месте сына. Это было пыткой. Я готова была уже всячески казнить себя, чтоб завоевать его прощение, и вот, может быть, понимание моего борения, раскаяния, осознанной вины давало мне в глазах сына право на снисхождение. «Ну, оступилась, я прощаю тебя», – видела в глазах и еще видела, как с удивлением он следил, долго ли продлится это неожиданное и непредвиденное замужество. Вперед меня понимал – недолго. Он явно ждал этого. Да и сама день ото дня, месяц от месяца уясняла: ничто не свыкнется, не состоится и не притерпится. «Брак с весталкой не считался благоприятным» – часто вспоминалась вещая фраза из словаря. Я не могла и не смогла бы полюбить Самохвалова. Крошечное странное сходство со Стрельцовым давно развеялось, растворившись в потоке неприятия. Наш брак был не сожительством, а чем-то худшим, как ошибка с обеих сторон. Именно брак. Я понимала, что не доставляю человеку, взявшему меня в жены, много радостей. В его представлении женщина и жена должны быть иными. И вот странно, я даже представляла, какой должна быть его жена, и не хотела быть такой, играть в такую, он ничего не получил от меня, кроме,
503
может быть, внешности. Эта внешность – единственное, что толкнуло Самохвалова ко мне и что он, как бы там ни было, ценил. Часто я ловила его недоумевающий, с раздумьем взгляд на своем лице, руках, фигуре. Взгляд был такой, как примерно смотрят на красивую коробку от конфет, зная, что конфет там не содержится, и хотелось бы, чтоб были, чтоб коробка была полна и непочата. Грубое сравнение, аналитическое, ироническое и, наверное, не женское. Но так думалось. Теперь я не верю в несчастливую семейную жизнь. Если она не счастливая, то уж и не семейная. Для счастья же люди подбираются, как знать, не по возрасту и сходству, а по единому влечению друг к другу, тому почти оккультному магнетизму души и тела, не изученному никем до сих пор. Да что изучать, если волшебное, тайное? А суньтесь – непочатый край для диссертаций. Взаимное влечение как основа счастья! Магнетизм душ. Но если он есть, есть и семья, есть и счастье, и жизнь семейная, где не мешает ни храп, ни запах, где все прощается и где я, уж точно-точно знаю, была бы и горячей, и жаркой.
Сдается – мы оба тянули с развязкой: он – потому что был не из решительных, не было подходящего повода. Самохвалов из мужчин, которые попросту не могут выгнать женщину, – такие уходят сами. Я – потому что некуда деться. Комнату сдала тому же Качесову. Увидела изумление на салом заросшей морде. Диалог был краток: «Вот, возвращаю ваше благодеяние». – «Это.. как понимать?» – «Советую вам пожить в такой комнате». Кабанья улыбка зажелтела пониманием. «Стал быть, не угодил?»
– «Ничего, еще угодите куда-нибудь», – сказала, поворачиваясь спиной. Самохвалов же воспринял мой поступок с удивленным огорчением: «Обрубила все концы! Сейчас вот делись с ней! Вот купила так купила!»– бегало-пряталось в его взгляде. На словах же было сказано: «Сыну бы оставила.. Сдала бы кому пока – и точка. Деньги лишние?» Мои поступки не укладывались в его привычные расчетливые представления о жизни. Но я сделала именно так, как хотела. В любом случае не вернулась бы в тот вертеп
– для меня это было равносильно гибели.
504
Так прошел год, и начался второй. Чем дольше мы жили, более чужими, неблизкими становились, хотя формально – поглядеть со стороны
– все вроде в норме. Мы даже не ссорились. Иногда думалось: в ссорах люди скорее сближаются, притираются. Я готовила завтраки, ужины, стирала, чинила, обихаживала квартиру, ходила в магазины. Оставалось время, свободное от домашних дел – не ахти как много, – читала и по-прежнему записывала, не могла без этого.. И все под любопытно-усмешливые взгляды: «Опять чи-тает, пи-шет.. Уче-ная! Пи-сательница. Ну, читай, читай»– было в подтексте. К книгам Самохвалов относился как к совершенно лишней вещи. Здесь книги были только мои, мое «приданое», для него же просто «книжки» – как не люблю когда их называют так! Он мог иногда, без выбора, взять какую-нибудь перед сном, полистать, как листают и держат нечто совершенно ненужное, абсурдное, и всегда как бы с недоверием, неспрятанным пренебрежением: «Ну-ка, чего там? Чего?» Читал с полстраницы, шевеля губами, и тут же бросал: «А.. Неинтересная.. В сон клонит. Спать хочу. Писатели-то все врут! Знаем.. Книжки выдумывают, чтоб деньги грести.. А дураки покупают. Копят.. книжки.. Ну, еще вот собрания, сочинения.. У Варфоломеевича есть. Стоят. Красиво вроде.. А вообще незачем... – он зевал. – Спать давай». Зато телевизор – общими усилиями мы купили-«достали» – доставал, понятно, он, – модный тогда «Темп» с большим экраном, взамен старого, маленького «КВНа» с линзой, который Самохвалов тут же свез в комиссионку, – он мог смотреть бесконечно. Едва появлялся со смены, включал, «врубал», как он говорил, и, помывшись, часто с тарелкой в руках садился смотреть. Все подряд, но особенно футбол и хоккей. Ненавистные мне игры. По любви к ним да еще к громкой музыке, магнитофонам, «дискам» я и сейчас разделяю, определяю для себя людей. Тогда же на футбол-хоккей было словно поветрие. Едешь в трамвае, один вопрос: «Как сыграли? Какой счет?» Заядлых хватали инфаркты, бил инсульт. Самохвалов, конечно, знал всех знаменитых игроков, волновался, вскрикивал, ругался, хлопал по коленям. Когда же, насилуя себя,
505
все пытаясь быть, хоть внешне, образцовой женой, я тоже смотрела, обращался ко мне: «Ну, са-пожники! Какую пропустили! А?» А я думала, глядя, как крошечные человечки бегут за мячом, сшибаются, толкают, пинают друг друга, как валятся кучей, дерутся клюшками (ненавижу и самое слово «клюшка», дурное, кривое), глядя на лица, когда показывали крупным планом, лица, так часто хулиганские и просто тупые, глядя и слушая, как еще более крошечные кричат, свистят, иногда все сливалось в сплошной недостойный людей свист, орут, машут, дудят в трубы, думала: человечество мало прогрессирует со времен Рима, массовые страсти-занятия собирают и сейчас под свои знамена самых, самых. Может быть, еще долго будут собирать. Они чем-то напоминают войну – судите меня, как хотите. Может быть, правда не за мной, но так чувствую, думаю и уже слышу голос рассерженных. Зачем так категорично? Вот Хемингуэй, для примера. Писатель, гуманист, а любил даже более кровавое – корриды. Кто прав? Пусть – вы. Но только я никогда не могла полюбить этого грубого или старавшегося везде быть мужественно-грубым писателя и не могу также представить, чтобы Чехов, Толстой или Горький ходили на корриды или очень болели за этот самый хоккей. Мы с вами слишком разные! Вы не станете мной, я – вами.. Не заставите меня любить то, что нравится вам! Разные мы.. Вот куда меня заносило, пока глядела на мельтешащий экран. В выходные телевизор и Самохвалов не отдыхали. Иной жизни у них не было. Я же уходила на кухню, не так слышалось здесь это вечное: «Вотоноопасноеположение.. Передача.. Удар!» «Го-о-о-о-о-ол!» – это, уже вторя, кричал мой муж.








