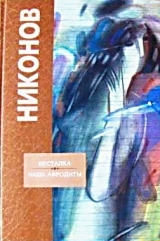
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Когда собрала свои тряпки, запеленала сына, тетя и дядя появились на кухне. В лицах обоих ожидание, напряженность. Все это время они, видимо, совещались, очень совещались. Теперь решение принято, и тоже трудное,
361
однако все-таки решение.
– Ну, Лидочка, до свиданья.. Будь здорова.. Хороший у тебя мальчик..
– говорила тетя.
– М.. Э.. Заходи.. Когда.. – добавил дядя.
– Да-да.. Заходи, Лидочка.
Я пошла к двери.
– Ну, вот, Лидочка.. Ты это.. Мы тут.. Ну, в общем, помочь, – тетя совала мне в карман шинели какую-то бумажку.
– Что вы? Что! Тетя Надя?! – кажется, я побагровела.. Стало жарко. Густо стыдно.
– Лидочка! Тебе же трудно.. Видно..
– Сто рублей! – сказал дядя.
– Нет-нет, – я торопилась к двери. – Нет. У меня есть деньги! Не надо! Что вы?
– СТО рублей! – повторил дядя.
– Нет-нет! – вот я уже открыла дверь в сени. Деньги остались в тетиной недоумевающей руке.
– Сто рублей.. – услышала я, выходя из сеней. Дверь сама собой захлопнулась, закрылась. Чистый воздух. Голубое небо. Глотками можно пить и пить его синеву.
Сто рублей. На них теперь можно было купить целую булку черного хлеба. Так стоила она на рынке. Спасибо тебе, дядюшка.
Торопливо шла, уходила по скучной дядиной улице. Здесь словно все было его, проникнуто им, такое же. Дорога в протаявшем навозе. Заборы. Окраинная тоска. Я шла, и все обдирал меня дурной, нажитой на фронте озноб. Он начинался где-то у поясницы или под ложечкой, стекал к коленям
дальше до кончиков пальцев, поднимался обратно, полз по животу, каменил груди, подкатывал к горлу и, застревая там, делился, шел вверх, замораживал щеки и замыкался куском льда на лбу.
Небо вечерело. Земля качалась. Дома обрели движение, шатались в
362
такт моим шагам. «Не выронить.. Не выронить.. Не выронить бы.. – шептала я, повторяла, наверное, серыми или белыми замороженными губами. – Не.. вы-ро-ни-ть бы.. Не.. вы-ронить..» – неся свой живой сверток, прижимая его, глазами пытаясь найти где-нибудь у забора, ворот лавку, скамью. Ничего не было. Никого не было на этой пустой дядиной улице.
III
Я – школьная техничка. Никогда не подумала бы, кем стану. Кем стану! Кто мечтает о таком? Сколько знала-помнила, работали на таких должностях старухи, бабы-пьяницы или богом ушибленные, вот как в нашей школе уборщица Сима, криворотое создание, то медоточиво-ласковое, то бранившее нас оголтелым площадным криком. Профессия хочешь не хочешь, а вызывает ассоциации с помойными ведрами, грязными тряпками, мокрыми швабрами и вокзальной неприкаянной жизнью.
Но теперь я школьная техничка и рада этому. Вот как все получилось. Стоял уже апрель. Пасмурный день с грязного тона тучами и такой же бахромой, свисавшей с их краев. Первый дождь неторопливо мыл весеннюю слякоть с заплеванных тротуаров, мочил телогрейки, дрянные пальто, зимние шапки прохожих – иные брели в латаных, подшитых валенках, еще и сплошь попадают шинели, серые – наши, зеленые, табачного цвета – английские – были в конце войны, в такой ходил комбат Полещук. Нищая послевоенная жизнь – вся с ожиданием лучшего, с надеждой на него. Скоро, говорят, отменят карточки. Открылись бывшие гастрономы – теперь это коммерческие магазины, где по дорогой цене есть все. В одном таком сидит кассиршей Валина мать – «испанка», как зову ее я. Сто раз проходила мимо кассы, но не рискнула подойти, спросить, здесь ли Валя.
Наверное, здесь. Течет мимо послевоенная жизнь. Женщины – дурно одетые, в платках, в лыжных штанах поверх валенок с галошами. И вот я – чем не бродячая баба в своей шинельке, с ребенком на руках. Стою,
363
укрываюсь от дождя в подворотне поликлиники на улице Свердлова. Петя у меня кашляет, и я раздумываю, не зайти ли с ним на прием к врачу, заодно узнать, нет ли работы с квартирой. Здание поликлиники – старый, весь в резьбе деревянный терем с чешуйчатыми башенками, с такими же вычурными воротами. Резьба есть и на них, но давно обветшавшая, обломлена временем. Ворота кое-как укрывают меня от дождя, но здесь дует, пронизывает мокрым ветром, и, отворачиваясь от него, оберегая ребенка, я вижу вдруг на расколотом вдоль, старом и запаленном в глухую коричневую желтизну дереве ворот клочок бумаги в клетку, пришпиленный ржавой кнопкой. Я хорошо помню эту кнопку и сейчас – наполовину ржавую, плохо воткнутую, листок вот-вот сорвется, дрожит на ходовом ветру. Что там? Объявление? Капли дождя уже оплакали его, но посредь размытых строк все-таки разобрала, что школе рабочей молодежи номер семь требуется техничка-сторож, жилье предоставляется. «Господи! Вот оно!» Я знала даже
саму эту школу, где она расположена. Тихая Тургеневская улица, кварталов пять отсюда. Едва осмыслив объявление, уже двинулась туда, не рассуждая ни о чем, вернее, как раз наоборот, едва ли не вслух твердя: «Техничкой? Ну
что? Пусть.. А там, наверное, при школе прямо комната. Будет своя комната! Пойду. Техничкой? Ну и что? Кто меня знает? Кому нужна? А вдруг уж перехватили? Приняли?» Мысль ужалила. Заставила ускорить шаги. «Скорей! Скорей! Надо бы на трамвай. Дура... Нет же и лишней копейки. Осталось только на хлеб, выкупить по карточкам. Дальше – не знаю что.. Дальше пустота. Скорее..»
Дождь перестал. И уж проглядывало в коричневого тона тучах бело отмытое солнышко. Катилось по тучам кругляшком. Но некогда на него смотреть. Гляди под ноги. Не споткнись, с этой мыслью я теперь всегда, как
с привычно закаменелыми руками.
Вся в поту, запыхавшись, влетела на Тургеневскую за многоглавым зданием Вознесенской церкви. Где тут школа? Она оказалась ниже, у самого почти выхода к улице Ленина. Вот она – длинный, прошлого века
364
одноэтажный кирпичный дом с парадным крыльцом, с угла в железных поржавелых завитушках. Кривые тополя строем стоят вдоль фасада, тянут к небу узлистые черные сучья. Открываю дверь, почти бегу длинным немытым коридором со следами множества ног. Радуюсь. Не мыто – технички, наверное, нет..
В пустой школе, в кабинетике, комнатушке с одним окном рядом с учительской, только директор, мужчина с лицом, состоящим словно из одних малиновых шрамов и прыщей, с таким же сплошь прыщеватым лбом, забыла, как называется это заболевание. Украшают лицо директора только очки, большие, квадратные, какие носят японцы. Очки, может быть, даже черепаховые и настоящие японские – тогда в городе работало много пленных. Очки смотрят на меня. А я оторопело стою с ребенком на руках, не могу перевести дух, не могу выговорить слова.
– Что? – наконец спрашивает директор.
– В школу. На работу..
– А-а.. Садитесь.
Чуть не опрокидываюсь на клеенчатом продавленном диване.
– Зарплата устроит? Сторожем будете по совместительству.
– Мне важнее комната.
– Комнаты нет.
– Как?!
– Вернее, есть, но.. подвал. С печкой.
– Ничего.
– Посмотрите сначала.
– Ничего.
– Ну.. Раз так.. Пожалуйста.
Смотрел на меня словно бы иронически, пока я – вот, не поверите – трясущейся рукой писала заявление, и будто высмотрел всю мою судьбу, неприкаянность, даже, пожалуй, заглянул в мою душу. Такие всепонимающие очки.
365
Петя мой завозился, захныкал на диване. Директор встал.
– Пойдемте...
Меня зовут тетя Лида, хотя чаще просто Лида. Мне, думается, теперь никогда не стать ни Лидочкой, ни даже Лидией Петровной. Я мою коридоры, переворачиваю парты, мету сор, семечки, бумажки, кипячу воду для бачка, закрываю и открываю школу. На меня, кажется мне, обращают внимание не больше, чем на тряпку у порога, которую я кладу, следя, чтобы вытирали ноги. Делают это очень неохотно, норовят проскочить так, особенно парни. Ученицы немногим лучше. Со мной здороваются директор и учителя (правда, не все), со мной приветливы (и опять не все), но как-то так приветливы, что я постоянно, всегда чувствую свою третьесортность, – кажется, четко, всей кожей ощущаю написанное на дальнем плане каждого взгляда, обращенного ко мне: «Простите, но вы же пария, низшая каста». Иногда во взгляде и нет этого культурного «простите».. Меня никто не спрашивает о моем прошлом, кто я и что, – никого это не волнует и не интересует (в общем-то и слава богу!). Хотя иногда бывает очень трудно терпеть это вечное – так будет, живи хоть тысячу лет, – вежливо-равнодушненькое наплевательство или не знаю, как точнее выразить. Ну, женщина, даже, вот странно, как будто похожа на девушку, но какая девушка, ясно, если ей, может, лет двадцать пять сейчас, а здесь я выгляжу, наверное, плохо и старше своих лет, взрослее, конечно, бывалая, иначе с чего станет работать техничкой, уже с ребенком, мужа, естественно, нет, в общем, на вид даже ничего себе, но ходит, ходит – стыд смотреть! – в солдатской гимнастерке, застиранной юбке, рваные, штопаные чулки, наверное, совсем дырявые в сапогах (а так оно и есть, только не дырявые, а починенные), молчаливая, со странным, кошачьей вопросительности взглядом, волосы вот ничего себе, ноги, и так, «в теле», склонная к полноте – вот такую примерно характеристику читала и ощущала во многих взглядах, обращенных ко мне. Особенно неприязненно, с остановившимся, полулюбопытным ужасом
366
смотрит на меня завуч Светлана Васильевна – женщина из порядочной семьи. Она помешана на чистоте и не заходит из-за этого даже в школьный туалет. Боится загрязниться, получить инфекцию. В учительской за телефонную трубку она берется не иначе как с бумажкой, вырванной из тетради, и так же открывает двери классов. Часто, забывшись или погруженная в свои опасения, она так и ходит по школе с бумажкой в руке. Когда Светлана Васильевна идет мимо или видит меня с ребенком, глаза ее каменеют, она приостанавливается в нерешительности – не обойти ли? – а потом поворачивается и быстро уходит, странно семеня кривоватыми ногами в молочных чулках, – тощая, плоская, с валиком подкрученных белых волос, окружающих некое старомодное возвышение из таких же взбитых волос на темени. И еще презрительнее, совсем не скрывая этого, смотрит на меня наперсница Светланы Васильевны Галина Никитична, библиотекарша, солидная дама, работающая в школе «для стажа». Своим прямым делом она никогда не занимается. Библиотека вся в двух старых-старых резных черных шкафах в комнатке по другую сторону учительской. Шкафы закрыты на висячие замки, а библиотекарша пишет справки, оформляет документы, но главным образом рассказывает о своей семье, муже, детях, о том, какие они талантливые и способные.
Вечерами, в тягостном ожидании времени подачи звонка, я сижу в подобии зальца, дом впрямь старокупеческий или дворянский, скорее последнее. От прежнего владельца сохранились кое-какая обстановка и что-то давнее. В классах и вот здесь, в зале, напротив меня, большие печи с гладкими белыми изразцами, с медными отдушинками. Лепной потолок. Хромой рояль темного красного дерева, под одну ножку подставлена табуретка. Зеркало высотой под потолок в резной рамке, и такое же зеркало в коридоре. Резьба рам напоминает рисунок резьбы на книжных шкафах. Музейные напольные часы в высоком ящике, часы с остановившимся маятником, в них словно замерло время. Зачем они тут? Звонки я подаю по другим, уж явно казенным, троящим свой диск в футляре с гранеными
367
стеклами.
Этот зал с прошлой и как бы разоренной, ушедшей жизнью иногда угнетает меня, и я начинаю думать о своем прошлом, вспоминать как будто недавние фронтовые дни. В самом деле – далеко ли они? А уже сливаются, соединяются, как станешь вспоминать, в одну сплошную муку и маету. Попробуй выдели хоть один день. Как трудно. Почти невозможно. Помнятся одни эпизоды, случаи и какая-нибудь подчас чушь, вроде пробитой осколком фляги, лошадиного копыта вместе с подковой, найденного как-то на дороге, кучи стреляных гильз, снарядных стаканов, мало ли чего, зачем-то застрявшего занозой больно и остро в памяти. Ярче ли помнятся дни на передовой? Нет. Время там точно странно растягивалось в будто бы вековую невыносимую, до грудной боли, до отупения, нескончаемость, продлинновенность. Время там и бежало, не оглянешься: зима, лето, осень – все под откос. Или так кажется теперь? Забывались числа, часы, дни. Время исчезало, словно переформировывалось в некую субстанцию. В философское понятие, которое я усвоила после, продираясь как сквозь дремучий лес, увязая в трясине, в дебрях премудрых книг, о которых еще скажу. Время – оно и здесь субстанция, только меньше, поменьше – все эти сорок пять минут, когда сидишь под часами, отупело вслушиваясь в невнятные голоса учеников и учителей. А на фронте субстанция могла давить, как стотонная масса, когда во время огневого налета где-нибудь в поле, в степи я вжималась лицом в колючую землю, в снег, закрывала шею, сжимала плечи, каменела в глине, в стылой грязи с одной мыслью: «Пронеси, господи! Да сколько можно-о! Ну-у! Не вы-не-су!» Сердце мечется, стучит, как мышь в банке, и суетливо-бесшумная, безумная молния жжет и жжет – выжигает душу. Нет возможности вынести. Если вскочить?! Побежать, хоть навстречу этому дергающемуся свисту, грохоту, вою, исчезнуть в нем, сгореть, как бабочка в огне, и уже не чувствовать ничего, не дергаться вместе с землей, не слышать, как больно молотит тебя по рукам, по ногам, по спине. И вскакивали, и сгорали.. Если уж говорить об ускорении и удлинении
368
времени, яснее всего это можно понять на войне, в госпитале да еще на лавке под часами, где заблудившейся луной ходит и ходит, не может найти выхода латунный маятник.
Целая жизнь на передовой уплотнялась до однодневной, одночасовой, односекундной. Прибывало пополнение, солдаты, не успевшие нарастить на стриженых головах и малых волос. В конце войны не солдаты – пацаны, рослые дети. Зеленые. Наивные. И уже к полудню и вечеру, бывало, кто-то из них убит, безнадежно ранен, исходит кровью. Время его кончилось, и ничем, ничем не могу вернуть ему время. Я – только могу бинтовать, бормотать жалкие слова, зная (ох, знание!), что все мое искусство бесполезно, видеть (в который раз), как жизнь вместе с кровью вытекает из молодого тела и словно бы вытекает душа, улетает жизнь. Иногда эти души, точь-в-точь похожие на убитых, призрачно-туманные, ходили по землянкам, грезились мне в траншеях, виделись во сне. И казалось, схожу с ума. А может быть, вправду есть, бывает такой мираж, когда сущность погибшего человека воссоздается как некий туманный слепок, след или видение, и это были не просто погиб-шие солдаты, оставшиеся в моей памяти. Они были разные – тот первый, убитый снайпером лейтенант Немых и еще, и еще, и еще. Вот, помню, на Орловской одному такому солдату оторвало ногу. С такой раной обычно теряют сознание, не приходят в себя. И я даже не знала, что мне делать, – солдат был в полной памяти, будто не чувствовал боли. Может быть, за счет своей молодости; нерастраченной силы? Я вытащила его на плащ-палатке в какую-то яму, и плащ-палатка была полна горячей крови, я вся вымокла в ней, пока возилась, пытаясь наложить жгут там, где уже ничего не было. Жгут сползал, а парень не терял сознания, все спрашивал и спрашивал, будет ли играть в футбол. «Будешь.. будешь», – повторяла я, не в силах унять кровь. Он не прожил, наверное, и часа. Это было в сорок третьем, а помню, точно вчера.
Вот и едва не прозевала звонок. С грохотом отворяются классы. Курильщики торопливо бегут в курилку, девочки – охорашиваться. Ребята-
369
фронтовики приветствуют меня. Многие донашивают кителя, гимнастерки. Меня из-за моей формы не считают вроде настоящей техничкой. Иные подходят, пытаются знакомиться, предлагают пойти в кино, на танцы, кто понаглее, закуривают тут же, пытаются присаживаться. Гоню их на улицу или в курилку, подобие коридора-тупика, где всегда дым коромыслом и стоит ведро с водой. После каждой перемены, как ни кори, ни ругай, по углам кучи окурков, иные не погашены. Русские люди! Заметая окурки, заплескивая водой, иногда вспоминаю и немцев. В том госпитале первой линии, где я была после контузии, а потом работала на сортировке раненых, было отделение немцев-пленных. Обслуживали их тоже пленные, было даже две-три сестры-немки в серых платьях, но лечили наши врачи. У немцев в отделении тоже была курилка, стояло ведро в таком же школьном коридоре. Ни одного окурка не валялось мимо. Пленные немцы и раненые – все равно немцы. Иного измерения, другие люди. К ним никак не привыкнешь, как не привыкнуть вроде бы к их невнятному, почему-то кажущемуся высокомерно-нахальным говору, лягушачьим взглядам, враждебной, вызывающей неприязнь одежде, манере держаться, даже особому чужому запаху. Говорят, кто долго с ними общался – привыкал, но для меня это были люди словно из антимира, из какой-то, к несчастью, не выдуманной и не фантастической повести. Я глядела на них со страхом и все время думала, что будет, попади я к ним, хоть раненая, в плен.
Чтоб отвязаться от ухажеров, я часто сижу в зальце с ребенком на руках или вяжу что-нибудь детское. В подвале, видать, от прежней технички, остались спицы и два клубка серой шерсти. Когда я вяжу или вожусь с сыном, число желающих быть возле меня становится мизерно мало. Уходят и самые назойливые. А мне пора давать звонок, потом идти в свой подвал, укладывать сына. Хорошо, что могу всегда спуститься к нему и, прислушавшись, услыхать, если он плачет. Но моя работа еще впереди, когда кончатся уроки, в школе настанет тишина и до позднего часа надо будет ворочать парты, мыть классы, коридоры, учительскую.
370
Моей напарницей работает здоровенная одноглазая женщина. Вставной глаз у нее светлый, почти белый, здоровый – серый. Она моет классы, как могучая машина, толчками бедер сдвигая к стенам все и вся, а в тесных классах рядами двигая парты. Она молчалива, лишь иногда по-лещачьи хохочет. Меня она словно не замечает, и за месяц работы мы не обменялись и тремя словами. Муж Таисьи – так зовут женщину – во время войны и чуть ли не на фронте женился на другой, и Таисья зыркает на меня, как на возможную разлучницу. У нее другой муж, или скорее сожитель, – чахлый, туберкулезного вида, издержанный, мужичонка-инвалид Иван Селиверстович. Каждый вечер он является за своей супругой, сидит в зальце, ожидая, когда она вымоет классы. Я не могу представить, как может Таисья сидеть с ним за одним столом, есть-пить, спать под одним одеялом, – но вот ведь загадка жизни: живут и радуются где-то в одной комнатушке по главной улице. «У нас благоустроенная! – с гордостью поведал как-то Таисьин сожитель. – Я за чо воевал? Кровь проливал? Награды имею». Он и правда, видимо, был где-то около фронта. Три своих медали – «За победу над Германией», «Над Японией» и еще какую-то «За взятие» – носит, не снимая, на дрянном грязном кителе, явно не со своего плеча. Носит и новую офицерскую фуражку, которая странно не идет, не прилаживается к морщинистому, опухшему лику забубённого пьяницы. Был он, конечно, армейским тыловиком, хозвзводовцем, таких и за солдат не считали, но здесь ломается, думая, что я не понимаю, признаю всерьез. Все врет: то командовал батареей, подбивал танки, то по «юнкерсам» стрелял, с Жуковым встречался, с Рокоссовским. Вранье дикое, нескладное, смешное. Но Иван Селиверстович не тушуется, знай вытаращивает коричневые с вечной пьянинкой глаза: «Не веришь? Вот с места не сойти! Подходит ко мне Рокоссовский и это.. руку подает. Я тогда в разведку ходил. «Языка» взял. Немца-офицера. Привел... А важный оказался, холера.. Меня в штаб. Ну, и это.. Рокоссовский руку пожал. К «Отечественной» представил. Не получил пока. Ну, я своего добьюсь. Везде написал». Ивану Селиверстовичу лишь бы
371
кто слушал. «Лежу, понимаешь, под бомбежкой, «мессер» на меня сверху: тра-та-та-та. Пули: тюк-тюк-тюк.. И вот зна.. шинель пробило, между ногами пули прошли, а я целый». По одним рассказам Ивана Селиверстовича выходило – невредим, по другим – трижды ранен,
– А ты чего квартиру себе не требуешь? Обязаны обеспечить! Раз воевала. Благоустроенную – и никаких. Мы за чо боролись? Обязаны...
В райжилуправление я ходила. Рай. Жил. Кто придумал.. Сидела в долгой очереди таких же, похоже, одиночек, с детьми на руках. Тут же старухи, болезненного вида инвалиды, пенсионеры, молодожены с ожидающими чуда глазами. Эти еще не растратили ничего. Ждали. Мимо очереди, суетно, не глядя на нас или без всякого интереса окинув беглым полувзглядом – не до вас, много вас тут всякий день, – сновали озабоченные исполкомовцы. В заветную дверь проходили вдруг бойкие или неприступного вида, у которых в лице, взгляде: я тут главны й, имею право. Ждите. Очередь-цепочка на стульях и у окна роптала, не осмеливалась противиться, зашумишь – испортишь себе дело там, за дверью. Уверенные выходили, давя самодовольством, превосходством обеспеченных. Очередь все-таки медленно двигалась. Пищали детишки. Роптали матери. Но все выходившие оттуда очередники были безнадежно мятые, давленые, потухшие, уходили, словно волоча ноги. Надежда не гасла лишь в ярких глазах молодоженов.
Вот она наконец, моя очередь. Захожу. Вижу за столом нечто самоуверенно-сытое, седое, к таким лицам (простите уж, если так!) подходит несколько грубых определений – рыло, ряшка, харя, – этакий Очумелов, и одет даже в тон обличью, как одеваются и ходят крупные кладовщики, хозяйственники, коменданты: пиджак, рубашка-косоворотка синего сатина
– должна, очевидно, подчеркивать пролетарское происхождение. На стене у шкафа коричневое пальто-кожан, шапка-кожанка прикорнула на нем. Господи! Кого же? Кого напоминает мне этот «Очумелов»? Кого?
372
Стремительно роюсь в памяти. Кого? Да, вот такое же, пусть поменьше вширь, равнодушное лицо, глаза-глазки из треугольных щелей, усы – квадрат цвета пепла под бесформенным, но к месту носом, – такой же ходил вдоль нашего женского строя в приволжском селе, когда отбирали кандидаток в секретарши, в машинистки, когда расстались мы с Валей, она
– в штаб, я – на передовую. Не этот, конечно, тот был куда значительней, куда... А суть – вроде бы одна. Вот и эти глазки смотрят изучающе, вроде даже теплеют.
– Положите ребеночка-то.. Вон тут – что держать.. Ну.. Садитесь.. Что у вас?
Долгий взгляд. И во взгляде сем как бы способность понять, помочь, даже внимание. «Ну, конечно, помогу.. А баба ты ничего, молодая, ладненькая. Ничего.. Ничего».
– В чем дело-то?
Объясняю. Тот же долгий щупающий взгляд-огляд. Человек, перед которым что ни день – десятки скорбных исповедей, жалоб, криков души и немощи. Привычен.. Обвык.. Притерпелся.. Да и не из тех, кого тронешь-прошибешь словом или слезой. Ожесточила ли война, должность ли – не знаю. Но чувствую, вижу – точно так, точно. Все это я научилась читать и понимать легко.. Все-таки объясняю, что-то доказываю, как теорему: «А плюс Б». Треугольники, глядящие на меня, чересчур даже подобны. Взглядываю на лежащего на диванчике сына. Мысль: «А ведь диванчик-то специально тут поставлен для просительниц «с приданым».
– Так.. Ну, все ясно... Все ясно.. А дело ваше тухлое.. Права на жилплощадь утеряны. Там – семья погибшего.. Эвакуированная. Квартира теперь не ваша. Ордер за ней. Я ведь не могу их выгнать – вас вселить..
– Но ведь я же там жила. Я же.. Я же воевала. Была на фронте! – пытаюсь, пытаюсь что-то совсем по-глупому.
Теперь во взгляде – осень, холодная слякоть. Взблескивает золотой
зуб.
373
– Ви-жу, что воевали. Ви-жу. Х-хе..
– Как же мне теперь? Как дальше?
– Но ведь где-то вы живете? – быстро говорит он, налегая на букву «ы» – после «ж»: жывете. – Не на улице же? Не на вокзале? Или как? Это вы еще очень хорошо устроились, гражданка, да-а.. Работа с квартирой. У многих и того нет. У меня таких, как вы, сотни. Вот, поглядите, – двинул губой на папки. – Рад бы дать.. Положение ваше понимаю.. Но.. Жилье не строю, распределяю. Рад бы.. Всех обогреть.. Но.. Надо ждать, – это он произнес как-то особенно! «Надож дат ь». Довольно явно. Неужели – дать? Не верила ушам. Хотя про этого наслышалась – берет взятки. Фамилия его была Качесов. Но.. Господи! Неужели? Неужели – правда? Как это? Вот так, прямо... Нате! Или в бумажке? В конверте? Но что я ему? Что дам? Какие у меня деньги? Он же видит – из бедняков беднячка.. Даже платья нет. Гимнастерка, юбка, сапоги.
– Надо жда-а-ать. Ж.. да-ать, – потягивает он тем временем, вписывая мое имя-фамилию в какую-то книгу. Глаз же, отрываясь от стола, блудит-ползает по гимнастерке, трогает фигуру, останавливается на колене. «Улыбнуться хоть, что ли, ему? Нет, не могу. Противный кабан. Не могу!»
– Та-ак.. Живете-то? Уу.. мм. Указано здесь. Подвал.. Уумм.. – мычит. – Хрм.. Под-вал.. Все счас.. в подвалах. Н-да.. Уумм.. Хрм.. Кхм.. Ребеночек-то? От зарегистрированного брака? Нет? Уумм.. Хрм.. – опять тот же взгляд, только более острый, зеленый. – Сложно.. Сложно.. Уумм..
– Как же мне? Когда?
– Уумм. Ну-у.. Поставим на очередь.. Как всех граждан. Вы же не семья погибшего? Нет? Вот и.. Хрм..
– А сколько это?
– Уумм.. Нну.. Не обещаю.. скоро.
– Я же.. Я же имела жилплощадь! Пришла с фронта!
– Женщина.. Счас вс е пришли с фронта. Все требуют. Ждите! Время! Надо ждат ь.
374
И, поняв уже точно – ничего ему от меня не будет, бросает через мою голову:
– Следующий там..
Ушла. Был тихий, прохладный, с редким дождем день. Конец мая. Но уже пасмурно цвела сирень, и девичий запах ее, свежий и прохладный, вместе с крапающим дождем сносило на улицу из-за высокого серого забора. Там, за ним, городской сад – до войны (кажется, и в войну тоже) туда ходили знакомиться, на танцульки. Площадку-веранду в окружении давно саженных лиственниц и дубов, с зеленой решетчатой изгородью я считала последним кругом падения. Школьницы на танцы в сад не ходили, одна только отчаянная, на всю школу известная Карачинцева, девочка с порочной челкой, да Валя Вишнякова. Раз чуть не силой Валя затащила меня перед самой войной, и тоже в конце мая или начале июня. Помнится, все тогда было ярко-зелено, цвела и сирень, и рябина с ее душным, затхлым запахом. Вечерняя розово-мирная теплынь. Кусают комары. И мы с Валей, купив билеты, заходим в ворота парка, течет туда густой толпой особого вида молодежь, казавшаяся мне и старой, и тертой, и потасканной. Двадцатилетние, двадцатипятилетние и совсем уж, по моим тогдашним понятиям, старики за тридцать, за сорок. Мужчины с нахальными, бывалыми лицами, такие же девушки, женщины в коротких крепдешинах, с прическами «танго» и «фризюр». Оглядывалась, как затравленная, тянуло вон отсюда, скорее бы уйти из этого искусственного, похожего на театральную декорацию сада и словно бы вертепа, с фанерной сценой в глубине, где пели чересчур раскрашенные певички, от дорожек, посыпанных желто-розовым песком, от скамеек, на них по одному, по два сидели мужчины и парни, встречая и провожая нас оценивающими глазами, а вслед летели словечки-заигрывания, казавшиеся мне дурацкими, пошлее некуда: «Ого! Какие карамельки!», на которые Валя, все время шипевшая на меня, улыбалась, цвела, поигрывая крашеными глазками, а одному дядечке показала язык. Понимала: Валя здесь дома, но ей еще мало было этого сада, его дорожек, его
375
странной сути, странной жизни под электрическими, везде навешанными лампочками с эмалированными абажурами, вкруг которых толклась мошкара, бабочки и которые наполняли воздух искусственным фиолетово-желтым светом, и все лица в нем – наверное, и мое, и Валино – становились одинаково желто-фиолетовыми, порочно-доступными, – Валя тащила, именно тащила, к танцевальной площадке. Туда надо было брать отдельные билеты. Помню, мы поднялись по лесенке на возвышение за решетчатым забором. Веранда была со щелявым дощатым полом и с голубой раковиной оркестра. Музыканты уже шробовали там свои трубы, побухивая, прилаживался к ним барабан, и массовичка, женщина очень подержанного вида, с блестящим от крема старым лицом, припухлыми глазами и широкой скользящей походкой, объявляла танцы. Она же первая и начинала их, становясь в пару с каким-то пижоном, уверенными па профессионалки. Танцы начались. Валю пригласили, и, кивнув мне, она скрылась, как будто растворилась в танцующей толпе. Я же стояла на краю веранды, дикая, оробелая, не знающая, куда себя деть, что делать, – уйти, остаться, сесть на скамью у самой изгороди, где сидели нетесно, жиденьким рядом неприглашаемые и неприглашенные некрасивые девчонки и женщины, лет на десять старше, с холодными, безнадежно замкнутыми лицами, они глядели враждебно-насмешливо и – так показалось – с любопытством. Отойти не успела. Ко мне вразвалочку подходил низенький увалень, кепочка-восьмиклинка с матерчатой пуговкой, на бровях, ниже козырька, на нос густо-рыжая челка, карие, собачьего цвета, глаза, в приоскаленном рту золотая коронка. Даже не приглашал, просто потянул за руку. Вырвалась. «Не танцую!» – «Чи-во?! Чу-жая, да? Ссо своим, сто ли?» – по-блатному окрысился, пришепетывая, втыкая в меня давящий взгляд. «Со своим!» – зло ответила я, отступая. «Вот мы ему глаза вставим!» – пообещал. Народу на площадке прибывало. Стало уже тесно. Оркестр дудел беспрерывно. Я села на скамью. Валя как провалилась, а я не могла без нее уйти и угрюмо горбилась на скамейке, отказывая всем, кто приглашал. Парень в кепочке
376
неподалеку танцевал фокстрот. В такт противно качал рукой, как качают в пивнушках пиво. Блатной глаз, отыскивая меня, сверкал. Не могла уйти, терпела какую-то странную муку. Наконец массовичка объявила перерыв, из толпы вынырнула Валя с двумя мужчинами лет на десять старше, Мишей – так назвался первый, второй был здоровяк с широкими плечами, прямым носом гладиатора. Звали Вова. Этот Вова сказал, что он «электротехник». Мне стало смешно. Во-ва. Но пришлось пойти с ним танцевать. Водил он умело, танцевал хорошо, чувствовалось, из завсегдатаев на танцах. Блатной парень терся тут же, но этот дяденька-электрик был не из робких, потому что, когда рыжий начал нахально теснить нас, попросту пихнул его и так посмотрел, что парень вмиг куда-то исчез, больше не появлялся или, наверное, решил, что это «мой», которого я ждала. Танцы кончились. Валя с Мишей пошли еще куда-то «посидеть на лавочке», Володя-Вова было тоже позвал меня, но я отказалась, дошла с ним до ворот парка, а там попросту, ничего не объясняя, припустила от него, убежала, как шальная. Вспомнила
– и смешно. Вот такая была. В самом деле, наверное, дикая. Была? Да нет, такой и осталась.. Мать ждала, ругала: где так поздно?! А я мылась на кухне, смывала с лица, с рук весь этот сад, его музыку, веранду, женщину-профессионалку со скользящим шагом, Мишу, Вову, парня в восьмиклинке. Лишь до боли, с мылом оттерев лицо, шею, руки, вжимаясь в жестко-чистое полотенце, опять почувствовала себя собой, вся передергиваясь нервической дрожью и блаженно успокаиваясь под вопросительным взглядом матери. Папы дома уже не было – уехал на тот дальний пограничный сбор. Потом я все-таки рассказала, где была, и мать, удивительно, сразу простила меня, видимо, поняла то, как мне было нелегко, противно и грязно.








