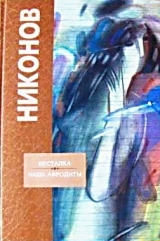
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
– Боем надо было отвлечь фрицев с фланга, – сетовал ротный. – Я же докладывал капитану. Уперся, как.. А его – учить... Не в духе, видать.. – Вольно или невольно он глянул на меня.
И опять мысль, что я, пусть косвенная, причина неудачи, а может, и гибели этих бойцов, полоснула меня.
Кричали во тьме перепела. Точил коростель. Трещал где-то ночной самолет У-2.
– Товарищ лейтенант, – обратилась я к ротному.
– Чего ты там? – небрежно отозвался он, занятый своей думой.
– Алексей Фролович.. Можно – я туда сползаю? Может, они раненые лежат. Может, близко.
– Никуда! – жестко оборвал он. – Чего выдумала? Спасать будет! Идите спать.. Спасительница..
В это время кто-то из бойцов охранения заметил ползущего. Он полз медленно, как передвигаются только раненые, теряющие силы, но полз.
Хотела перелезть ему навстречу – лейтенант дернул за ремень.
147
– Никуда!! —еще жестче осадил он.
Боец (это был один из разведчиков) дополз до траншеи, его втащили через бруствер. Был он весь в крови, громко дышал, стонал. Оказался раненным в ногу и в бок, но, по-моему, не опасно. Ногу он перевязал, а в боку рана была неглубокая, без проникновения в полости. Потерял кровь. Пока я его перевязывала, осматривала, утешала, он с трудом приходил в себя. Поили чаем. Уложили на шинелях. Он то впадал в забытье, то бормотал бредовое, несвязное.. Потом вдруг, будто опомнившись, сказал связно:
– Бокотько там, живой.. Раненый.. Лежит в воронке.. У самой.. У самой..
После этого он потерял сознание или уснул.
– У деревни он! – сказала я Глухову. – Надо его спасать.
Лейтенант поднялся.
Теперь я уже не просила. Теперь это была моя обя занность спасать раненого.
Глухов дал мне в сопровождающие двух солдат из пополнения: Котова и Непею. Оба они были какие-то ненадежные, как мне показалось, пошли за мной неохотно. Особенно этот Непея, маленький, почти с меня, солдатик с черными глазами хитруна и лодыря. Мы перелезли бруствер, довольно быстро перебрались через минное заграждение, о котором Глухов строго-настрого предупредил: держаться на ориентир – не завернуть влево, как обычно бывает у неопытных ползунов, потому что правая рука и нога работают сильнее и ползущий, как и пловец, без ориентира может сделать даже круг. В первый раз я ползла так, ночью, не знаю куда, отбрасывая словно какой-то внутренней силой колющую, ознобную мысль: вдруг сейчас попаду к немцам. Этого я боялась больше всего. Утешало только, что с собой у меня граната. Ее мне дал ротный неделю назад. Я просила у него пистолет. Но пистолета не было, и он дал гранату, когда я, чуть не плача, объяснила: «Боюсь, что ночью немцы устроят вылазку и я попадусь им! Из-за того не могу спать!» Теперь, засыпая, я клала гранату всегда с собой. Граната была в
148
сумке. И я даже с облегчением ощущала ее тяжесть. Ползли мы тихо, медленно. Солдаты впереди, я несколько отставая от них, но когда миновали полосу заграждений, как-то так получилось, что впереди оказалась я, а Котов и Непея уже сзади. До деревни должно было оставаться около километра, а раненый Бокотько где-то на полосе. Но где? Как его искать? Что, если мы заползем прямо к немцам? Теперь я ползла с еще большей осторожностью, замирала при каждом шорохе, прислушивалась. Где ты, Бокотько? Где? Ничего не было ни видно, ни слышно. Молчала степь, овраги, небо, темнота, немецкая передовая – все молчало ужасной всевидящей тишиной. Где – где? где – где? где – где? – казалось, повторяло мое сердце. Я едва дышала от напряжения. Я почему-то не думала, что немцы накроют нас огнем, я только думала, не свалюсь ли к ним в окоп. Так было не знаю сколько. Я ползла, и руки мои упирались то в нежную молодую траву, то во что-то жесткое, подобное жнивью, и то же самое чувствовали мои колени и локти, они уже болели, отказывались двигаться. Вдруг я вздрогнула и ткнулась щекой в траву, к земле. Надо мной, над нами, шелестя шипящим хвостом, возносилась и трепетала молниевидным светом зелено-белая ракета.
«Заметили!» – закрывая глаза и съеживаясь, подумала я и ждала: сейчас загрохочет.
Но ракета сгорела и погасла. Все было тихо. Не верилось, что нас не обнаружили. Я лежала, боясь пошевелиться, и вслушивалась, казалось, всей кожей, не только ушами. И я услышала, мне почудилось, что слышу не то стон, не то хрип. Что-то хрипело не очень далеко справа, то затихая, то усиливаясь. Или показалось? Все-таки полной тишины этой ночью не было. Где-то в стороне шел бой, погромыхивало, и, может быть, это отвлекало врага, его сторожевое охранение, видимо, для порядка пускало время от времени эти ракеты.
– Котов! Непея! – прошептала я. – Где вы? Но солдаты точно исчезли.
– Где вы?
149
Тишина.
И тогда я поползла в направлении предполагаемого звука. Скоро он стал яснее. Я услышала стон. Это был ясный живой, как бы кровоточащий звук. Это раненый. Чего-чего, а стонов-то я слышала всяких. Страх мой вдруг словно пропал, я поползла быстрее. И вот я нашла Бокотько! Это был он. Лежал в воронке, полузасыпанный землей. Был он без сознания, и, обшаривая его огромное тело, я с ужасом думала, как я его поверну, как вытащу наверх из ямы. Суетясь возле, я что-то шептала, повторяла, причитала, видимо, просто про себя. Повернуть раненого на спину мне удалось легко, да и в яме я чувствовала себя безопаснее. Но вот как вытащить его? Бокотько тихо стонал, и, может быть, то, что он был без сознания, помогло мне. Откуда взялись силы – я вытащила раненого из ямы. Плащ-палатка у меня была не простая, а с лямками из солдатских обмоток. Так я оборудовала ее по совету сестер на формировке, да еще подсказала Лобаева. В яме же валялся и автомат Бокотько, и пистолет ТТ, который он надевал на шею. Пистолет я надела на себя. Но как быть с автоматом? Бросить? Нельзя. Ни в коем случае! Автомат – драгоценность.. Автомат – его личное оружие. Подумав, надела на себя и автомат. Теперь.. Прислушалась. Хорошо, что бой вдали еще шел. Теперь тяну.. Но что такое? Палатка ни с места? Тяну изо всех сил. Слышу треск. Оторвалась одна лямка. Палатка ни с места. Господи? Что же это? Почему? Обшариваю раненого. Везде кровь. Липкая, черная. И сразу нахожу: оказывается, палатка зацепилась за какой-то толстый острый корень. Я на ощупь – дыра. Вот еще незадача. Отцепила, потянула на одной лямке. Есть! Сдвинулся. Еще! Есть. Еще!! Есть. Медленно, медленно, тяну, ползу, изгибаюсь всем телом, как будто гусеница. Откидываюсь, напрягаю все тело, спину, ноги, живот. Тяну, есть. Тяну – есть.. Сколько же хватит моих сил? Тяну – есть.. Тяну, есть.. Проклятый автомат все время сползает, мешает, прихватываю его ремень зубами. Тяну, тяну... Не знаю, сколько тяну. Светает. Сереет небо.. И понимаю я – не дотащить. Нет сил. Лежу сама, как пришибленная. Во всем теле боль. В
150
животе будто все порвано. Где же Котов и Непея? Где они, сволочи, трусы, гады! Мелькает дурная мысль, может, оставить Бокотько, ползти за подмогой? Да и не стонет он уже, а только едва хрипит. Оставь! Брось! Все равно умрет. Что толку тащить? Сейчас рассветает, и тебе будет пуля. Снайпер.. Отбрасываю дурную мысль. Вроде отдохнула. Надо скорей, пока не стало светло. Скорей. И тяну, тяну, тяну-у.. Слава богу, над землей легкий туман, сумрак еще. Может быть, дотащу хоть до заграждений..
Тело Бокотько как колода. Плащ-палатка вытаскивается из-под него. Зацепляю как-то. Слушаю. Дышит. Жив. Мысль: хоть бы живого.. А восток все светлее. Не успею. Не успеть.. Господи. Пот заливает глаза, колени и локти, наверное, сплошная ссадина – так болят. Ну-у, еще.. Еще!! Еще!!!
Еще метр! Еще.. Метр.. Вдруг слышу:
– Сестра! Ты?? Здесь мы.
Дотащить Бокотько до траншеи мне уже помогли. Солдаты прятали глаза, говорили – потеряли меня.. Сами искали Бокотько. Поняла – прятались. Отлеживались в темноте. Позднее узнала, оба были из «досроч-ников», не то воры, не то хулиганье. Из таких, говорили, была где-то на фланге целая бригада. Правда, про тех был слух, воюют хорошо.
В траншею мы вернулись вовремя. Немцы, видимо, нас заметили, начался обстрел. Мы были уже в безопасности.
Это был мой первый спасенный раненый. Первый, которого я вытащила. Ранен оказался тяжело: в ноги, в грудь, в живот. Минными осколками. И когда я отправила его дальше, в санроту, думала, Бокотько не доживет. В сознание он не приходил. Эта мысль гасила радость, отравляла мое гордое чувство, что я все-таки почти одна сползала туда, нашла и вытащила этого великана старшину, даже не забыла его автомат и пистолет
– за это меня особо благодарил командир роты. Теперь с трудом верилось: вот я здесь, у своих, целая, невредимая, если не считать синяков и ссадин, сплошной коросты на коленях и локтях, на пальцах рук. Все это нестерпимо
151
болело, болело в животе и в груди, но все-таки болело через радость. Может быть, я его спасла. Испытала себя..
– К медали представлю, Одинцова. «За отвагу», – пообещал ротный.
– С оружием вынесла..
Когда свалилась в траншею, обнимали, целовали, хвалили, тянулись ко мне. Будто совершила невесть какой подвиг. А я плакала от радости, от счастья, от тепла этих не очень знакомых мне даже мужчин, солдат.
XV
Комбат теперь явно избегал меня. Точнее, избегали встречаться мы оба. Едва я видела его где-то вдалеке, слышала голос – старалась убраться подальше, заслониться чьими-то спинами. Даже пряталась, приседала где-нибудь, как маленькая девочка, чтоб не увидел. Когда спрятаться не удавалось, держалась поближе к ротному, старалась быть подчеркнуто официальной. Помню, как Глухов доложил при мне батальонному, что я вынесла Бокотько, помню, как Полещук лишь косо глянул в мою сторону. Опять заходил своими морщинами-засечинами.
Вечером, однако, прислал за мной ординарца. Шла к батальонному как на казнь.
Когда зашла в какую-то саманную хату – здесь был теперь командный пункт батальона, – капитан сидел за столом у единственного полуразбитого окошка. На столе стояли два открытых котелка с рисовой кашей, в снятых крышках, – судя по виду и запаху, жареное мясо.
Доложила опять по форме – старалась делать вид: между нами ничего не произошло...
– Садитесь! – Показалось мне, строго кивнул, подбородком указал на табуретку, опять как бы приглядываясь ко мне своими волчьими глазами.
Села.
Несколько времени рассматривал меня, будто видел по-новому и
152
прощая, показалось даже, прятая далекое смущение. Потом спросил:
– Есть хотите?
– Никак нет, – ответила я. – Уже поужинала. – Хотела встать.
– Сидите! – приказал он.
Сегодня капитан говорил со мной на «вы», и это несколько ободрило меня. А может, после всего пережитого я сделалась просто храбрее.. Не знаю..
Капитан подвинул котелок, подал ложку.
– Ну, не ломайтесь, нехорошо! – увещевающе сказал он, как-то словно бы по-иному, не так хищно, как раньше. И первый принялся за еду.
Я не хотела есть, но все-таки зачем-то стала. Тянула ложку. Глядела в эту кашу. Мне было дурно. А каша была белая, вкусная, разваристая, с американским лярдом. Ела и молчала.
– Эх, хороша кашка! – буркнул капитан. – Мала чашка.. А ты не из разговорчивых, Одинцова. Сердишься, что ли? Стесняешься? Что? – опять перешел он на «ты», полез куда-то под стол, достал трофейную фляжку, об-шитую немецким сукном. Тряхнул. Во фляжке булькнуло.
– Спирт пила?
– Да что вы? Товарищ капитан! Какой спирт? Я и вино-то не..
– Рассказывай, Одинцова! Так я и поверил! Фронтовая сестра. Ну, не строй.. Не ломайся, Глафира.. Фу, Лида.. Что это я. Хочу выпить за твой подвиг. Молодец. Такого бугая вытянула.
– Товарищ капитан! Я не могу. Никогда не пила спирт. Я боюсь.. Комбат посмотрел. В глазах его, беспощадных и цепких, уловила
иронию. Поняла – не отстанет.
– Тогда.. учись. – Открутил крышку фляги, нюхнул, сморщился, достал с окна две жестянки-манерки, зеленой кружкой из-под стола черпнул воды. Как-то особенно дохнул, влил спирт в рот и тотчас же четко запил из кружки.
– Х-хах, – отхакнулся он и подмигнул. – Ух, харра-шо-о.. Ну?
153
Видела? Выдохни и – давай! Вся дела! Теперь давай вместе. За тебя!
– Товарищ капитан! Увольте меня. Не пила и не буду. Я не ломаюсь. Не могу.. Не могу пить спирт.
Глаза капитана знакомо сузились.
– Да ты что?! Как ты смеешь отказываться? «Не могу».. «Не хочу»! Фронтовая сестра? Стыдно! Стыдно, Одинцова.. Ну, будешь?
– Нет! – сказала я.
Он плеснул спирту. Выпил так же ловко. Глотнул из кружки. Отдуваясь, глядел на меня, как бы прикидывая, какое наказание мне дать.
– Ну, ты, цве-то-чек! – протянул он. – Вот не ожидал! Жених, что ли, есть? А? Или с Глуховым? Со стариком? А? Сестра Одинцова.. Глаша.. Глафира? Фу, что это я.. Лида?
– Разрешите идти! – встала я, понимая, что уйти нельзя.
– Не раз-ре-шаю! – рявкнул он, пригибаясь, и так хватил кулаком по столу, что подпрыгнули кружки-котелки.
– А я уйду.
– Что-о-о? Уйдешь?
Я повернулась. И тут он опять схватил меня.
Жесткие, ужасно жесткие руки ломали меня, тискали, тащили к себе и вниз, к какой-то кровати. Я отбивалась как могла, пыталась вырваться, но он крепко держал меня в обхват за талию, за живот, и я только дергалась, как рыба, и молчала, чувствовала: не справлюсь, ослабею, еще немного, и он повалит меня.
– Дура! Тише ты! Сбесилась! – шептал он, дышал спиртом, тискал меня, пытаясь оттащить к кровати. – Перестань, дура! К звезде представлю.. Ну? Ы-ых.. Ты..
Дверь хаты распахнулась. Влетел ординарец.
– Товарищ капитан?! Ох.. Разре.. шите.. Налет! Воздух!
Капитан отпустил меня. Снаружи слышался нарастающий гул. Ординарец бросился вон. Я кинулась за ним. Скатилась в траншею.
154
Вверху уже выло, свистело опрокидывающим, давящим душу воем. Дергалась, сотрясалась земля..
Нашу дивизию отвели во второй эшелон. Прошел слух – приедет генерал вручать награды.
Полк, выстроенный в поле, напоминал батальон, батальон – роту. Вручал награды начальник штаба дивизии полковник – фамилию не помню. Я знала, что меня представили к медали «За отвагу». Я даже словно видела, как надену эту медаль, буду носить ее, не снимая. «За отвагу»!
Полковник, надев очки, читал список награжденных. Названные выходили из строя. Получали коробочки с орденами или медалями. Я все ждала. Думала: вот-вот.. Смотрела, как в строй возвращаются счастливые, сияющие. Но вот список зачитан до конца. Полковник снимает очки. Еще раз поздравляет с наградами. Звучит как положено: «Служим Советскому Союзу». Служим. Меня в списке нет. А я все еще жду чего-то. Команда «Вольно!». Полковник идет к штабной «эмке». Команда «Разойдись!». А я все еще чего-то глупо, совсем уже по-детски жду.
Почему я так ждала эту награду? Не заслужила? Может быть.. Не спасла? Или Бокотько умер?
Роты расходились. А я все стояла на месте, склонив голову, разглядывала избитые кирзовые сапоги. На меня оглядывались, подшучивали.
– Сестренка! Чего потеряла?
– Давай найдем вместе!
Скорым шагом подошел лейтенант Глухов. Был взволнован не меньше меня, лицо красное:
– Что это такое, Одинцова? Я же... Я все подробно описал, представил тебя. Отдельно доложил комбату. Как так? Не понимаю.. – смотрел на меня растерянно, будто спрашивал и извинялся. Впервые видела флегматичного лейтенанта таким растерянным.
155
– Значит, не достойна.. – подавляя рыдание, кое-как пробормотала я
пошла прочь. Что-то будто душило меня, давило горло, солью ощущалось в глазах. Горе – нет! Несвершившаяся мечта? И тоже, пожалуй, нет. Ну не дали – и что ж? Этой «За отвагу» не кидаются. Но у меня до сих пор будто что-то порвано в животе, болит, не дает дыхнуть.. И вот так – оказывается, я ничего не сделала.
– Слушай, Одинцова.. Лида! – догнал ротный. – Не вешай нос! Поняла? Это несправедливость.. И я все выясню.. Ты – потерпи.. Не узнаю у комбата, пойду выше, в полк. Слышишь? Успокойся.. Не вешай нос, говорю.
Вечером, совсем растерянный, сбитый с толку, мрачный до сизой крови, он опять нашел меня. Сказал, что выяснил, почему не наградили. Комбат разъяснил: будто бы есть приказ или указание не награждать орденами и медалями медработников, санинструкторов, тыловиков, представление будто бы отменили вверху. Полещук ни при чем. «Не верю я,
– сводя брови, закончил ротный. – Не верю. Не может быть такого указа. Терпи! Добьемся правды. Понимаешь? Добьемся..»
Все я понимала. Все.. А точнее, ничего не понимала, не могла взять в толк, что люди и здесь остаются людьми. И что здесь тоже есть нелюди.. И еще убедилась – беда не ходит одна. Утром прибыла почта. И я получила, наконец-то получила письмо из дому! Оно было написано не материнской рукой и даже без обратного адреса. Все это удивило меня, предчувствие заставило вздрогнуть.
Руки мои тряслись, колени подгибались. Письмо обжигало пальцы. Что там? Что? Я боялась открыть, держала треугольник в руке. Только собравшись с духом, наконец развернула – треугольник из школьной мусоленой бумаги в линейку. Писала квартирантка. Эвакуированная беженка. Ровненький малограмотный почерк. Страшные слова. «Уважаемая Лида, извещаю о скорбном случае. Ваша мать..» Дальше строчки запрыгали, земля заходила, зашевелилась подо мной. Я бросила письмо, будто держала пальцами извивающуюся змею, и вот она изловчилась... и сейчас я побегу,
156
побегу, не знаю куда, знаю только, что побегу.. Куда мне бежать? КУДА БЕЖАТЬ? МНЕ от себ я... от этого обрушившегося горя.. Я хорошо помню, что бросилась куда-то без оглядки, как бегала в раннем дет-стве от внезапной тучи, от грозы.. Я швырнула это письмо. Но, отбежав несколько, опомнилась, вернулась и как бы в забытьи подобрала.
Беженка сообщала, что мать скончалась в больнице, была подобрана на улице во время очередного припадка. Мать не узнала, что я жива. Получила на меня похоронную. А писем отсюда не было четыре месяца. Потом пришли кучей, но матери уже не застали. Квартирантка писала, что вещи, какие были, взяла материна двоюродная сестра, а комната осталась пока за ней, так как «плотить некому».
Так осталась я без отца, без матери и даже без своего угла. Война взяла у меня все.
Помню, как шла куда-то прочь, прочь, дальше от поселка, где расположилась часть, шла, пока двигались ноги, и остановилась перед каким-то бугром, заросшим по гребню и склону сорняком и высоким бурьяном. Я села тут опустошенно, обессиленно, сидела, сбросив пилотку, вытирая рукавом мокрое, в испарине лицо. Горькая, щемящая где-то в глазах и в груди тяжесть заполняла все мое тело, отдавалась в руках, в согнутых коленях. Звенело, давило в ушах, пересохло во рту. День стоял знойный, по-июньски безучастный и белый. В бурьяне роились, кружились бабочки. По цветам, синим, желтым, голубеньким и малиновым, ползали пчелы и шмели. И если б не грохот, временами долетающий с линии горизонта, – все было бы, казалось, мирно, спокойно. Природа не знает горя.
Коричневая, вымазанная в чем-то пушистом, оранжевом, пчела лезла в голубую юбочку цветка, довольно жужжа, выбиралась, нагруженная нектаром, повисала перед другим цветком, погружаясь в него еще и еще, и вот, видимо решив, что хватит, довольно летела куда-то в небо, в его голубую суть, – исчезала. Как просто все было в этом мире. Как просто и понятно. И как сложно, до жути неясно, нелепо было в мире моем, в том
157
ужасном измерении, в которое я попала, не ведая, что оно может быть без подготовки, без предупреждения... Впрочем, сердце или шестое чувство без конца говорили мне о какой-то тревоге, подсказывали давно, что с матерью что-то случилось. Но что, что? Я была отрезана, отброшена от нее войной. Я видела мать во сне. Видела и говорила с ней. Вот, недавно. Мать была веселая, довоенная, молодая.. Помню, ждали к обеду отца. Я перетирала тарелки, накрывала на стол, а она стояла в легком летнем платье у двери, полная, красивая в этой своей полноте, и улыбалась мне своими губами богини. Вдруг тарелка прыгнула в моих руках, выскользнула и разбилась. Это была ее любимая тарелка, с гирляндой цветочков под золоченым краем. Я глядела на белые черепки, подняла глаза к двери. Но матери не было. Дверь сияла пустой небесной синевой..
Вот сейчас вспомнила этот сон и поняла – мать теперь так и останется в моей памяти. А встречаться мы будем во сне..
Почему у меня не было слез? Не знаю. Лучше бы отплакаться, отрыдаться. Но слез не было. И душу давило, гнуло меня, будто кто-то накладывал на меня камни.
Я сначала сидела, а потом прилегла на этом бугре. Солнце жгло меня. Жундели, пищали осы и пчелы. Какая-то бабочка все вилась надо мной и даже садилась на плечо и на голову. «Вдруг это материна душа?» – подумала я, когда бабочка улетела.
А еще я думала: что же теперь? Как быть? И додумалась только до одного – теперь мне все равно, никому, никому я не нужна, никто не ждет меня, и большего горя, чем у меня, уже не может быть. Теперь я – сирота. Даже круглая сирот а. Вот как.. Круглая. И потому – делать нечего.. Буду воевать, буду перевязывать.. Может быть, меня убьют. Не страшно, теперь не страшно. Не пугает. Ранит? Только бы не в лицо и не в ноги. А если в грудь, в живот – все равно не выживу. А потом, потом.. У меня есть граната.. Есть гранат а... Граната.. А что? А что, если.. – мысль заставила меня сесть, словно спросонок, я озиралась, словно бы ободренная и
158
озадаченная: «У меня же есть гранат а!» Она лежит в моей сумке, а сумка висит в избе, где я ночевала. Зачем же я оставила гранату там, у неизвестных людей?
схватила пилотку, вскочила и побежала с бугра. Бежала и думала – вдруг в сумку залез кто-то из мальчишек (в семье двое подростков лет пятнадцати и тринадцати, которым я, видимо, понравилась, и они неотступно глазели на меня еще вчера, старались подсмотреть, как я разденусь, и вообще все время надоедно приглядывали за мной).
бежала, и этот бег как-то сорвал, забил вглубь мое горе, освежил душу. Но когда, запыхавшись, как загнанная, влетела во двор, кинулась в комнатушку, где спала и где висела моя сумка, была близка к обмороку.
Сумка на месте. Вот она, под шинелью. Граната в ней. Граната.. Я вытащила холодный рубчатый тяжелый кругляш, в насечке которого было что-то шоколадное, плиточное. Граната оттягивала ладонь. О чем думала я тогда, стоя, держа ее на весу.. Забылось. Но помню – мне было почти приятно держать этот словно бы успокаивающий душу холод. Страшно даже писать об этом. А было так. Ведь держа ее, я знала – все теперь в моих руках, вот в этой рубчатой ловкой тяжести, и стоит мне только захотеть, вдвинуть палец в кольцо – и она снимет с меня все, уберет мое горе и даже эту нескончаемую, какую-то не укладывающуюся по протяженности беду и войну. Помню, палец сам вдвинулся в кольцо.. Я только размышляла с недобрым спокойствием, куда бы мне уйти. Может, за те бугры? Туда?
– Тетенька! А вы – не боитесь? – раздалось у меня за спиной.
обернулась. Младший подросток, стриженый и ушастый, смотрел на меня со страхом и любопытством в озорных мартовских глазах.
Первый раз меня назвали «тетенькой». Первый раз! Господи..
– Не боюсь.. – сказала я.
– Можно, я ее посмотрю?
– Можно, – ответила я. – Только без вот этой штуки. – Я вынула, выкрутила запал.
159
Теперь граната безопасна. Положила ее на стол. Он осторожно подошел к столу. Боязливо потрогал. Даже немного покатал ее по столу.
– Все равно страшно.. – сказал он, взглядывая на меня.
– Все равно, – подтвердила я и погладила его по ежиковой, ступенями стриженной ножницами макушке.
– А вам она зачем? От немцев отбиваться? Да?
– ...От немцев.
– Я так и подумал. Вы – храбрая..
– Правда?
Он молча помотал головой, подтверждая.
– Откуда же ты узнал?
Он не ответил, краснел. Не смотрел на меня.
– А еще вы.. красивая, – сказал он быстро и так же быстро, краснея, вышел из комнаты.
– Красивая.. – повторила я. – Красивая... – И тут вдруг губы мои дернулись, покривились, я брякнулась на железную жалкую койку у стола и плакала, вжимая голову в тощую подушку, повторяя: – Красивая.. Краси-вая.. Кра-си-ва-я-а-а..
Может быть, этот мальчишка невольно и спас меня.
XVI
Такого жаркого лета я не знала. В этой степистой местности с чахлыми перелесками и оврагами солнце пекло уже утром, едва поднявшись. Оно казалось мне огромным и донельзя равнодушным, почему-то на фронте часто приходила мысль об этом равнодушии солнца, луны, звезд ко всему, что творилось здесь, на земле. Зато землю я полюбила как единственную спасительницу, она была воистину мать, в ней укрывались, к ней прижимались, в ней находили вечный покой те, кого она не уберегла. Даже
160
от зноя прятались в землю. Когда стоит этот пеклый, загнетный зной, душит запах горючего дыма, сгорелых хлебов, селений, просто облитой нефтью сожженной земли, очень хочется пить, донимает жажда. Здесь же, на этой Орловщине, будто вымерли все реки, ручьи, родники, есть только редкие колодцы, но и они ненадежны, в иных вода тухлая, отдающая солью, в других вообще опасно пить. Колодцы мы копали сами, в иных местах, в оврагах, за полдня добирались до воды – этим спасались. Жди, когда тыловики подвезут бочку, тем более термосы. Воды все время не хватало, а особенно мне, ведь я должна была поить раненых, мыть руки, да мало ли где еще нужна была вода. Не расставалась с фляжкой, подарком Стрельцова. Где он? Не знала ничего. Проклинала себя за то глупое расставание. Оправдывалась только тем – сама не знала, где буду.
На передовой все время ждали немецкого наступления. Готовились уже не один месяц. И все перекатывался по переднему краю слух: «Сегодня начнут! Ночью!» Может быть, эти слухи проникали от самих немцев. Они были мастера играть на нервах, нападать на рассвете, когда долил и клонил головы всепобеждающий фронтовой сон.
Видимо, немцы все-таки здорово готовились, копили силы. Ходил слух, у них появились какие-то новые непробиваемые танки, самолеты-двухфюзеляжники, еще какая-то необыкновенная техника. И по тому, как на оставленных нами позициях ползали саперы и минеры, по тому, как готовились запасные линии обороны, по тому, как мы копали и копали, было ясно – с обеих сторон готовится что-то необыкновенное.
Раненых было мало, только случайные во время бомбежки и редкого обстрела, зато много больных: дизентерия, несколько с брюшным тифом. Рассказывали также, что немцы сбрасывают бомбы с какими-то заразными букашками, со вшами, – отделить правду от вымысла было трудно. Да и вообще что такое фронтовая правда? Убедилась, иногда в ней и капли истины нет, иногда же подлинно верно такое, чего не выдумает самый помутившийся рассудок. Ходили слухи – убит такой-то, а через день его
161
видела живым, невредимым; живой, невредимый через секунды мог лежать где-нибудь в тени, и перед ним стаскивали пилотки.
Что-то творилось, накапливалось в эти каленые дни, накапливалось даже внутри нас, как копится где-то грозовое напряжение, донимает духотой, стесненным дыханием и сердцем, и хочется грозы, дождя, с громом, с молниями, с освежающим землю и душу шумом. А здесь, на Орловщине, мы мечтали о дожде и ненастье, будто от него пришло бы снимающее тяготу с души освежение. Дождя безнадежно не было, и громы возникали рукотворные, грозили сыпануть осколочным и пулевым дождем.
Комбат организовал постоянную учебу противотанковых групп. Нас снабдили большими танковыми гранатами, учили их связывать, были и несерьезного вида бутылки с горючей смесью, опасные и ненадежные хотя бы потому, что для них рыли специальные погреба, хранили как снаряды. В роте появились дополнительные расчеты бронебойщиков с длинными нелепыми ружьями, похожими на отрезки водопроводных труб. Танков у нас не было, зато солдаты из пополнения, из запасных полков, говорили, что позади нашей обороны стоит целая танковая армия. Ночами мы слушали гул моторов. Рокотали танки и с немецкой стороны.
Однажды, когда я, отправив нескольких раненых и больных дизентерией в санроту, возвращалась на передовую (ехала в пароконном тарантасе с ездовым и санитаром), у деревни со смешным названием Самоду-ровка увидела дивизион зенитных пушек. Солдаты окапывали их, готовили позицию. Пушки были какие-то совсем непохожие на знакомые мне маленькие и сложные тридцатисемимиллиметровки. У этих пушек были устрашающе длинные дула, длинные утолщения пламегасителей, дульных тормозов; глядели они вызывающе грозно, некоторые стояли, прикрытые большими броневыми щитами.
– Восьмидесятипятимиллиметровки, – покуривая махру, сказал ездовой. – Под Москвой у нас в обороне такие стояли сплошь.. Серьезные пушечки..
162
Солдаты у крайнего орудия перестали копать, бросили ломы и лопаты, глядели в нашу сторону. Кто-то даже в бинокль.
– Сестренка-а! К на -ам! – долетело. – Сюда! Эй, вы, вдвоем на одну! Растянете!
Я уж привыкла к таком юмору. Но тут вдруг от группы артиллеристов отделился один, тот, что смотрел в бинокль, и побежал к подводе.
– Ли-да-а! Одинцо-ва-а! – услышала я крик и вздрогнула, вглядываясь, толкнула ездового.
– Чо ты, девка? – недоуменно потянул он вожжи. Но я уже спрыгнула с подводы. Я поняла, кто бежит сюда. Это был он, мо й лейтенант Стрельцов. Алеша.. Как тайно звала я его про себя еще и тогда, на батарее.
– Вот ты где?! Жива? Цела?? – запыхавшись, кричал он, подбегая, хватая меня за плечи, оглядывая с такой жадностью, что я потупилась, не могла смотреть. – Живая.. Здоровая.. Лида.. Лидка?
– Жива..
– А я тебя.. искал, искал.. Уехала тогда.. и ни адреса.. ни следа... Вот.. дураки.. И я – тоже.. Хорош... Ну, как ты? – улыбался, не отрывая глаз.
– Воюю.. Раненых отвозила..
– Где ты?
– А вот, по соседству. Километра два отсюда... Может, три... – махнула туда.
Отвечала, а сама пылала, боялась на него смотреть, боялась поверить. Ведь не надеялась встретить. Где там! Где встретишься на войне, безотлучно при батальоне в этой каше постоянно меняющихся, новых незнакомых людей, когда части тасовали, как карты, чья-то властная воля то снимала нас
подготовленной, обустроенной позиции, то отводила во вторую линию, то передавала другому соединению. Говорили, что Сталин и командующих фронтами меняет чуть не каждый месяц. Да мы и не знали этих командующих. Много лет спустя уже я узнала, что нами тогда командовал Рокоссовский.
163
– Ой, как хорошо, что мы встретились! Что я тебя нашел! – говорил Стрельцов. – Теперь уж не потеряю.. Шалишь, не уйдешь, Одинцова. Тогда убежала от меня, как лиса.
Я молчала, и, смущенный этим, он как-то притих, разглядывая меня, спросил виновато:
– Ты за это время, случаем, замуж не вышла? Не определилась... в
пэпэже3?
И я поняла: если бы вдруг сказала «да», причинила бы ему очень сильную боль.
– Не вышла, – по детски как-то ответила я. И ответной радостной дрожью дрогнула все еще державшая меня рука.
– Слушай, скажи... Как тебя найти? Где? Я бы вечером прибежал.. Можно? – он ждал ответа с такой робкой надеждой, что у меня забилось, затрепыхалось, затроило от радости сердце. Неужели счастье улыбнется хоть сколько-нибудь? Нашелся мо й Стрельцов. Ведь это же – чудо. Вот оно – чудо. Ждала, мечтала, ни на что не надеялась. Плакала про себя.. А вот он – стоит передо мной и ждет моего слова.








