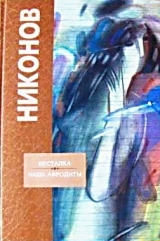
Текст книги "Весталка"
Автор книги: Николай Никонов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
– Для украшенья Земли он должен жить! Не грызть ее без ума, как мышь краюшку, не распложаться, а улаживать-обихаживать, как дом или поле, свой огород... Раньше-то люди праздник великий имели: Духов день. Земля-именинница. Когда птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет. Баской праздник. Тихой. И всегда, знаешь, на его хорошая погода стоит. Не жарко, бывает, и дождичком покропит. Восплачется Земля тихонько, и она, матушка, праздник понимает. Нельзя его забывать. Великий грех людям.
Понемногу я стала записывать ее слова, как записывала изредка и раньше какие-то мысли, случаи из своей жизни. Не знаю, зачем это делала вначале, почти неосознанно, что ли, по въевшейся привычке читать с записью. Житие грешницы? Первоначально и воспринимала все как отдых и развлечение, потом игра эта становилась все более нужной и словно завоевывала душу. Иногда, глубоко в себе, я уже думала: не для того ли именно и живу, не готовилась ли к тому всей моей жизнью, судьбой, сделавшей меня участницей и свидетельницей столь многого? Я писала для себя, так, как помнила, потому что память уже крыло мглой времени, гасли, терялись детали, крошились подробности, то, что казалось каменно-крепким, обращалось словно в изъеденный сырью кирпич. И ночами словно слышала шепот времени: «Скорей! Скорей!» И я думала, начинает разваливаться, крошиться сама душа. «Глупый живет прошлым, скудоумный – будущим, умный – настоящим». Хорошо помнила эту пропись, но что делать, если прошлое как раз самое богатое и горечью и счастьем, будущее, коль глядеть в него без иллюзий (это, наверное, трудно или даже невозможно), приблизительно ясно, а настоящее (уж есть ли оно вообще?) теперь, после гибели сына, как будто не сулит никаких радостей. Ну, живу, работаю, хожу по квартирам инвалидов, выполняю назначения. Прихожу к выводу, что
572
радости жизни можно еще искать и находить в собственной душе. Если то, что я записываю, несет мне радость нового узнавания, нового понимания и новой встречи, почему я должна отказываться от этого? В чем-то к работе с листом бумаги меня подталкивала и дочь.
– Мама! Ты так много видела, рассказываешь.. Знаешь. Почему ты мало пишешь?
– Какой я писатель? – отвечала. – Женщин-писательниц, наверное, не бывает. Поэтессы, критики – не в счет. А в прозе? Или они ремесленницы.. Или, быть может, журналистки, научные работницы.. Или – они не женщины в нормальном понимании..
– Как ты строго! – смеялась Оня.
– А зачем же обманываться?
– И все-таки ты не права, мама! Разве не стоит написать хотя бы мне, для меня.
– Для тебя? Тебе я и так все рассказываю.
– А пишешь ты лучше! Прости, я один раз читала твои листы. Оставила их на столе. Я думала, мне..
Но слова дочери запали в душу. Что ж.. Писательницей, конечно, не стану. Философом – тоже, хотя богиня философии женщина, а значит, должна быть женская мудрость. Но написать правду о своей жизни, войне, людях, с кем сталкивала судьба, событиях, стремительно уходящих за пределы памяти, за ее горизонт, я могу. Пусть будет для той же Они.. Мысль потихоньку жгла меня. Ведь уйду я, и уйдет страница во многом, быть может, полезная ей. И стала писать регулярно, находя в записанном откровении перед кем-то словно бы наивно-горькое, сладко-облегчающее и близкое к стыду удовлетворение. Облегчалась, разгружалась душа. А я думала: пусть несовершенно, пусть как получится, но только правду, не кривя душой перед белым листом. Одну правду, истину, потому что я убеждена: нельзя лгать бумаге – это то же самое, что лгать людям и себе.
573
А здесь я записала для завершения свою первую и единственную, может быть, поездку в Москву, где мне должны были вручить совсем уж нежданно-негаданно медаль имени Флоренс Найтингейл. Высшую награду, которой удостаивает медицинских сестер Международный Красный Крест. Я и до сих пор не знаю, заслужила ли ее.
574
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Ехала в Москву. Поездом. Казалось, через всю Россию. Глядя в окно, я понимала – это всего лишь часть огромной, немыслимо широкой, протяженной и прекрасной Земли, узкую полосу которой она дарила мне каждое мгновенье, и я благодарно смотрела, любовалась ею. Ехала, вспоминала тот свой первый путь к Москве, сорок лет назад. Девочки в новых грубых шинелях, казавшихся нам какими-то очень надежными.. Тогда была осень, октябрь, и сейчас был октябрь, лишь теплый, застоявшийся. Еще даже не сквозили чащи, и редко видно, где-нибудь в косогоре, на отшибе, растерявшее лист, ветрами раздетое дерево. Березы стайно хранили красоту, и поля зеленели пригожей кроткой озимью. Земля цвела последним цветеньем перед холодом, снегом и словно бы перед расставанием.
Целый день я смотрела в окно, пила чай, пыталась читать – сдуру, не иначе, взяла в дорогу книгу Мопассана – роман «Милый друг». Но чтение как-то совсем не оставляло во мне ничего, и я не схватывала даже давно знакомый сюжет, мысли бежали поверх книги, и если я думала о строчках романа, то лишь о том, как далек теперь, наверное, Мопассан и его герои от мира, в котором я живу, и зачем потащила в Москву эту книгу, разве что инстинктивно желая отвлечься от того, что как раз и не давало мне читать.. Прошлое. Что выхватывает из него куски, картины, как из странного запасника, ставит их перед тобой, не дает забыть? Битый, гулкий товарный вагон-«телятник». Я и Платонова сидим в черном дверном проеме, свесив ноги, держась за стенки. Щека Платоновой нежно-розово-чистая и глаз по де-вичьи, если не по-детски, непорочно глядящий в мир, в будущее, которого у нее оставалось на одни сутки. Желто и красно полыхающие вагоны. Нарастающий стон пикировщика.. Землянка, где от взрывов пластами валится со стен глина, сквозь накат сыплет песок и землю, а рядом кричит умирающий. Днепр, ало залитый кровью, в сполохах блескучих огней, голубых и зеленых трасс. И особый шум снарядов, похожий на чей-то
575
жуткий вздох, когда взметается из глубины вода, дергает плот, на котором не то плыву, не то уж тону.. Масленые снаряды, тяжелые, скользкие, которые я хватаю из укладки. Танк со сползшей башней. Нефтяной, толчками, дым-костер над его замершим безголовым корпусом. Дым. Запах горелой нефти и земли. Им была с кровью пропитана вся война..
Мартовский серый снег у крыльца, где стою с сыном на руках. Щелчок пистолета, четно ненужный, оставивший меня жить и страдать. Впрочем, взойди на ступень над собой! Ну, взойди, взберись, подтянись! Ну-ну! Неужели прав ОН – КТО-ТО, как бы ведущи й мою жизнь? Все это вздор, никто не ведет, все лишь так складывается. А жизнь, наверное, стоит прожить даже так, как жила я, хоть нечему, наверное, тут завидовать, а повторять не захочет никто. Нет родителей. Нет любимого, не было настоящего мужа, нет сына. Есть только приемная дочь, до странности похожая. Подарок судьбы. Может быть, это закон конвергенции, когда совсем неродственные становятся со временем в совместной жизни похожими? Ведь даже растения далеких видов в сходных условиях уподобляются друг другу.. Начинаю копаться в моих накопленных познаниях. Знания – не мудрость. Но почему так упорно, всю жизнь стреми-лась к ним? Хотя бы эти книги? Люблю книги. Теперь у меня и дочери целая стена занята ими. Но, думая о книгах, я часто вспоминаю и свой подвал, которого давно уж нет, как нет и школы, где я мыла полы, жила. На ее месте бетонная коробка новых этажей университета... Воспоминания непредсказуемы, как сны. Зачем я вижу, например, сейчас лицо Лобаевой, не той Лобаевой, с которой рассталась, а той, которую видела на садовой скамейке, жутко раскрашенную, распухшую, синебровую? Стакан блестит у нее в руке, граненый краденый стакан из кафетерия, и синяя бровь вздрагивает в такт впитывающим черную отраву глоткам. Господи, сколько воспоминаний, только тронь.. Сын мой, мальчик, гладящий больную собаку. И его фото в газете, где он не похож на себя, а только на долг, который исполнил. Коля-пианист, молодой фрондер-гуляка, и солидный мужчина со
576
стародворянским лицом в какой-то словно бы бекеше. Судьба меняет людей или они меняют судьбу?
Еду в Москву в роскошном вагоне немецкого производства.. Пластик под дерево, все разникелировано, каждый винт закручен с педантичной аккуратностью. Прорези винтов строго вертикальны. Вагон называется СВ. Что такое СВ, я не знаю, только предполагаю – спецвагон, спальный вагон. Таких во всем составе – один. Вагон для генералов, для министров? Никогда в таких не ездила. Купе без привычных верхних полок. Хрустит гладкое постельное белье. Новые крахмальные занавесочки. Фирменная пепельница. Предупредительная проводница. СВ! Со мной едет старушка, мать большого дорожного начальника, однако очень простая, без меры словоохотливая. Все рассказывает про свое деревенское хозяйство где-то под Курском, про то, как надо выращивать гусят, про то, что гуси едят колорадских жуков, а жуков нынче было полно: «Окучиваешь картошку, а они прямо шумят в засохлых стеблях». Колорадский жук.. Какой он? Что-то припоминаю желтое или оранжевое, полосатое. Откуда взялся? Что еще за напасть? Почему что ни погань, плодится без меры, ей везде хорошо? Машинально качаю головой, слушаю, но никак не могу освободиться от череды воспоминаний. Череда. Цепкие удлиненные сухие треугольнички болотного, канавного растения, они, как воспоминания, колют, прицепляются, впиваются, их не отчистишь, уйдут вместе со мной. Еду в столицу на вручение мне медали Международного Красного Креста. Медаль Флоренс Найтингейл. До последних лет я и слыхом не слыхала о такой награде. Со мной не было всезнающего словаря «Гранат». Позднее читала где-то в газетах, но внимание не остановилось. Медицинская сестра с такой наградой, фронтовичка вроде меня, рассказывала девочкам из медучилища о своих подвигах, и было почему-то неловко за сестру, ведь подвиги, если их совершила, хранят про себя, о них трудно, больно даже рассказывать, как будто грешно и стыдно. Не могу говорить о таком на людях и разочаровывала корреспондентов городской газеты. Все время мысль:
577
«Зачем? Зачем? Вдруг перехвалишь себя? Не солжешь ли?» Теперь я знаю, Флоренс Найтингейл была тоже фронтовой сестрой, давно, больше века назад, участвовала в Крымской войне, под Севастополем, она англичанка и, следовательно, была в стане врагов, но спасала, выхаживала раненых и больных, а позднее, возвратясь в Англию, всю жизнь протестовала против войн, боролась как могла, основала госпиталь, работала в нем до глубокой старости. Заслужила ли я эту необычную медаль? Ею у нас награждено всего около сорока сестер, а тысячи, наверное, заслужили награду больше, чем я. Ведь я не знаю даже, скольких я вынесла из боя, выволокла, проводила в тыл, оказала помощь. Никогда не считала. Где там, на передовой, и какой подсчет! Знала лишь – много. И еще не ведала, сколько из них осталось жить. Стала ли я равнодушной ко всему? И к наградам? Вот везу в чемодане планку с колодочками. Ее надену на парадное платье, когда будут вручать медаль. Стала ли равнодушной? Нет. Просто наконец как будто усвоила, что долг и есть плата за жизнь, ее оправдание и, пожалуй, счастье, то самое, которое все ищут, жаждут, хотят, желают и, не испытав войны, не представляют, что счастье-то также и сама жизнь, в каждом ее дне, ночи, рассвете, закате, в снах, яви, вкусе времени, во всем, что можно чувственно охватить и понять.
Вот писала, что привыкла обостренно воспринимать время, дни и часы, периоды года, и потому, знать, глядя в вагонное окно на меняющуюся осень, наслаждалась ее красками, облаками. Уже позади остался Урал. Поезд, уп-руго качая, мчит по равнине. Кругом измоченные поздними дождями поля. Вода в колеях. Перелески в мокроржавой и желтой листве, и что-то лисье угадывается в тонах, лисье и предзимнее. Быстрое бегучее солнце вдруг выбеливает перелески трепещущим светом. Вот скрылось. Мокрая туча-стена сине закрыла горизонт до самого зенита, и поезд нырнул под нее, в ее мрак, капли бьют в окно, чертят плачущими штрихами, змейками. Пахнет этим поздним дождем прощально, предснежно. Ветер доносит влагу полей сквозь закрытые рамы. Подол тучи белеет от скрытого солнца, едва золотится.
578
– Эко, туча-то! Как при царе Горохе! – говорит старуха.
И мне радостно, как хорошо, точно сказала. Вот и подарок: «Как при царе Горохе!»
В Москве я никогда не была. Откуда мне такая возможность? Но перед поездкой все-таки хорошо перечитала о столице, что нашла в своих книгах. Как-то всегда стесняюсь назвать их библиотекой. Хотя будет уже, наверное, до тысячи. Все мое достояние и накопление. Читала о Москве-городе, а Москва прежде всего поразила нескончаемым поясом дач, дачных поселков, тянущихся предместий, когда невозможно понять, что это – уже город или все еще дачная зона. Лишь мелькнувшие названия, площадки электричек – Перово, Воиново – подтверждают: еще не Москва.
Но вот все-таки поезд втянулся в ее кирпично-бетонное многоэтажье, и наконец я вышла на мокрый перрон, сразу ощутив запах этого огромного города – мягко-осенний, теплый, проявленный только что пролившимся дождем. Октябрь здесь был иной, не жесткий, не уральский. Не дышало Севером, лесами и тундрой, копченым небом, металлом и словно бы жестью заморозков. Здесь пахло Европой, столицей и древне обжитой землей.
Не стану долго писать, как все было, как встречали, принимали в Центральном доме Обществ Красного Креста и Полумесяца, фотографировали, расспрашивали корреспонденты, как меня и еще двух сестер – одну совсем старенькую бабушку – поздравлял представитель Международного Красного Креста, вручали дипломы, аплодировали. И вот на моей груди еще одна медаль, редкая, похожая на овальный жетон, прикрепленный к колодочке с алым крестиком. Медаль Флоренс Найтингейл. Нас снова поздравляют, подносят цветы. И я, ощущая горький запах гвоздик, влажных и словно обрызганных слезами, думаю, что же такое судьб а и зачем ей понадобилось столь долго испытывать меня горем, ранами, безысходностью и снова горем, чтоб теперь вот одарить славой, которая мне, наверное, уже и не очень нужна. Куда девать славу?! Ходить по улицам с
579
гордо поднятой головой, как ходит в нашем городе один такой, немного тронутый и всегда пьяный, в усах, в военной фуражке, при всех регалиях, вплоть до гвардейского знака, и везде кричит: «Я воевал!» Всех учит. Лезет без очереди к прилавкам, стучит кулаком. Смешно. Жить в тихом наслаждении своей увенчанностью и награжденностью, повествовать о подвигах молодым и юным, которые смотрят на тебя с показным вниманием? Да, всякая награда должна быть вовремя и впору. Награды, по-моему, лишь учат жить и понимать жизнь. И хорошо, если учат.. Я удержалась от слез при поздравлениях, но плакала, когда ехала обратно, в гостиницу. Мир троился, перекипал через край, будто и улицы были залиты слезами. Вспомнила сына, что значит вспомнила, если помнила всегда, все время, всегда он в моей памяти, но тут особо, потому что думала: все-все отдала бы только за то, чтоб его повидать. Только бы повидать, а ведь несбыточно. Почему-то не видела его даже во сне. Ни разу. Вытирала слезы, вздыхала, вышла из машины у подъезда гостиницы. На меня смотрели ко всему привычные милиционеры и швейцары. Я жила в огромной, поразившей меня «России», кажется, самой большой гостинице в Европе, жила в том блоке-стороне, что выходит на Москву-реку, и даже ночью здесь не затихал ровный гул, шелест машин, мчавшихся вдоль набережной и поперек нее через громадный, хорошо видный из моего номера мост.
День достаивал дымчатый, пасмурный. Небо угрюмилось. С лип под окнами сами собой опадали, сеялись по сырому газону яркие мокрые листья. Мокро-свинцово блестел куполок церквушки неподалеку от гостиницы, слева. Вдали маячил серый силуэт остроплечего высотного многоэтажника. Они стоят по городу, как замки фата-морганы, как знаки Москвы, и я рассматривала их с каким-то боязливым чувством. Этакая рукотворная гора, пик! Делать мне было нечего, потому что я решила не ходить на какой-то симфонический концерт в Колонный зал. Не было настроения. Я присела на подоконник эркера, где тихонько сипел через теплые отверстия воздух. Рассматривала реку с коричневой осенней водой, убегающий вдаль прочный
580
гранит – парапеты набережных. Плавучий кран был причален тут. Напротив, на том берегу, парила трубами, должно быть, старая электро-станция. Девять труб и надпись над крышей, слова Ленина об электрификации. Она походила на корабль. И кран, и электростанция жили особой безлюдно-целенаправленной жизнью, казались необитаемыми. Зато дорога вдоль реки не прекращала нескончаемый гон машин, с высоты они казались разноцветными игрушечками, бегущими по странной всевышней воле с непредсказуемой целью. У моста, на перекрестке, бег машин замирал, они останавливались всей стаей и словно перетаптывались в нетерпении, перемигивались яркими оранжевыми, красными глазками, пока воспаленное око светофора, давившее на них, не мигало, сменяясь на милостивый зеленый свет, и они уносились по набережной вдоль кирпичной стены Кремля с одиночными башенками, в богатырской задумчивости глядевшими на их веч-ную суету и вечное течение скованной каменными берегами реки. По-осеннему скоро темнело. Самый печальный час для приезжего, когда проклевывались и зажигались вдали точки-цепочки огней, желтые, голубые, белые блики ложились по воде, а кремлевский холм с лесистым садом наливался мглой, плотнел, желтая, оранжевая заря полосой прорезалась над стеной, за башнями, за уходящим в синеву и в бесконечность неровным многоэтажьем. Пролетал снег. Редкий, раздумчивый. А у меня вдруг сжимающе заломило сердце. Может быть, от пережитого, от одиночества. Я всегда испытываю его в новых местах, а здесь, в этой громаде гостинице среди тысяч номеров, заселенных незнакомыми людьми, оно показалось невыносимым. Я поднялась, налила стакан воды из хрипящего, булькающего сифона, выпила ее – легче не стало. Тогда я решила уйти из номера хоть куда, на улицу, на площадь, к набережной, лишь бы не сидеть в хорошо обставленной одиночной камере с коричневой стильной мебелью, креслом-модерн, коричневыми шторами, таким же покрывалом на кровати, цветным телевизором и дешевой линогравюрой над столом, где церковка на фоне безотрадных ветел усугубляла мое настроение. «Одиночка Одинцова», —
581
привычно повторила себе, слоняясь по номеру, заходя в ванную, под потолок отделанную шикарной черной плиткой с белыми швами. Такую отделку ванной довелось видеть впервые, и она не обрадовала меня, показалась мрачной, но потом я поняла весь шарм, поняла, что солидное бело-розово-желтое тело моющейся тут женщины гляделось, наверное, куда эффектнее, чем на приевшемся и даже провинциальном белом плиточном фоне. За стеной слева кто-то громко включил телевизор. За стеной справа, похоже, давно шла обычная гостиничная пьянка, слышались акающие не по-русски громкие голоса. И припомнила: когда утром направлялась в буфет, из номера вышли двое мужчин с блестящими, вороного цвета головами, жадными взглядами они окатили меня и все трогали ими мою фигуру, косу, пока стояла в очереди за чаем и сосисками и сама рассматривала бойкую, властного вида буфетчицу, у которой было презрительное, прожированное кремами красиво-дородное лицо.
– Чтовам?! – быстро говорила она. – Чтоеще? Ска-рей-скарей! Чтоеще?!
«А пойду в ресторан! – вдруг решила чуть не вслух. – Неприличный поступок? Не по возрасту? Одна? В такие-то годы? Но могу же я, в конце концов, один раз в жизни поужинать в столичном ресторане, побыть в обществе, и вообще.. У меня хорошее новое платье, вполне вечернее, сшито в ателье высшего разряда! Оно, правда, несколько тесновато в бедрах, полнота так и долит меня, но.. Перед поездкой я слегка подкрасила волосы, и у меня совсем нет седины.. Да, пойду! Пойду в ресторан!» Я накрасила губы. Тронула брови и ресницы, погладила щеки. «Что?» – спросила кого-то, может быть, зеркало. Может быть, здесь было просто сумеречно, потому что мне показалось, я вижу себя в нем молодой – грешно даже писать такое. Женщина глядела на меня из коричневой рамы. Женщина, а не старуха, слава богу, хоть здесь судьба не била меня.
Я наряжалась как будто на свадьбу. Господи? Зачем? За-чем? Но душа моя вдруг захотела радости, радости, радости! У вас не бывало такого? Хоть
582
не часто? Когда хочется одеться во все новое, чистое, шелково-упругое, сбросить годы вместе с ношеной одеждой и засветиться какой-то умытой, резервной, таившейся молодостью? Вот все это я испытала в роскошной ванной с черной глянцевой плиткой, перед всеми этими зеркалами. Вымы-лась, умылась, так вычистила зубы, что рот дышал какой-то розовой, матовой свежестью, переплела косу, надела только что купленый голубой гарнитур и платье, на котором блестела овальная медаль. «Ладно, – сказала я себе. – В ресторан иду без всяких наград». Надеть платье, поправить чулки, еще раз оглядеть себя в зеркале у входа в ванную – оно во весь рост. Женщина, да еще, кажется, привлекательная, стояла, кося глазом на меня, клоня голову к плечу, отягченному даже и не женской, но все-таки идущей ей косой.
А.. Пойду! Я спустилась в бесшумном лифте на нижний этаж и зачем-то задержалась в вестибюле, не могла так вот, сразу, идт и в ресторан. Мне хотелось представить, что я кого-то жду. В вестибюле, среди пальм и колонн, мягких кресел, в которых курили приезжие, похожие на иностранцев, я ходила взад и вперед под недоуменные и чуть насмешливые взгляды стариков швейцаров в синих униформах и фуражках с позументами.
«Ждет кого-то! Как вырядилась!» – было во взглядах. Взгляды детально ходили по мне, и тогда я решительно направилась к широкому центральному входу, мимо будок с междугородными телефонами.
– Ишь какая!
– Я б.. дак всю получку отдал! – долетело вслед. В ресторане, он был заполнен лишь наполовину, я прошла к креслу у окна, за пустой столик. Села. Небойкая, надменная официантка, с холодом во взоре, подошла особой походкой павы и соблазнительницы с большой амбицией.
– Добрый вечер. Что хотить заказать? – пропела она.
– Ужин. Салат. Что-нибудь мясное.. И воду.
– Пить что будете?
– ..?
– Пить?!
583
– Ах, да.. Принесите, пожалуйста.. Какой-нибудь коктейль.. Или.. Сухого вина.
«Да ты не совсем деревня», – прочитала во взгляде официантки, несколько смягчившейся к провинциалке: ведь то, что не Москва, – все провинция. Она записала, кажется, и коктейль, и сухое. Ладно, пусть. Пробуду здесь вечер, и хорошо бы одной. Но столик на четверых. Ладно, пусть..
А пока я оглядывала громадный высокий зал ресторана с помпезными золотыми колоннами. Долженствовали, очевидно, подчеркивать все русское богатство. Под колоннами пальмы, блестят уставленные конусами салфеток накрытые столы. Черные фраки официантов. Парни сплошь кровь с молоком. Синие платья упитанных официанток, переднички и кокошнички. Молодой метр с баронской внешностью и сытым взглядом напоминал породистого петуха в стае кур. Оркестр ленивенько пробовал мелодии, словно раскачивался вместе с заполняющимся залом, и вот, наконец решив, что пора, ударил-заиграл какую-то бойкую модную мелодию. Модный ритм. Ресторан зажил привычной жизнью временного счастья, отлетевших забот, того счастья, которым живут халифы на час, на два часа или на весь вечер и что вместе с вином, звуками музыки, блеском фужеров и женских глаз обращает жизнь в иллюзию беззаботной – гуляй, душа! – а может быть, тем именно и живет ресторан и человек, находящийся за столиком в нем, – все может быть.
Официантка поставила передо мной салат. Принесла коктейль с нейлоновой соломинкой. Бутылку сухого вина. «Куда же столько?!» – про себя ужаснулась, не зная, что сказать. Официантка открыла воду и ушла. Я потянула коктейль. Он был вкусный, пахнул апельсином и словно бы ананасом. Ну, что ж.. Буду, так сказать, веселиться. Вина немного попробую. Должна же отметить высокую международную награду! Пила и ела потихоньку, но моя привычная наблюдательность не оставляла меня.
За соседний шестиместный стол весело ввалилась вольная московская
584
ватага, парни в джинсах, в тертых курточках-кожанках, девочки из того разбора, который называют «девчушками», чтоб не назвать шлюхами. Молодые, тощие, всезнающие, с нездоровыми лицами, где молодость уже перебита бесстыдством, с раскрашенными порочными глазами. Парням под стать. Чувствовалось, что здесь они – дома, заказывают не скупо. Угощал некий Гоша, мальчик «из хорошей семьи», изначально, однако, беспутный, наверное, со школы, с первого курса. Гоша играл в благодетели, делал широкие жесты, острил, хамил. Девчушки надрывались от хохота. Был там еще какой-то непрерывно прыгающий, непоседливый Тимоша и еще один угрюмый тощий парень в желтых усах, мрачных прыщах. Дальше большой сдвоенный стол заняла стая девушек, по обличью продавщичек, явились праздновать чей-то день рождения. В общем, зал наполнялся. И к моему столику подошли те двое синеволосых мужчин с моего этажа. С ними была и женщина, тоже восточная, толстая, сладкая, в серебряном платье – жена, а скорее, подруга одного из них.
– Нэ занято? А, как харашё, – сказал тот, что был постарше, с проглядывающей сединой в висках, усах и крепкой шевелюре. – Как харашё.. Армэн? Вот тебе и знакомство! Дарагая.. Ми вас давно видэли. Ми з вами сасэди. Сасэди должен жить в дружбэй. Правда, Армэн?
Армен подтвердил, что правда.
Они уселись за стол, как садятся хозяева, и официантка, та же самая, но уже другой походкой, с иным выражением лица, с другой улыбкой, глазами, принимала у них заказ. Старший заказывал много, важно, одних салатов три, икру, осетрину заливную, подумав, сказал еще: «Вэтчинки!» Коньяк велел подать. «Толька нашь!» Официантка угодливо записывала. «Эще лед! И шямпанское!» – заключил старший орлом с вершины, подняв бровь, улыбаясь, одаривая щедрым взглядом свою женщину в серебряной парче. Официантка бойко ушла исполнять заказ.
– А что вы такой грустный? – обратился ко мне улыбчивый Армен.
– В рэстаранэ.. Нэльзя быть грустный! Тут нада вэселиться!
585
– Да я не грущу. Вам показалось..
– Тагда эще лучшей..
Они сидели в ожидании заказа, и мне было неудобно. Натянутое состояние.
– Пожалуйста, попрошу вас, налейте себе и мне. У меня слишком много вина. Я хочу вас угостить, – сказала я, может быть, не очень ловко.
– Спасиба! Какой разговор! Давайте. Выпьем.. За нашу дружьбу, – сказал старший, улыбаясь и мигая Армену.
Так весь вечер я провела с новыми знакомыми. Теперь уже они угощали. Не было отбоя. И Армен приглашал. И я танцевала. А тот, старший, его звали Вазген, перемигиваясь со своей дамой, – конечно, это была не жена, – подмигивал и Армену, говорил, что он ему завидует. Армен в тон ему ухмылялся и отвечал: «У вас – своя щастья, у нас – своя щастья!»
«Щастья» продолжалось долго. Оркестр играл и играл. Армен тащил на бойкие современные танцы, которые я танцевать не умела, а точнее, не хотела. Учиться тут, по крайней мере для тесного ресторанного пятачка, нечему: скачи, кривляйся, верти бедрами, крути руками, попал не попал в такт – все равно. Так скакали рядом Гоша и Тимоша, их подруги в джинсах, вельветках, готовые вывернуться наизнанку, прыгали продавщички, которые за столом не столько ели-пили, сколько старательно, усиленно курили, словно бы затем и пришли сюда. Миленькие мордашки, девочки не москвички, а скорее всего, откуда-нибудь из области, из соседней Владимирщины, из тверской земли, они любовно осваивали вечернюю жизнь и, кажется, были счастливы.
В конце концов я устала и поняла, что надо немедленно уходить. Уйти вовремя – большое искусство. Подозвала официантку, которая опять презрительно подошла, сунула счет. В какой-то книге о правилах обслуживания и высокого тона читала, что счет должен подаваться на тарелочке, текстом вниз, тому подобное.. Все это, конечно, официантка знала. Но.. армяне вытаращивали глаза, удерживали мою руку, но я все-таки
586
расплатилась, стараясь не ужасаться, что-то такое рублей пятнадцать. Но не пересчитывать же, бог с ней. Ведь у меня высокая международная награда, и я должна соответствовать ей. Я встала, попрощалась с соседями, Армен пошел провожать, рассчитывая, видимо, обо всем договориться в вестибюле. И опять под взгляды швейцаров я едва смогла отделаться от его жадных глаз, рук, сказала, что жду своих знакомых, что еще должна встретиться с друзьями, на что он, изобразив на лице мировую скорбь, в конце концов удалился, а я поднялась в номер, надела пальто, снова спустилась в вестибюль западного блока, вышла на осенний холод, в октябрьскую московскую ночь. Мне было почему-то дурно. Не от вина, не от табачного смрада, которым меня прокурили и соседи за столиком, и ненасытно курившие продавщички. Просто было дурно. Может быть, от нескончаемого одиночества, от него совсем не спас ресторан. И я вышла в эту ночь, надеясь, что на воздухе станет легче. Очень тяжело болело сердце, кружило голову. «Опять! – со страхом подумала. – Вот будет номер, если хлопнусь где-нибудь.. Надо успокоиться.. Надо походить, подышать глубоко». И я ходила вдоль западного лицевого блока гостиницы по мощеным цементным плиткам, напоминающим тетрадную разлиновку в клетку. Ходила от угла до угла. И мысли были сумбурные, разбросанные, словно разбегались во все стороны. Не могла их собрать, не могла сосредоточиться ни на чем. Со стороны была, наверное, похожа на сумасшедшую. А город и гостиница, связанная с ним, жили своей отчужденной и совместно-обособленной от меня жизнью. Подкатывали такси. Высаживались поздние гости. Жестикулировали иностранцы. Они как-то шумнее, чтоб не сказать развязнее наших людей. И не поймешь даже, кто здесь хозяева. Вот послышалась немецкая речь, и я даже вздрогнула: так давно уши не слышали это быстрое, гортанно-крикливое... Милиционеры, что перетаптывались у края тротуара, поглядывали на меня недоуменно. Из ресторана еще доносилась музыка. А поодаль, за освещенным многолуковичным храмом, высокая главная башня с известными миру часами, башенным боем считала время.. За стеной спал
587
кремлевский холм. Бессонно гудел машинами мост, ведущий в Замоскворечье, и плавился на ветру, горел и переливался на куполе за стеной главный, неспускаемый флаг.
Из ресторана вывалились все той же крикливой, гогочущей ордой мои невольные знакомцы. Парни в колпаках «Адидас», девчушки в шапчонках «чулок», натянутых на глаза, – они походили на поганки, кричали, искали такси. Такси не было. Тогда без церемоний они осадили какую-то длинную роскошную машину, может быть, «Чайку», толковали с шофером. Тот согласился. И вот уже ордой лезли, грузились. Девчушки орали. Гоша с Тимошей прыгали, кривлялись. Желтоусый безглазо стоял столбом, мрачно раздумывал.








