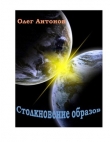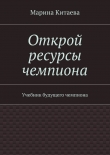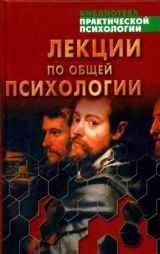
Текст книги "Лекции по общей психологии"
Автор книги: Лев Ительсон
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 58 страниц)
Вот сколько качественно нового вносит в работу психики количественное возрастание активности, сложности и разнообразия поведения организмов. При этом мы пока ограничивались действиями, которые требуют учета информации лишь о таком сравнительно простом объективном отношении, как расположение раздражителей в пространстве, а также скорость и направление их перемещения.
Но факты показывают, что сложное и изменчивое поведение высших животных отнюдь не исчерпывается только такими действиями. Например, тигр не просто бросается из засады на добычу. Он всегда перекусывает у нее горло. Леопард тоже бьет свою жертву спереди и тут же впивается в горло. Для такой регуляции действий уже мало сигнала о появлении пищи (например, запаха). Мало и способности локализовать расположение раздражителя в пространстве. Нужно учитывать и пространственную конфигурацию самого объекта, т.е. его истинные размеры и форму. В грубом виде такая способность есть уже у птиц. Например, этологи показывали новорожденным птенцам самые разнообразные движущиеся модели: круги, квадраты, эллипсы, силуэты хищных и нехищных птиц. Оказалось, что птенцы боятся только макетов с длинным хвостом, широкими крыльями и короткой головой. Это – силуэт, типичный для главных их врагов – ястреба и коршуна. Стоило тот же макет двигать хвостом вперед (тогда он похож на утку) и птенцы относились к нему безразлично. Здесь сама реакция еще врожденная. Но, чтобы она сработала, психика уже должна уметь извлекать из ощущений информацию о пространственной форме стимула и даже о его значимых деталях (где голова, где хвост).
Нетрудно представить, насколько подробнее и дета-лизованнее должна быть такая информация, например, у обезьян. Чтобы успешно ориентироваться и перемещаться в сложном лабиринте ветвей, дотягиваясь до них, цепляясь, перепрыгивая с дерева на дерево, четверорукие должны учитывать и форму ветвей, и их толщину, и расстояние друг от друга и т.д.
О том, что такая способность отображать пространственную конфигурацию вещей (их форму и размеры) действительно существует у животных, свидетельствуют, например, опыты проф. Б. Гржимека. Он выставлял в заповедниках пластиковые надувные чучела лошадей, зебр и наблюдал, как будут к ним относится живые животные. Оказалось, что, несмотря на прекрасное обоняние, львы реагировали на чучела, как на настоящих животных. То же происходило и с лошадьми. Иными словами, поведение животных явно регулировалось формой чучела. О том же свидетельствуют многие опыты, которые мы описали во второй, четвертой и пятой лекциях. Эти опыты показывают, что у животных можно выработать условные рефлексы на пространственную форму раздражителя. Например, собак можно было научить отличать круг от эллипса, лисиц – отличать треугольник от всех других фигур, обезьян – отличать восьмиугольник от десятиугольника и т.п.
При этом, если вы помните, лисица, например, научалась указывать любой треугольник, независимо от его положения, величины, вида (прямой, тупоугольный, остроугольный; равносторонний и т.д.), характера фона и рисунка (сплошной, контурный и т.д.). Аналогично, в опытах проф. Гржимека лошади реагировали, как на живое существо, не только на пластиковое надувное чучело, но и на изображения лошадей, нарисованные на бумаге, вплоть до самых схематичных. Это явление переноса, или, как его иначе называют, транспонируе-мость формы, свидетельствует, что психика ухитряется выделять и отражать саму форму объекта, т.е. характер и соотношение его частей, а не только их конкретный вид и размер.
Эта информация кодируется психикой в виде особого переживания – организованности чувственных данных об объекте в рамках определенной пространственной структуры. Такую пространственную организованную структуру чувственных данных называют фигурой. Сам этот способ кодирования психикой информации об объективных свойствах вещей можно назвать структурным отражением.
Базой структурного отражения могут быть не только зрительные ощущения. Например, разглядывая яблоко, мы видим, что оно имеет шарообразную форму. Но то же самое мы можем установить, и не видя яблоко, а только ощупывая его. Здесь исходная информация о пространственной структуре вещи та же самая. Указанную информацию могут нести и слуховые ощущения. Например, летучие мыши, ощупывая предметы узким лучиком ультразвука, по-видимому, способны из отраженного эха извлекать информацию о фигуре объекта. Так что «видеть» пространственные структуры вещей можно не только глазами, но и руками и даже ушами.
Мозг способен отражать не только пространственную структуру вещей, но и структуру явлений во времени. Примером тому может служить узнавание мелодии, т.е. порядка и соотношения звуков во времени. О том, что здесь имеет место именно структурное отражение, свидетельствует тот факт, что мы можем узнать данную мелодию, на каких бы инструментах и в какой бы тональности ее ни играли. При этом сами звуки, т.е. их тон и тембр, совсем разные. Неизменным остается лишь отношение звуковых частот и их следование друг за другом, т.е. структура звуковой последовательности. Наша речь, как и звуковые сигналы животных, тоже представляет определенные структуры звуковых колебаний, организованные во времени.
Отражение временной структуры явлений возможно и на основе зрительной информации. Здесь оно выступает в форме особого чувственного переживания – движения или изменения.
Но и это еще не все. Уже исследования поведения животных показывают, что они руководствуются не только пространственно-временными свойствами вещей. Ведь ощущения сообщают также и о цвете объектов, их запахе, вкусе, твердости, тяжести, температуре и т.д., т.е. о многообразных оптических, химических, механических, молекулярных, агрегатных и других свойствах и состояниях вещей окружающего мира. В определенных случаях эти свойства могут иметь не меньшее значение для правильной регуляции поведения, чем локализация и пространственно-временная структура объектов. Например, когда обезьяна капуцин разбивает орехи, взяв в руки камень, она использует уже такое его свойство, как твердость. Слон, который хоботом швыряет ветки в досаждающих ему собак, учитывает при броске их тяжесть. Бобры, строящие плотину, учитывают направление течения, его силу и скорость. Аналогично птицы при строительстве гнезд учитывают механические свойства используемого материала.
Разумеется, учет этот происходит бессознательно, а большей частью даже на основе врожденных сигналов и программ поведения. Но это не меняет дела. Чтобы поведение успешно приспособлялось к соответствующим свойствам вещей, эти свойства должны быть правильно отражены психикой животного.
Неизмеримо возрастает и расширяется круг значимых объективных свойств вещей, которые требуют учета и, значит, отражения психикой, с возникновением трудовой деятельности. В лекции VIII мы видели, что трудовая деятельность основана на применении орудий, т.е. воздействия вещи на вещь. Чтобы успешно осуществлять такую деятельность, мало знать, как вещи действуют на наш организм. Надо знать, как они действуют друг на друга, т.е. объективные свойства вещей.
Напомним, например, как в поэме Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» ее герой собирается построить лодку-пирогу:
«Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка...»
И далее:
«Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,
Помоги пирогу сделать И надежней и прочнее...
...Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай, корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,
Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу...
Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу...»
Видите, сколько объективных свойств окружающих вещей надо выделить и учесть уже первобытному человеку, чтобы решить трудовую задачу, создать один новый предмет. Причем эти свойства характеризуются уже не только отражающими их ощущениями, но их значением для целей деятельности.
Именно, учитывая эти объективные свойства вещей, имеющие значение для целей трудовой деятельности, психика человека регулирует протекание его трудовых действий (многочисленные доказательства этого мы рассматривали в лекции X).
Чтобы справляться с такой задачей, психика должна из ощущений, порождаемых вещами и действиями, выделять информацию о соответствующих объективных свойствах вещей. Уже на элементарном примере объективных пространственно-временных свойств мы убедились, что это требует совсем иного способа и формы отражения реальности, чем сенсорно-сигнальное.
Первая отличительная черта объективных свойств вещей заключается в том, что они существуют сами по себе независимо от субъекта, особенностей его организма и его психических переживаний. От субъекта зависит, обнаружит он эти свойства или нет. От особенностей его организма зависит, как на него воздействуют эти свойства вещей. От его психики зависит, в какой форме она эти свойства отразит. Но сами свойства принадлежат вещам. И коль скоро обнаружены, они должны переживаться, как свойства самих вещей. Тогда с вещами можно будет обращаться, как они того требуют, и относиться к ним, как они того заслуживают. Значит, психика должна уметь не только отражать свойства вещей, но и отражать их объективность, независимость от субъекта. На том уровне отражения, который мы рассматриваем, эта характеристика объективных свойств вещей кодируется особым психическим переживанием. Оно заключается в том, что ощущения, несущие соответствующую объективную информацию, проецируются вовне, переживаются как свойства самого стимула. Грубо говоря, ощущение напряжения мускулов при поднимании предмета переживается как свойство самого предмета – его тяжесть. Ощущение статического давления при нажиме на предмет переживается как твердость самого предмета. Цветоощущение, вызываемое электромагнитным излучением объекта, при наведении на него взора, переживается как окраска предмета и т.д. Приписывание качества предмету называют аттрибутацией. Поэтому такую форму отражения мы назовем атрибутивным отражением.
При этом, снова подчеркиваем, специально выделяются и различаются не все бесчисленные свойства вещи, а только те, которые имеют значение для деятельности. Соответственно, весь поток ощущений расчленяется, разлагается на «островки», сообщающие о таких объективных значимых свойствах вещей. Например, в сумме ощущений, которые я получаю, взяв в руку яблоко, вычленяются переживания цвета, фигуры, гладкости, сопротивления нажиму, напряжения мышц, необходимого, чтобы его удержать, запаха и др. Они выступают как отображения объективных свойств яблока – его окраски, формы, типа поверхности, твердости, веса и т.д. Когда я возьму спичечную коробку, опять поток ощущений расчленится по тем же линиям, но даст уже иные сведения. Следовательно, окраска, форма, характер поверхности, твердость, вес, запах, вкус и др. выступают как объективные признаки, по которым мы различаем предметы до такой степени, какая достаточна для успешных действий с ними. Качества ощущений, сообщающие об этих признаках, теряют характер субъективных переживаний. Они начинают играть роль сенсорных эталонов, т.е. чувственных образцов определенных объективных признаков вещей.
Кроме независимости от субъекта, объективные свойства вещей имеют еще одну, вторую, отличительную черту. Они не существуют сами по себе, а принадлежат вещам. И в каждой вещи эти свойства проявляются по-разному, выступают в разных сочетаниях, соотносятся по-разному. Короче, имеют различную структуру Так, например, форма, окраска, поверхность, вес, запах, твердость и т.д. яблока и спичечного коробка различаются по их составу, характеру, сочетанию, расположению, соотношению, короче, по структуре. Благодаря такому различию структуры объективных свойств мы различаем яблоко и коробок, как разные предметы, и опознаем их как определенные предметы: яблоко или спичечный коробок. Значит, структура объективных свойств вещи сама представляет собой объективное свойство этой вещи, которое требуется учитывать, чтобы целесообразно действовать по отношению к ней.
А раз так, то психика человека должна уметь выделить и зафиксировать информацию об этом важном свойстве вещей, т.е. отразить его. На рассматриваемом нами уровне отражения это достигается особым переживанием единства различных свойств, их отнесенности к объекту, находящемуся в пространстве, их «вписанности» в фигуру этого объекта, их организованности в рамках его пространственной и временной конфигурации.
Такую форму отражения свойств объекта называют целостным отражением. Оно заключается в том, что все обнаруженные свойства стимула переживаются как принадлежащие определенным участкам его пространственной структуры. Структура свойств как бы налагается на пространственно-временную структуру стимула. Такая отграниченная и организованная в пространстве и времени структура объективных свойств переживается как определенная вещь (или явление).
Нетрудно увидеть, что это уже совсем иное членение действительности, чем то, которое мы имеем на уровне сенсорного отражения. Там реальность членится по модальностям и качествам ощущений. Все воздействия одной модальности «идут» в одну сенсорную зону (звуковые в слуховую, оптические – в зрительную и т.д.). Мир разлагается на цвета, звучания, вкусы, запахи и т.д. Вещи как бы «раздираются» на отдельные их чувственные свойства. И поведение управляется именно такими чувственными сигналами каких-нибудь их отдельных свойств (например, запахом, или цветом, или размером, или движением, или вкусом и т.д.). При предметном целостном отражении, наоборот, самые разные модальности ощущений объединяются, и вещь «воссоздается» в единстве и соотношении ее чувственных свойств. Мир разлагается уже на целостные вещи, имеющие определенный цвет, форму, звучание, вкус, запах и т.д. И поведение управляется именно такими качественными структурами вещей, с которыми человек имеет дело.
При этом опять следует подчеркнуть, что структурные черты любой вещи могут быть чрезвычайно разнообразны. Но из них выделяются лишь такие, которые имеют значение для деятельности. Поэтому среди бесчисленных сочетаний различных свойств, встречающихся у вещей, выделяются психикой лишь некоторые, имеющие значение для отличения определенных вещей и целесообразного действия с ними. Так, например, разные яблоки могут очень различаться по их свойствам. Однако, везде будет иметься некоторое/соотношение определенных свойств, на основе которого объект может быть выделен из окружающего мира как особая вещь – яблоко. Вот такое устойчивое соотношение свойств (качественная структура) выступает как объективный признак вещи, достаточный для ее отличения, вычленения и успешных действий с нею. Структура ощущений, сообщающая об этом признаке, теряет характер переживания отдельных свойств. Она начинает играть роль перцептивного эталона, т.е. образца чувственной структуры, соответствующей определенным значимым классам вещей.
Итак, двигаясь по ступенькам предметного, структурного, атрибутивного и целостного отражения, психика все далее отходит от субъективной формы ощущений и все ближе подходит к объективным свойствам самих вещей. Содержание психических переживаний начинает все меньше выражать характер воздействий раздражителя и все больше – характер самого предмета, который выступает как раздражитель. Предметное отражение выносит его в реальное пространство. Структурное отражение выражает его объективные пространственные характеристики (фигуру). Атрибутивное отражение фиксирует его объективные свойства; целостное – их единство и структуру в конкретном предмете. Процесс извлечения из сенсорных данных и выражения в чувственной форме такой объективной информации о вещах и явлениях называют восприятием, или перцепцией (в отличие от ощущения или рецепции).
Результаты этого процесса – психические отражения структуры объективных свойств вещей и их расположения в реальном пространстве и времени – называют восприятиями, или перцептами.
Человеческая психика, по крайней мере, человеческое сознание, непосредственно, чувственно отражают мир именно так – в форме восприятий. Мы видим вещи, обладающие определенной фигурой и свойствами, расположенные и движущиеся в пространстве, а не поток переливающихся цветных пятен. Мы осязаем форму, твердость, поверхность и вес вещей, а не переживания давления, прикосновения, мышечного напряжения и т.д.
Это настолько привычно, что нам кажется иначе и быть не может. Мы видим то, что есть: людей, вещи, животных, растения, здания, горы. Они перед нами. Они проецируются в глаз, и через него в мозг. То же происходит и со словами. Наш собеседник их произносит. Ухо воспринимает и передает мозгу. Таково наивное представление обыденного мышления о том, как мы воспринимаем мир. Это представление уже две с лишним тысячи лет назад было выражено древнегреческим философом Аристотелем. По его теории, от вещей отделяются их «картинки» и поступают в глаз. Так что глаза выступают, как своего рода «окна». Через них к нам «в душу» проникает чувственный внешний мир. А из них видна «наша душа», наш внутренний мир.
Но мы-то уже знаем, что дело обстоит далеко не так просто. Как и все другие достижения живой природы, новые, более высокие формы психики не возникают на пустом месте. Они вырастают из более древних способов отражения действительности, надстраиваются над ними. Живая природа, как правило, не отбрасывает своих главных удачных изобретений. С переходом к следующим ступеням развития она только по-новому использует эти старые изобретения, добавляет к ним новые механизмы и функции. Так возникает поразительное единство всего живого, несмотря на его неимоверное разнообразие. Это единство обеспечивается передачей из поколения в поколение исходного генетического кода, обеспечивающего непрерывность существования и развития живой материи.
Таким фундаментальным изобретением природы явился рефлекторный принцип регуляции поведения и отвечающая ему сигнальная форма отражения действительности. Исходный способ обнаружения свойств реальности мы получили от своих неимоверно далеких предков, стоявших еще на уровне элементарного сигнального поведения. За миллионы лет развития живые организмы не получили в общем никаких добавочных источников информации, кроме все тех же ощущений. Рецепторы высших животных и низших в принципе работают одинаково. Остается поэтому единственный выход – психика должна начать работать по-другому. Она должна формировать своего рода «психические анализаторы», чувствительные к соответствующим объективным свойствам вещей.
Что это за механизмы и как они работают?
Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем кратко рассмотреть, что известно психологии о механизмах формирования предметного, структурного, атрибутивного и целостного отражения вещей и явлений.
Начнем с механизмов предметного отражения.
Первый механизм, который обеспечивает такое отражение, глубоко заложен в самой структуре нашего головного мозга и центральной афферентной нервной системы. Некоторые их отделы построены симметрично. Человек двуглаз, двуух и его мозг имеет два относительно самостоятельных полушария. При этом каждый глаз и ухо напрямую связаны с зеркально симметричным полушарием головного мозга: левые – с правым, а правые – с левым.
Благодаря такому устройству информация от двух главных дистантных рецепторов дублируется. Каждое из полушарий получает от «своего» глаза и «своего» уха «свой картинку» конфигураций раздражений на сетчатке или волосках улитки. Картинки эти не вполне одинаковы. Поскольку глаза расставлены, проекции того же раздражителя на их сетчатках несколько смещены одна относительно другой. Аналогично, если источник звука находится сбоку, звук приходит к более далекому уху несколько позже и ослабевает чуть сильнее. Это явление называют диспаратностью.
Полушария головного мозга, хотя и самостоятельны, но работают вместе. Два различающихся «изображения» того же предмета или звука накладываются друг на друга и сливаются в одно. А куда девается их разница? Она дает информацию о положении раздражителя в пространстве.
Такой способ определения расстояния до предметов используется и техникой. Например – в оптических дальномерах фотоаппарата, артиллерийских дальномерах со стереотрубой и т.д. Он основан на математическом преобразовании, которое называют триангуляцией. Суть его заключается в том, что зная основание треугольника (в нашем случае – расстояние между проекциями предмета) и углы при основании (т.е. угол направления взгляда левого и правого глаза), можно, пользуясь тригонометрическими функциями, вычислить расстояние до предмета. Этим пользуются, например, при топографической съемке местности, расшифровке стереоскопических аэрофотографий и т.д. Мозг только производит эти вычисления автоматически. Но и в этом нет ничего удивительного. Ведь то же самое делает обычный дальномер на фотоаппарате.
О том, что диспаратность изображений на сетчатке двух глаз действительно переживается как удаленность объекта в пространстве, свидетельствует всем известный стереоскоп. Снимки для него делают аппаратом с двумя объективами, расставленными на расстоянии наших глаз. Если затем полученные снимки рассматривать отдельно, каждый соответствующим глазом (например, разделив перегородкой), то мы увидим один снимок, но объемный. Аналогично создается восприятие глубины звука в стереопроигрывателях (два микрофона на расстоянии ушей, две отдельных записи с них и два отдельных динамика).
Итак, предметное отражение основывается на информации, которую дает диспаратность сенсорных отображении того же самого объекта благодаря бинокулярности нашего зрения и бинауральности слуха (т.е. двуглазости и двуухости).
Такое объяснение можно найти во всех учебниках психологии уже в течение ста лет. Оно верно, но не совсем. Дело в том, что диспаратность проекций сама по себе еще не позволяет определить расстояние. Ведь для триангуляции мало знать базу, надо еще, чтобы линии взора обоих глаз пересекались в одной точке стимула (тогда только получится треугольник). Это обеспечивается сведением глаз так, чтобы они оба смотрели в ту же точку. Его называют конвергенцией.
Но чем обеспечивается сама конвергенция? И вот здесь опять вступает в игру диспаратность. Изображения от обоих глаз сливаются только в том случае, если угловое их смещение друг относительно друга составляет от 50” до Г, но не более. Если диспаратность больше, то изображение начинает двоиться. Так автоматически обеспечивается конвергенция, т.е. достаточное сведение взора обоих глаз на рассматриваемом объекте. Конвергенцию вызывают глазодвигательные мышцы. Они же сообщают о характере своих сокращений мозгу. Вот эти сведения о напряжении глазодвигательных мышц и несут, по-видимому, информацию об углах и базе триангуляции. Кое какие сведения дают, по-видимому, и мышцы, устанавливающие хрусталик на фокусировку объекта.
Отметим себе, что в обоих случаях восприятие глубины и соответствующая предметность отражения оказываются связаны с работой мышц и мышечными ощущениями (кинестезиями). Именно добавление этой кинестезической информации к чисто оптической позволяет восприятию выйти из плоскости сетчатки и обрести предметность.
Итак, как будто найдено, откуда извлекается мозгом информация, необходимая для построения образа пространства, в котором находится предмет. Но тут-то нас и ожидает главная неприятность. Математика свидетельствует, что в обычном эвклидовом пространстве, которое мы изучали в школьной геометрии, этой информации недостаточно для определения расстояния до предмета. В эвклидовом пространстве размер предмета и расстояние до него оказываются при триангуляции взаимно-дополняющими переменными. Их произведения могут иметь ту же величину, и когда больший предмет находится дальше, и когда меньший объект находится ближе. Возникает неопределенность. Но ведь мозг-то ее решает. Как правило, мы не видим маленький близкий предмет как большой, но далекий. В чем же дело?
Психолог Люнебург показал, что такое положение может иметь место в одном случае, если зрительный анализатор воспринимает предметы не в эвклидовом, а в римановом пространстве постоянной кривизны. В этом случае физическая конфигурация раздражителя содержит однозначную информацию о его положении в пространстве и его величине.
Результат поразительный и неожиданный. Психика решает задачу предметного отражения, пользуясь сложнейшей абстрактной моделью пространства, которую лишь столетие тому назад «придумала» новейшая геометрия!
Но может быть, это лишь теоретические гипотезы? Нет, о том же говорят опыты. Например, одно из необычных свойств риманова пространства заключается в том, что параллельные прямые в нем выгибаются. Были проведены опыты. Человеку предлагали расположить в параллельной глазам плоскости свисающие нити или лампочки (место подвешивания закрыто блендой). И что же? Это удавалось только, когда они были на расстоянии около 1,5 метра от точки наблюдения. Если они были дальше, то человек располагал их фактически выпукло к себе, а если ближе, то вогнуто. Именно так выгибается пространство по формулам римановой геометрии.
Интересно, что в римановом пространстве для триангуляции годится любая база, т.е. предметное отражение возможно при любом количестве глаз. Лишь бы их было больше одного.
Лишь бы их было больше одного! Это важная оговорка. Ведь мы знаем, что при рассматривании одним глазом мир не теряет своей глубины. Да и сам механизм бинокулярного стереозрения работает лишь до дистанции 1300-2600 метров (далее оси глаз становятся практически параллельны). И все-таки мы видим относительную удаленность куда более дальних предметов. Наконец, вообще не может быть речи о диспаратности при рассматривании картин, кинофильма и других плоских изображений. И все-таки мы видим в них глубину. Восприятие всегда предметно! Оно всегда выносит воспринимаемый объект в реальное пространство. Переживание пространства – неотъемлемая сторона восприятия.
Откуда же тут берет психика информацию о локализации объекта восприятия в пространстве? Тщательные и разнообразные эксперименты показали, что в этих случаях необходимая информация извлекается в значительной мере из самой структуры зрительных ощущений, из свойств проекции объекта в глазе.
К таким свойствам, в частности, относятся:
1. Совмещения и перекрывание. Проекция вещей на сетчатку отличается от самих вещей тем, что отдельные части предмета налагаются друг на друга и одни предметы срезают части других. Так, например, в проекции кубика (рис. 3) на сетчатке передние кромки перекрывают задние и это переживается как глубина фигуры.
Аналогично на рисунке 4 одни фигуры перекрывают другие, и перекрытые воспринимаются как находящиеся позади.
2. Перспективное сокращение, т.е. схождение на проекции параллелей (рис. 5), уходящих вдаль, а также уплотнение структуры (рис. 6).
Сюда же относится восприятие объектов, расположенных выше, как более удаленных (рис. 7).
3. Различие величины проекции. Среди однородных предметов большие воспринимаются, как более близкие (рис. 8). Так, например, в одном опыте освещенные белые воздушные шарики помещали в темной комнате рядом. Так их й видел испытуемый, пока они были одинаковой величины. Но стоило начать один из них надувать, а из другого выпускать воздух (к шарикам была подведена трубка), и человек воспринимал раздувающийся шар как двигающийся к нему, а уменьшающийся – как удаляющийся от него.
Другие опыты показывают, что при восприятии удаленности учитываются также размеры знакомых предметов. Так, например, в одном из опытов испытуемые рассматривали через отверстие в ящике игральные карты разных размеров. Карты, больше обычных, испытуемые видели ближе, чем они находились в действительности, а меньшие, чем обычно, – дальше их действительного расположения.
4. Распределение света и тени, блики и контраст. Более яркие и четкие участки воспринимаются как находящиеся ближе. Между прочим, это имеет следствие, что иногда выпуклые и вогнутые поверхности меняются местами, когда фотографию переворачивают вверх ногами (см. рис. 9). Ту же роль играет так называемая «воздушная перспектива» – уменьшение яркости, насыщенности цвета и четкости деталей объекта при его удалении.
Vv'V v'.'v : vi': ;C. i/Л Г‘
Рис. 7
•• *•#••• * , V.V.'V – • «««»«»«««
O0°oo°
• •
Рис. '6
Рис. 8
5. Параллакс движений глаза. Если мы выглянем из окна едущего поезда, то дальние предметы кажутся «едущими» вместе с нами, а близкие – мчатся в обратном направлении. Вообще, чем дальше предмет, тем меньше сдвигается его проекция на сетчатке в обратную сторону при движениях головы. Поэтому часто, пытаясь определить расстояние, мы двигаем головой туда и обратно, хотя и не сознаем, почему это делаем. Нетрудно заметить, что всеми этими приемами пользуются художники, чтобы создать у зрителей переживание объемности картины, т.е. предметное восприятие изображенных на ней фигур.
Рассмотрим теперь, как осуществляется структурное отражение.
Вопрос этот представляет довольно твердый орешек для психологии. Ведь исходный древний механизм наших зрительных рецепторов дает информацию лишь о мозаике световых и цветовых пятен на сетчатке глаза. Как же ухитряется восприятие организовать эту мозаику зрительных ощущений, вычленить определенные ее элементы как «принадлежащие» одному предмету, вылепить из них фигуру предмета, отодвинуть ее от фона, расчленить на целостные детали и т.д.?
Достаточно вспомнить, например, поиски грибов маслят, шляпка которых лишь неопределенным коричневым пятнышком ложится в мешанине зеленых, желтых, оранжевых и бурых пятен опавшей листвы, травы, хвои и земли, чтобы почувствовать, какие это нелегкие задачи.
Какой же информацией пользуется мозг, чтобы решить эти задачи?
Исследования показали, что для зрительных восприятий первую и решающую роль здесь играет резкий контраст (перепад) светлот, т.е. то, что мы называем контуром или границей объекта.
Если указанных перепадов яркости нет, то структурирование поля зрения не возникает. При совершенно однородном поле зрения восприятие оказывается невозможным. Так, в одном эксперименте испытуемых помещали в круглую комнату без окон, абсолютно однородно окрашенную и равномерно освещенную. Испытуемые не видели в ней ничего. У них было ощущение, что они находятся внутри бесформенного облака цветного тумана, не имеющего определенного положения в пространстве (как бы плыли в непрозрачном окрашенном молоке).