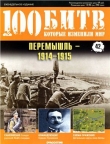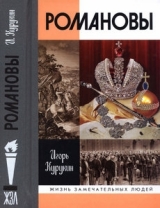
Текст книги "Романовы"
Автор книги: Игорь Курукин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц)
Летом того же 1717 года Пётр в шутливой манере сообщал любимой супруге о свидании в Париже с юным королём Людовиком XV: «Объявъляю вам, что в прошлой понеделник визитовал меня здешней каралища, которой палца на два более Луки нашева, дитя зело изрядная образом и станом, и по возрасту своему доволно разумен, которому седмь лет», – и сообщал о намерении заказать её гобеленовый портрет: «Тапице-рейная (шпалерная. – И. К.) рабо[та] здесь зело преславъная, того для пришли мою партрету, что писал Мор, и свои обе: которую Мор и другую, что француз писали, такъже и крепиша с племянником, а буде оной уехал, то с Орликовым, дабы здесь тапицерейною работою оных несколко зделать», – а также о том, что отослал с бельгийского курорта Спа очередную любовницу: «Инаго объявить отсель нечего, только что мы сюды приехали вчерась благополучно; а понеже во въремя пития вод домашней забавы дохторы употреблять запърещают, того ради я матресу свою отпустил к вам; ибо не мог бы удержатца, ежели б при мне была».
А через два дня Пётр снова обращался к жене, беспокоясь о здоровье дочерей: «Писмо твоё от 11 д. сего месеца вчерась я получил, в котором пишешь о болезни дочерей наших, и что первая, слава Богу, свободилась, а другая слегла, о чём и к[нязь] Александра Данилович пишет ко мне; но переменной штиль ваш так меня опечалил, о чём скажет вам доноситель сего, ибо весьма иным образом писана. Дай Боже, чтоб о Аннушке так слышать, как о Лизенке. А что ты пишешь ко мне, чтоб я скоряя приехал, что вам зело скушно, тому я верю; только шлюсь на доносителя – каково и м[н]е без вас, и могу сказать, что, кроме тех дней, что я был в Версалии и Марли, дней з 12, сколь великой плезир имел! А здесь принужден быть несколько дней, и когда отопью воды, того же дня поеду...» Впрочем, и во время лечения царь любил выпить любимого венгерского или чего покрепче, но в письмах уверял, что больше пяти бутылок в день не употребляет, «а крепиша по одной или по две, только не въсегда: иное для того, что сие вино крепъко, а иное для того, что его ретко».
Он постоянно писал Екатерине о ходе работ на строительстве полюбившейся обоим резиденции в пригороде Ревеля – нынешнем таллинском Кадриорге. Июнь 1719 года: «...Огород новой зело изрядной, и деревья с морской стороны или от норда зело хораши посажены, а с сюдной почитай всё переменять; а шпалер не единова дерева не посажено, в чём Нероноф солгал. Теперь равъняют двор, что за палаты будет; а в агароде земленая работа вся отделана. Правъда сказать, что диковинка будет, как отделаетца! Мы, чаю, позавътрее пойдем отсюды к Ангуту. Посылаю при сём цветок да мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, всё весело здесь; только когда на загородной двор приедешь, а тебя нет, та очень скушно. Дай Боже в радости паки вас видеть!» Июль 1723 года: «...Огород, которой 2 года как посажен, так разросся, что веры нельзя нять; ибо оди-накие деревья большия, которые вы видели, уже в некоторых местах срослись вет[в]ьми через дороги, и любимое тёткина дерева, у которого сук подобен средоуказательному персту без нохтя, изрядна принелось; каштаны такъже все изрядно кроны имеют. Полаты только снаружи домазавают, а вънутри готовы, и единым словом сказать, что едва ль где инде такой дом правильной имеем. При сём посылаю вам клубники, которая ещё до приезду нашего на грядах поспела, также и вишни; зело удивъляюсь, что так рана здесь поспевает, а один градус с
Питербурхом, и для сей куриозы посылаю вам оных фрукъ-тов...» В июне 1724 года император, восторгаясь своей новой столицей, не мог удержаться от того, чтобы не сказать супруге, как тоскует по ней: «...как дитя в красоте растущее, и в огороде повеселились; толко в полаты как войдёт, так бежать хо-четца – всё пусто без тебя».
Екатерина до конца жизни оставалась неграмотной, но её письма царю, даже будучи написаны рукой канцеляриста, до некоторой степени передают установившуюся в семье атмосферу добродушно-грубоватого подтрунивания. «...Вчерашнего дня, – сообщала она супругу из Ревеля в июле 1714 года, – была я в Питер Гофе, где обедали со мною 4 ковалера, которые по 290 лет. А именно Тихон Никитич, король Самояцкой, Иван Гаврилович Беклемишев, Иван Ржевской, и для того вашей милости объявляю, чтоб вы не изволили приревновать».
Супруга постоянно просила царя «уведомить о состоянии своего дражайшего здравия», жила его интересами и бедами; всегда старалась поздравить с памятными датами – днями сражений при Лесной, Полтаве или Гангуте, – и сама отмечала их в его отсутствие; например, в июле 1719 года она сообщала: «...про здоровья ваше ели и венгерское пили, и при том сама палила трижды из пушек», – но при этом напоминала и о датах их совместной жизни: дне своего рождения (5 апреля) или дне свадьбы. Так же, как Пётр, Екатерина подшучивала над не всегда смешными «оказиями»: «...шёл он бедненкой (подвыпивший француз-садовник. – И. К.) ночью чрез канал, сшолся с ним напротив Ивашка Хмелницкой, и каким-та побытом с того мосту столкнув, послал на тот свет делать цветников». Она регулярно информировала мужа о здоровье и поведении детей и особенно о наследнике Петре Петровиче, который, как она считала, в двухлетнем возрасте обнаруживал любезные родительскому сердцу склонности. «...Оной дорогой наш шишечка часто своего дражайшаго папа упоминает и при помощи Божии во своё состояние происходит и непрестанно веселитца мунштированьем салдат и пушечною стрел-бою», – сообщала супруга государю в августе 1718 года, через полтора месяца после смерти царевича Алексея.
Екатерина ценила заботу мужа и его подарки: «Особливо благодарствую за присланные кружива брабанские, которые я також в целости получила. А что изволили вы милостиво ко мне писать, чтоб прислать обрасцы, какие мне ещё надобны кружива; и хотя я и не хотела тем утрудить вашу милость, однако ж при сём образец посылаю и прошу против оного приказать зделать на фантанжи, толко б в тех круживах были зде-ланы имяна ваше и моё, вместе связанные».И конечно же она тоже стремилась порадовать вечно находившегося в дороге Петра подарками – посылала «кафтан, два камзола, штаны, партупей; дай Боже, на здравие носить», «полпива и свежепро-солённых огурцов», «помаранцов и других овощей и венгерского вина», «винные ягоды и дыни из нашего огорода», «фиги», «здешнева огорода фруктов», цитроны и «аплицины», «яблоки и орехи свежие», селёдку Чаще всего среди её презентов были любимое царём вино «венгерское крепкое и сладкое» и водка – «крепыша шесть бутылок», «крепыша несколко бутылок» или «крепиша три фляши». Пётр спешил отдариться соответственно. «Посылаю к вам вина бургонского 7 бутылок, да другово красного 12 бутылок. Дай Боже вам здорово пить!» – писал он с дороги из Астрахани в Петербург в декабре 1722 года.
Екатерина не забывала о том, как она стала царицей, и милостиво прощала Петру его увлечения другими женщинами. Среди них были генеральша Авдотья Ивановна Чернышёва, которую Пётр называл «Авдотья бой-баба», славившаяся красотой княгиня Мария Черкасская, Мария Матвеева, Головкина, Измайлова, княжна Кантемир... Еще одной «метресиш-кой» была камер-фрейлина Екатерины Мария Гамильтон. Когда она наскучила царю, то соблазнила его денщика Ивана Орлова, с которым часто ссорилась и с целью примирения одаривала любовника подарками, в том числе и вещами, украденными у Екатерины. В 1718 году Пётр повелел «девку Марью Га-монтову, что она с Иваном Орловым жила блудно и была от него брюхата трижды и двух ребёнков лекарствами из себя вытравила, а третьего удавила и отбросила, за такое душегубство, также она же у царицы государыни Екатерины Алексеевны крала алмазные вещи и золотые, в чём она с двух розысков повинилась, казнить смертию». Екатерина пыталась заступиться за свою фрейлину, но царь был непреклонен: убитые младенцы, возможно, были его детьми, а этого, как и измены, он фаворитке не простил.
«Також хотя и есть, чаю, у вас новые портомои, однакож и старая не забывает и посылает дюжину рубах и галздуков новых, такьже камзол и шлафрок», – писала Екатерина мужу в Париж из Амстердама в 1717 году. И по поводу отосланной мужем из Спа любовницы (кажется, это была её камер-юнгфера Анна Крамер) не сердилась – но всё же не удержалась от ехидного замечания: «Что же изволите писать, что вы матресишку свою отпустили сюда для своего воздержания, что при водах невозможно с нею веселитца, и тому я верю; однакож болше мню, что вы оную изволили отпустить за её болезнью, в которой она и ныне пребывает, и для леченья изволила поехать в Гагу; и не желала б я (от чего Боже сохрани!), чтоб и галан[т] (любовник. – И. К.) той матресишки таков здоров приехал, какова она приехала. А что изволите в другом своём писании поздравлять имянинами старика и шишечкиными; и я чаю, что ежели б сей старик был здесь, то б и другая шишечка на будущей год поспела».
Пётр любил называть себя стариком при молодой жене – и она, как могла, убеждала мужа, что он вовсе не старик, а очень даже импозантный мужчина и это могут подтвердить многие её ровесницы. В июле 1719 года Екатерина писала мужу: «Та-кож изволили означить позавтрешним стариком. Дай Бог мне, дождавшись, верно дорогим называть стариком, а ныне не признаваю, и напрасно затеяно, что старик: ибо могу поставить свидетелей старых посестрей; а надеюсь, что и вновь к такому дорогому старику с охотою сыщутца».
Письма Екатерины и Петра, несмотря на не слишком изысканные шутки, дышат нежностью и теплотой; в них отразилось чувство, связывавшее их больше двадцати лет, о котором свидетельствуют постоянно встречающиеся понятные только им намёки и милые домашние прозвища, выражения беспокойства о здоровье и безопасности друг друга, сетования на тоску в отсутствие близкого человека. «Как ни выйду [в Летний сад], – писала царица, – часто сожалею, что не вместе с вами гуляю». Ответное письмо – «А что пишешь, что скушно гулять одной, хотя и хорош огород, верю тому, ибо те ж вести и за мною – только моли Бога, чтоб уже сие лето было последнее в разлучении, а впредь бы быть вместе» – Пётр написал накануне Гангутского сражения. Екатерина тут же подхватила мысль мужа: «Токмо молим Бога, да даст нам, чтоб сие лето уже последнее быть в таком разлучении», – а затем ещё не раз ожидала «счастливого сюда прибытия» вечно занятого делами Петра.
В Екатерине не было изящества её дочери Елизаветы, интеллекта Екатерины II, но Пётр был без ума от жены: она стала матерью любимых им детей, настоящей заботливой хозяйкой дома, которого у царя раньше никогда не было. Голштинский министр Генинг Бассевич, кажется, подметил главное в их отношениях: «Супруга его была с ним, окружённая, согласно воле монарха, царским блеском, который ему всегда был в тягость и который она умела поддерживать с удивительным величием и непринуждённостью. Двор её, который она устраивала совершенно по своему вкусу, был многочислен, правилен, блестящ, и хотя она не могла вполне отменить при нём русских обычаев, однако ж немецкие у неё преобладали. Царь не мог надивиться её способности и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею. Они часто путешествовали вместе, но всегда в отдельных поездах, отличавшихся один величественностью своей простоты, другой – своею роскошью. Он любил видеть её всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась».
Лучше, пожалуй, и не скажешь. Екатерина владела редким даром – врождённым тактом и чувством меры. Безграмотная крестьянка смогла естественно играть роль государыни – и не московской боярыни, а светской дамы, пленявшей гостей танцем и беседой; она умела проникнуться интересами мужа, радоваться его успехам и переживать его неудачи.
Сохранившиеся документы петровского двора показывают Екатерину погружённой в хозяйственные заботы дворцового обихода. Царица закупала вина и водку; приобретала заморские колбасы или «чекулад», прибывавшие в Петербург на иностранных судах; приказывала доставить «про государев обиход две тысячи раков больших» или астраханских арбузов и винограда; посылала мужу свежую клубнику и огурчики.
В этой сфере она чувствовала себя вполне уверенно, как и в обществе придворных за карточным столом или в качестве арбитра в отношениях членов царского семейства. В свою очередь, Пётр нежно заботился о «сердешнинком друге», мог послать букет цветов из «ревельского огорода», бегло сообщал о походах и сражениях, но в серьёзные дела не посвящал, и никаких следов участия Екатерины в управлении государством нет, если не считать таковыми умение вовремя замолвить слово за провинившегося или сгладить разгоравшийся конфликт. Однако именно ей император решил предоставить особый, независимый от брака титул императрицы и тем самым преимущественное право на престол. Его указ о предстоящем событии гласил, что Екатерина «во многих воинских действах, отложа немощь женскую, волею с нами присутствовала и елико возможно вспомогала, а наипаче прудской баталии с турки... почитай отчаянном времяни, как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армеи и от них несумнен-но всему государству».
Утром 7 мая 1724 года по крытому красным сукном помосту, ведшему из дворцовых палат Московского Кремля в древний Успенский собор, вдоль выстроившихся рядами гвардейцев в центре торжественной процессии шла уже немолодая женщина в тяжёлой, «по испанской моде», робе пурпурного цвета с золотым шитьём (длинный шлейф несли пять придворных дам) и головном уборе, осыпанном драгоценными камнями и жемчугом. Под руку её вел будущий зять, герцог Голштинский Карл Фридрих, а сопровождали в храм в качестве «ассистентов» великий канцлер Г. И. Головкин и генерал-адмирал Ф. М. Апраксин. Возглавляли процессию Пётр I и вся военная знать – генералы и бригадиры империи, а замыкали камергеры, кавалеры двора, дамы и девицы «первого достоинства» и «прочая шляхта национальная».
Через несколько минут после того как процессия заполнила собор, император повелел приступить к церемонии коронации: Екатерина прочла «Символ веры», преклонила колени, и сам Пётр возложил на неё роскошную коронационную мантию с орлами и драгоценную корону, а первый по сану новгородский архиерей Феодосий вручил «державный глобус». В этот момент под «многолетие» певчих грянул орудийный залп вместе с беглым огнём десяти тысяч солдат из собранных в старой столице полков. Очевидцы заметили слёзы на лице Петра; Екатерина же в порыве чувств «хотела как бы поцеловать его ноги; но он с ласковою улыбкою тотчас же поднял её». Вечером двор отмечал событие торжественным обедом в Грановитой палате, а для народа в Кремле был устроен роскошный праздник с жаренными на вертелах быками и фонтанами белого и красного вина, подводившегося по трубам с колокольни Ивана Великого.
Коронация стала кульминацией неслыханной карьеры императрицы, начавшей свой путь на трон из крестьянской избы. Вопреки всем социальным рамкам, Екатерина сумела стать не очередной «метрессой», но самым близким и необходимым непредсказуемому и вспыльчивому царю человеком; она была заботливой женой и матерью, одобряла и предупреждала любые желания супруга, беспокоилась о его здоровье, а также умела успокаивать его во время припадков безудержного гнева. Правда, прочная взаимная привязанность и семейное тепло, а также необходимость узаконить рождённых детей могли объяснить вступление царя в официальный брак с Екатериной, но не демонстративную коронацию супруги, хотя Пётр и ссылался на пример «православных императоров греческих». Едва ли он обольщался насчёт государственных способностей Екатерины – скорее уж рассчитывал на поддержку своего ближайшего окружения, которое позволило бы его жене относительно спокойно царствовать, но не дало бы ей отказаться от его реформ.
Однако именно с этой стороны Петра постиг удар, которого он не ожидал. 8 ноября того же года был арестован управляющий канцелярией Екатерины Виллим Моне – по официальной версии, за злоупотребления и казнокрадство. Современники же считали, что главной причиной была предосудительная связь императрицы с красавцем-камергером. Брат любовницы молодого Петра I Анны Моне и генеральс-адъютант царя по его воле стал камер-юнкером царицы Екатерины, а затем, уже по собственной инициативе, её фаворитом. За пять-шесть лет он вошёл в такую «силу», что к нему за помощью не стеснялись обращаться фельдмаршалы, губернаторы и архиереи. За протекцию фаворита одаривали деньгами, лошадьми, собаками, драгоценностями и даже имениями. Все прошения объединяло то, что для их исполнения надо было обойти закон, в чём Моне преуспевал. При коронации Екатерины он был пожалован в камергеры, но получить патент уже не успел. Блестящего кавалера сгубили тщеславные слуги. Сначала секретарь Монса Егор Столетов не сумел скрыть доверенные ему важные письма, затем передатчик любовных посланий придворный шут Иван Балакирев рассказал о придворных «тайностях» своему приятелю Ивану Суворову, а тот поделился с другим – и последовал донос. Сам царь допрашивал Столетова и шута – и узнал всё об отношениях жены с молодым придворным. 16 ноября на Троицкой площади Петербурга Монсу отрубили голову по обвинению в лихоимстве.
Имя императрицы на следствии, естественно, не упоминалось; тем не менее Пётр повёз жену смотреть на голову казнённого «галанта». По данным австрийских дипломатов, император велел опечатать драгоценности супруги и запретил исполнять её приказания. Согласно свидетельствам капитана Ф. Вильбуа и французского консула Виллардо, в это время он уничтожил заготовленный акт о назначении её наследницей. Царица откровенно боялась за своё будущее, хотя и пыталась, как сообщал саксонский посланник Лефорт, вернуть расположение мужа, на коленях вымаливая у него прощение.
Развязка произошла в январе 1725 года – колесо Фортуны сделало новый оборот. Официозная версия событий была составлена главным придворным идеологом Феофаном Прокоповичем. Феофан, «самовидец» событий, о многом умолчал, но подробно описал, как по кончине императора во дворце собрались члены Сената, генералитет и лица «из знатнейшего шляхетства» и после пространных речей о праве на трон Екатерины признали его «без всякого сумнительства». Более драматическую трактовку событий дал в своих записках голштинский министр Бассевич. Ему якобы стало известно о готовившемся заговоре против «императрицы и её семейства», после чего сам он вместе с Меншиковым начал операцию по спасению Екатерины. Именно Бассевич привёл знаменитый рассказ о последней попытке Петра I назвать имя наследника: «Император пришёл в себя и выразил желание писать, но его отяжелевшая рука чертила буквы, которых невозможно было разобрать, и после смерти из написанного им удалось прочесть только первые слова: “Отдайте всё...”». На деле же Пётр в первые дни болезни явно рассчитывал на её благополучный исход, а потом события стали развиваться слишком быстро. Сообщения французского, шведского и голландского дипломатов от 26 января говорят о состоявшемся в середине дня заседании сенаторов и президентов коллегий, где был найден компромисс: наследником становился законный в глазах большинства населения сын царевича Алексея Пётр при регентше Екатерине и под контролем высшего государственного органа – Сената.
Рассказ о заговоре против Екатерины явно не соответствует действительности. Ограниченную в правах регентшу свергать не было никакой необходимости. Заговор был организован как раз против регентства и в пользу самодержавия Екатерины. Её «партия» оказалась сильнее. 26 января дворец был окружён стражей. Как следует из журнала приказов по Преображенскому полку, ещё 24-го числа некоторых солдат и унтер-офицеров приглашали к «кабинет-секретарю господину Макарову», а нёсшим дежурство во дворце приказали, чтобы «на карауле стояли опасно и шуму б не было». В ночь с 27 на 28 января искусный дипломат Пётр Толстой пугал собравшихся во дворце вельмож неизбежностью усобицы при царе-маль-чике. Толстой доказывал необходимость сохранения в империи самодержавия Екатерины, поскольку «все требуемые качества соединены в императрице: она приобрела искусство царствовать от своего супруга, который поверял ей самые важные тайны; она неоспоримо доказала своё героическое мужество, своё великодушие и свою любовь к народу». Его противники (президент Юстиц-коллегии П. М. Апраксин, сенаторы Д. М. Голицын и И. А. Мусин-Пушкин, фельдмаршал и президент Военной коллегии Н. И. Репнин, дипломат В. Л. Долгоруков, канцлер Г. И. Головкин) отстаивали преимущество законных учреждений и традиций над «силой персон»; тогда как для Толстого и Меншикова личность самодержца явно была выше любого закона.
После ожесточённых споров победила «партия» Меншикова и Толстого. Они и их приверженцы сумели сорвать достигнутую было договорённость. Фельдмаршал Меншиков привёл с собой гвардейских офицеров, от имени которых без всякой риторики выступил майор Андрей Ушаков: «Гвардия желает видеть на престоле Екатерину и... она готова убить каждого, не одобряющего это решение». Новая политическая сила – петровская гвардия – решила спор о престолонаследии. Сделать выбор гвардейцам было нетрудно – для них, скорее всего, проблемы выбора не существовало, преимущество «полковницы» было очевидно и осязаемо.
А что же сама Екатерина? Оказавшись в центре борьбы за власть, она, кажется, без колебаний встала на сторону старых и близких друзей. Пришлось выйти из образа убитой горем вдовы, которую с трудом оторвали от тела мужа, чтобы приготовить для своих сторонников, по словам Бассевича, «векселя, драгоценные вещи и деньги». Расходные книги царского Кабинета сообщают, что её воцарение обошлось в 30 тысяч рублей: 23 тысячи выплатили солдатам гвардии, остальное пошло на «тайные дачи» Ушакову и другим офицерам. А в апреле 1725 года 27 солдат-преображенцев во главе с сержантом Петром Ханыковым попросили об особой награде за то, что они стояли «на карауле у императорского величества бессменно генва-ря с 14 по 29 число». Сержант получил 50 рублей, а рядовые – по 25 рублей за то, что обеспечили изоляцию умиравшего императора.
Первый манифест нового царствования извещал о вступлении на престол Екатерины по воле самого Петра, «понеже в 1724 году удостоил короною и помазанием любезнейшую свою супругу и великую государыню нашу императрицу... за её к российскому государству мужественные труды». Но сам манифест был издан не от имени Екатерины – присягать новой государыне «правительствующий Сенат и святейший правительствующий Синод и генералитет согласно приказали», что весьма походило на слегка замаскированное избрание монарха теми, кто обладал реальной властью. В России начиналась «эпоха дворцовых переворотов».
«Матерь всероссийская»
Началось короткое и неяркое царствование Екатерины 1 (1725—1727). Но «женское правление», впервые торжественно провозглашённое в России, вызвало проблемы. Не случайно в торжественном слове в день «воспоминания коронации» Екатерины в 1726 году Феофан Прокопович, во всеуслышание признав наличие недовольных тем, что императрица «женское есть», не обличал их, а старался убедить, приводя в пример древних цариц Клеопатру и Зенобию и королеву Изабеллу Кастильскую.
Насколько было успешно пропагандистское сравнение «матери всероссийской» с языческими царицами сомнительного, с точки зрения христианской морали, поведения, сказать трудно. Но торжество недавней царской наложницы явилось наглядным воплощением нового принципа служения регулярному государству, когда низкое происхождение уже не могло быть преградой на пути к чинам, почестям и «благородному» статусу. Начавшаяся «демократизация» правящего слоя не могла не пугать представителей старых фамилий, но являлась мощным стимулом к усердию для выходцев из «подлых» сословий и направляла их способности и энергию в нужное русло. Не случайно при всех явных недостатках этой системы она оставалась неизменной до самого конца существования монархии.
Однако сидящая на императорском престоле «баба» со всеми присущими её полу слабостями явно «снижала» в массовом сознании подданных сложившийся в прошлые века образ «великого государя царя». Едва ли сподвижники Петра действительно могли преклоняться перед далёкой от государственных дел женщиной сомнительного происхождения, ими же самими возведённой на престол.
Обретение власти не сделало домохозяйку государственным человеком. Конечно, Екатерина обещала «дела, зачатые трудами императора, с помощью Божией совершить» и по мере возможностей следовала этому обещанию. Она утвердила уже рассмотренные Петром штаты государственных учреждений, отправила в далёкое путешествие экспедицию капитан-командора Витуса Беринга, дала аудиенцию первым российским академикам. В новой столице продолжали мостить улицы и ставили первые скамейки для отдыха прохожих на «Першпективной дороге» – будущем Невском проспекте. Именной указ государыни от 5 июля 1726 года требовал даже от отставных дворян под страхом штрафа и битья батогами «носить немецкое платье и шпаги и бороды брить; а ежели где в деревнях таких людей, кто брить умеет, при них не случится, то подстригать ножницами до плоти в каждую неделю по дважды». На русскую службу по-прежнему охотно принимались иностранцы.
В первые дни после восшествия Екатерины царская резиденция была доступна поздравлявшим и просителям. Но уже в феврале императрица запретила караулу пускать во дворец людей «в серых кафтанах и в лаптях», а в октябре приказала все прошения на её имя, за исключением доносов «по первым двум пунктам»3, принимать только в «надлежащих местах». Придворным дамам запрещалось уезжать домой без спроса, дежурным камергерам велено было не пускать никого в «переделал ьню» и не разрешать желающим играть на бильярде, поскольку «та забава имеетца для её величества».
Капитан-француз Ф. Вильбуа сделал императрице комплимент: «Немногие умели пришпорить лошадь с такой грациозностью, как она». Но, судя по всему, этим её управленческие способности и ограничивались. Она умела поддержать разговор на русском и немецком языках, усвоила внешний облик сановного величия и имела некоторые, хотя и весьма скромные, представления о стоявших перед страной проблемах, но руководить государственными делами просто не могла. Отбыв положенный траур, старевшая императрица стремилась наверстать упущенное в молодости с помощью фаворитов, нарядов, праздников и прочих увеселений, не отличавшихся изысканностью вкуса: «Господа майоры лейб-гвардии и княгиня Голицына кушали английское пиво большим кубком, а княжне Голицыной поднесли другой кубок, в который её величество изволила положить 10 червонных». Саксонский посол Иоганн Лефорт, передавая свои петербургские впечатления, боялся, что дома ему никто не поверит: «Я рискую прослыть лгуном, когда описываю образ жизни русского двора. Кто бы мог подумать, что он целую ночь проводит в ужасном пьянстве и расходится, это уж самое раннее, в пять или семь часов утра».
Придворные «журналы» за 1725—1726 годы подтверждают образ жизни императрицы с полуночными застольями и обильными возлияниями. Для её двора ежегодно выписывались венгерские и французские вина, а при необходимости делались экстренные закупки у иностранных и местных торговцев. «У француза Петра Петрова взято в комнату её императорского величества водок гданьских, померанцевой, лимонной, тимонной (тимьянной. – И. К.), салдарейной, коричневой, анисовой, гвоздичной, бадьянной – всего 220 штофов» – обычная запись кабинетных расходов императрицы. По заложенной Петром традиции она ещё посещала верфи, госпитали и выезжала на пожары, но большую часть времени посвящала прогулкам «в огороде в летнем дому», по другим резиденциям и по улицам столицы, застольным «забавам» и «трактованиям».
«8-го [июня]. После полдень был у её императорского величества герцог Голштинский, а в 5-м часу пополудни её величество изволила гулять по огороду. И потом её величество изволила быть в еловой алее против партикулярной верфи, где изволила смотреть спуску торншхойта... Сегодня из Га-ландии привёз птичник Симон Шталь заморских птичек и зверков разных родов.
11-го. Её императорское величество изволила смотреть из своих апартаментов идущих в Кронштат галер под командой генерал-лейтенанта Бона, а пополудни в 6-м часу была аудиенция грузинскому принцу.
13-го и 14-го. Все сии оба дня её императорское величество изволила гулять в саду и при ней многие господа из министров и придворные.
15-го. После полдень у её величества была государыня цесаревна Анна Петровна. В 5-м часу пополудни её величество изволила гулять по огороду и смотрела работы в новых Летнего дому палатах, что подле каналу, и указала ещё делать балконы под верхними окнами, чтоб ход был внутрь двора круг палат на галерею»14.
Прежний политический курс проводился гораздо менее энергично. Сразу же после смерти Петра прекратились заседания комиссии по подготовке нового Уложения. Многие её члены нашли себе иные занятия, несмотря на приказ Екатерины от 1 июня 1726 года пополнить комиссию выборными из разных сословий и срочно начать «слушать» уже готовый текст.
Часто личная инициатива Екатерины представляла собой не более чем карикатуру на петровские замыслы. Знаменитые ассамблеи из средства обучения светскому обхождению и места делового общения превращались в разгульные вечеринки для узкого круга придворных; выдвижение талантливых и умелых помощников – в пожалования новым фаворитам и крестьянским родственникам императрицы. При Петре их держали подальше от столицы, но Екатерина после воцарения распорядилась доставить сестёр и братьев с супругами и детьми (всего 22 человека) в Петербург. Так появились дворяне Гендриковы, Скавронские и Ефимовские, а братья государыни Карл и Фридрих Скавронские стали в 1727 году графами Российской империи.
Главной своей государственной задачей императрица считала устройство достойных «партий» для дочерей. Вопрос о браке старшей, Анны, был уже решён Петром, и в результате этого союза в круг высшей российской знати вошёл герцог Карл Фридрих Голштинский. Екатерина I как заботливая тёща хотела во что бы то ни стало вернуть зятю земли, отнятые у его герцогства Данией, не останавливаясь перед неизбежным международным конфликтом. В мае 1726 года императрица велела вооружить пушками свою яхту и собиралась лично возглавить флот в походе на Данию. Но в Балтийское море вошли английская и датская эскадры и адмирал Чарлз Уэйджер передал русским властям письмо своего короля, объявлявшего о недопустимости военного конфликта на Балтике. В тот же день Апраксин доложил, что Кронштадт не готов к обороне. Начинать войну без союзников и при превосходстве противника на море было невозможно; пришлось ограничиться приведением в порядок укреплений Кронштадта и Ревеля. В результате этой авантюры внешнеполитическая ситуация для России ухудшилась: в 1726 году Голландия, а в 1727-м Швеция и Дания официально примкнули к враждебному ей Ганноверскому союзу.