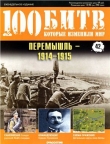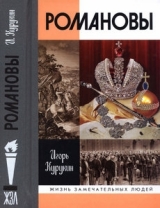
Текст книги "Романовы"
Автор книги: Игорь Курукин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)
Таким виделся Пётр не только священникам и их простодушной пастве, но и представителям того общественного слоя, который в школьных учебниках именуют «господствующим классом» – для них и без того тяжкая служба дополнилась обязанностью учиться, а доход становился тем меньше, чем больше требовало от их крестьян государство. В 1702 году га-личский помещик Евтифей Шишкин, гостивший у сестры, говорил про государя непристойные слова: «Ныне де спрашивают с крестьян наших подводы, и так де мы от подвод и от поборов и податей разорились; у меня де один двор крестьянской, а сходит с него рубли по 4 на год, а ныне де ещё сухарей спрашивают. Государь де свою землю разорил и выпустошил. Только де моим сухарём он, государь, подавится. А живёт де он, государь, всё у Немцов и думы думает с ними. И выбранил де он, Евтифей, его, государя, матерно», – после чего отправился на разбой, был схвачен, повинился в том, что бранил царя «за досаду, что податей всяких спрашивают почасту», и умер «за караулом».
Для царя-реформатора эти «бредни» были всего лишь свидетельством «замерзелого» упорства несознательных подданных, не желавших разделять с ним военные тяготы и посягавших на воздвигаемое им здание регулярного государства. Но оставить их без надлежащего внимания Пётр не мог – он стал первым в нашей истории царём, лично работавшим в допросной, рядом с которой выросли «колодничьи избы» для непрерывно поступавших подследственных. В застенке оказался и царевич Алексей, сын Петра от сосланной в монастырь нелюбимой жены Евдокии Лопухиной.
В 1711 году Алексей по воле отца вступил в брак с кронпринцессой Шарлоттой Софией Брауншвейг-Вольфенбют-тельской. Тогда же сам царь «оформил» свои отношения с бывшей пленницей Мартой Скавронской, в православном крещении Екатериной Алексеевной, причём царевич был её крёстным отцом. От брака Алексея Петровича – ставки в дипломатической игре его отца – 21 июля 1714 года родилась дочь Наталья, а 12 октября 1715-го —сын Пётр. Но принцесса скончалась через десять дней после родов, а императрица Екатерина в том же году разрешилась сыном, которого тоже назвали Петром. В семье назревал конфликт. Старший сын многими качествами пошёл в отца, а Петра трудно назвать хорошим родителем: вечно занятый войной и строительством державы, он скоро стал чужим для Алексея.
Десятого ноября 1716 года в венский особняк австрийского вице-канцлера графа Шёнборна вошёл неожиданный посетитель – «русский принц» Алексей, который попросил убежища от гнева отца. К тому времени Пётр I уже был уверен в никчёмности наследника и его нежелании участвовать в делах. В 1715 году в день похорон жены Алексей получил «Объявление сыну моему», после обвинений в лени и нежелании заниматься государственными делами завершавшееся угрозой: «...известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не мни себе, что один ты у меня сын». Пётр предъявил ультиматум: «Или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах». В октябре 1716 года царь вызвал сына в Копенгаген, где обсуждал с союзниками операции против шведов. Алексей должен был сделать окончательный выбор. Царевич выбрал бегство – поскольку не только не одобрял дела отца, но и признавал: «Его особа зело мне омерзела».
Московского гостя спрятали в альпийском замке, потом в неаполитанской крепости. Там он ждал смерти отца, чтобы вступить на престол при поддержке духовенства и недовольных вельмож. Один из них, адмиралтеец Александр Кикин, сообщал Алексею, что его друзья договорились с австрийским правительством о политическом убежище для наследника российского трона. Но Кикин обманул – в Вене царевича не ждали. Один из лучших дипломатов царя Пётр Толстой и капитан гвардии Александр Румянцев выследили беглеца, затем добились свидания и вручили ему письмо отца: «...обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от Бога властию, проклинаю тебя вечно. А яко государь твой за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить».
Действуя угрозами и посулами, Толстой за несколько дней уговорил Алексея вернуться; в октябре 1717 года через Рим и Вену беглец двинулся в Отечество – навстречу гибели. В феврале 1718 года в Кремле отец торжественно простил сына – но тут же заявил: «Если что утаено будет, то лишён будешь живота». Сразу же в застенках Тайной канцелярии развернулось следствие – царь не верил, что сын мог самостоятельно решиться выступить против него, а Алексей умолчал о многом, что творилось за спиной царя.
Современные исследования доказывают, что царевич не организовывал заговора против отца, но ждал своего часа. При дворе к середине 1710-х годов сложились противоборствующие «партии»: одну возглавлял А. Д. Меншиков, другую – семейство Долгоруковых, приобретавшее всё большее влияние на царя. К взрослевшему наследнику тянулись лица из ближайшего окружения Петра: у Кикина при аресте были найдены «цифирные азбуки» (шифры) для переписки с «большими персонами» – генералом Василием Долгоруковым, князьями Григорием и Яковом Долгоруковыми, генерал-адмиралом Фёдором Апраксиным, фельдмаршалом Борисом Шереметевым. Эта «оппозиция» готовилась после кончины Петра возвести Алексея на трон или сделать его регентом при единокровном младшем брате.
Пётр был слишком умён, чтобы развернуть репрессии против своих ближайших сподвижников; но он сделал их судьями сына-изменника. Алексею пришлось заплатить за всё. 24 июня 1718 года суд в составе 123 министров, сенаторов, военных и гражданских чиновников вынес царевичу смертный приговор за «помышление бунтовное» и за «богомерзкое, двойное, родителей убивственное намерение», связав самих его участников круговой порукой. Через два дня после приговора последовала загадочная смерть Алексея в Петропавловской крепости. Однако какими бы ни были последние часы царевича, в народном сознании его гибель связывали с волей государя. Ветеран Петровской эпохи, солдат Навагинского полка Михаил Патрикеев в далёком Кизляре в 1749 году рассказывал собеседникам: «Знаешь ли, государь своего сына своими руками казнил».
Некоторые авторы считают возможным охарактеризовать сторонников царевича как «умеренных реформаторов европейской ориентации». Однако проблема в том, что в кругу «сообщников» наследника были также люди, настроенные против всяких реформ. Чего же хотел сам Алексей? По словам его крепостной любовницы Ефросиньи, он мечтал о спокойном житье в Москве, «а Питербурх оставит простой город; также и корабли оставит и держать их не будет; а войска де станет держать только для обороны; а войны ни с кем иметь не хотел». Но на последнем допросе 22 июня он признался: «...ежели б до того дошло и цесарь (австрийский император. – И. К.) бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооружённою рукою доставить мне короны российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследства». Было ли это признание правдой – или сломленный царевич ради прекращения мучений готов был сознаться в любых преступлениях? Ответа мы уже не узнаем.
Как бы сочетались в случае вступления Алексея на престол его намерения опереться на духовенство, не «держать» флот и передать российские войска и «великую сумму денег» в распоряжение Австрии с планами просвещённых реформаторов? К тому же Алексей, выступавший против реформ отца, унаследовал отцовский темперамент: мог пообещать посадить на кол детей канцлера Головкина и всерьёз собирался жениться на своей Ефросинье: «Видь де и батюшко таковым же образом учинил». Похоже, приход царевича к власти вызвал бы новые столкновения в имперской верхушке и мог закончиться дворцовым переворотом – или ссылкой, а то и казнью слишком «европейски ориентированных» вельмож. Но избранный Петром I «силовой» выход из кризиса – устранение законного, по мнению общества, наследника – впоследствии тоже привёл к потрясениям.
Возможно, император ощущал перенапряжение сил страны: к концу царствования он желал продолжать преобразования таким образом, «дабы народ чрез то облегчение иметь мог». Однако курс на модернизацию «служилого» государства при сохранении сложившихся социальных отношений не изменился. Пётр издал указ о «непринуждении рабов к браку», публично осуждал произвол помещиков, продававших крестьян «врознь», что, однако, нисколько не мешало подобной торговле. Но колебаний по поводу выбранных им цели и средств у царя, кажется, не было. Завершение переписи совпало с введением паспортной системы и устройством «вечных квартир» для полков регулярной армии. Предусматривалось создание настоящих «военных поселений» – слобод с типовыми, по-ротно поставленными избами, полковым хозяйством, рабочим скотом и даже женитьбой солдат на местных крестьянках, которых в интересах армии предполагалось отпускать из крепостных.
В январе 1725 года послы России в европейских странах получили императорский манифест (он не вошёл в официальное Полное собрание законов Российской империи), предписывавший им немедленно объявить царскую волю: «...Дабы всяких художеств мастеровые люди ехали из других государств в наш российский империум» с правом свободного выезда и разрешением беспошлинной торговли своей продукцией в течение нескольких лет. Государство обязалось предоставить прибывавшим квартиры, «вспоможение» из казны, свободу от постоя и других «служб». Похоже, государь, как в начале своего царствования, хотел организовать очередную «волну» иммигрантов, чтобы дать новый импульс преобразованиям в экономике.
Сохранившиеся в записных книжках Петра намётки предусматривали дальнейшую регламентацию новых порядков: «Уложение слушать», для служилых ввести единые сроки (в декабре) производства в чины, а «мужикам зделать какой малинкой регул и читать по церквам для вразумления».
Последние изданные именные указы Петра конца 1724-го – начала 1725 года – о чиновничьем жалованье, скорейшем сборе подушных денег на гвардию, продаже товаров в Петербурге по ценам, аналогичным московским, расположении к 1 марта полков на новых квартирах – свидетельствуют о неизменности избранного курса государственного строительства. Уже был подготовлен новый свод законов, который в разделе гражданского права («О содержании добрых порядков и о владении собственностью») провозглашал формулу крепостной зависимости: «Все старинные крепостные люди и по вотчинам и поместьям и по иным всяким крепостям люди и крестьяня вотчинником своим крепки и в таком исчислении, как о недвижимом имении положено». В манифесте, которым надлежало объявить введение нового Уложения, говорилось, что подданные «будут мирны, безмятежны и смирении» и каждый может «благочестно пребывать» и «познавать» своё звание. Российская модернизация, проводимая рабами регулярного государства, неуклонно сворачивала на казённо-крепостнический путь.
Но и перед несгибаемым самодержцем встал неизбежный вопрос: кому передать дело своей жизни? По воле царя Россия в 1718 году присягнула новому наследнику – его сыну Петру Петровичу. Но в апреле 1719 года тот неожиданно умер, и четырёхлетний сын казнённого Алексея стал наиболее вероятным кандидатом на престол и объектом политических интриг: за ним начали пристально наблюдать иностранные дипломаты. После долгих колебаний Пётр I утвердил в феврале 1722 года первый в российской политической традиции закон о престолонаследии. Но этот важнейший правовой акт по сути провозглашал беззаконие – право монарха назначать наследника по своему усмотрению и отменять уже состоявшееся назначение по причине «непотребства» кандидата: «Понеже всем ведомо есть, какою авессаломскою злостию надмен был сын наш Алексей и что не раскаянием его оное намерение, но милостью Божиею всему нашему отечеству пресеклось, а сие не для чего иного у него взросло, токмо от обычая старого, что большему сыну наследство давали... чего для заблагорассудили сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле Правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит наследство, дабы дети и потомки не впали в такую злость, как выше писано, имея узду на себе».
Вслед за столь революционным актом царь издал распоряжение о присяге будущему – неназванному – наследнику. Порядок престолонаследия – незыблемая основа любой монархии. Но по петровскому закону выходило, что претендовать на власть могли все возможные кандидаты: дочери государя Анна и Елизавета; его внук и полный тёзка «великий князь Пётр Алексеевич», а также невестка Петра, вдова его брата Ивана царица Прасковья Фёдоровна и её дочери Екатерина, Анна и Прасковья. За спинами кандидатов на престол складывались «партии», членам которых воцарение поддерживаемого ими претендента сулило титулы, чины, ордена, земельные пожалования, что и стало залогом длительной нестабильности.
Единственным мужчиной среди претендентов был семилетний царевич Пётр, на которого дед не рассчитывал. В итоге он выбрал в преемницы любимую Катеринушку. В ноябре 1723 года был издан манифест о предстоявшей коронации Екатерины (по образцу «православных императоров греческих»), поскольку она «во многих воинских действах, отложа немочь женскую, волею с нами присутствовала и елико возможно вспомогала». Церемония коронации состоялась в Москве в мае 1724 года. Однако не прошло и нескольких месяцев, как супруг узнал о предосудительной связи императрицы с красавцем камергером и управляющим её канцелярией Виллимом Монсом. В это же время в очередную опалу из-за неутомимого казнокрадства попал Ментиков, которого Пётр уже лишил поста президента Военной коллегии. Подмётное письмо, оказавшееся справедливым, обвиняло во взяточничестве и других злоупотреблениях членов Вышнего суда сенаторов А. А. Матвеева и И. А. Мусина-Пушкина, генерала И. И. Дмитриева-Мамонова и кабинет-секретаря императора А. В. Макарова. Меншикову и Макарову, пользовавшимся ранее поддержкой Екатерины, новые обвинения могли стоить головы; генерал-фискал Мякинин в последнюю неделю жизни царя дважды, 20 и 26 января 1725 года, докладывал Сенату о взятках и хищениях крупных чиновников.
Царь так и не смог решить, на ком из потенциальных наследников остановить выбор. Его старшая дочь была в 1724 году обручена с голштинским герцогом Карлом Фридрихом. По условиям брачного договора Анна и её муж отрекались от прав на российскую корону; однако документ содержал секретную статью, согласно которой Пётр имел право провозгласить своим наследником сына от этого брака, появления которого на свет ещё надо было дожидаться.
Царь медлил с принятием решений о наследнике и о судьбе своих ближайших слуг. Даже умирая (царь страдал мочекаменной болезнью, приведшей к заражению крови) в январе 1725 года, он не отдал никаких распоряжений. Сам он не думал о скором конце: был полон планов, готовился после лечения и отдыха отправиться в Ригу и уже назначил с марта пятницу приёмным днём по сенатским делам. Вплоть до 25-го числа Пётр был способен заниматься делами: «записная книга» кабинет-секретаря Макарова фиксирует собственноручные петровские «пометы» о выдаче денег из Кабинета. В этот день врачи решились на операцию, принесшую лишь кратковременное облегчение. Состояние больного стало внушать опасения: от страшных болей Пётр «неумолчно кричал, и тот крик далеко слышен был».
Он скончался около пяти часов утра 28 января на втором этаже своего Зимнего дворца. Возможно, умиравший пытался в последний раз подчинить события своей воле – но на это у него уже не было сил, а ни сторонники его жены Екатерины, ни приверженцы его внука Петра не были заинтересованы в том, чтобы он назвал имя наследника. Секретарь австрийского посольства доложил в Вену, что Меншиков и его сторонники сумели настолько изолировать императора, что никакое его «устное распоряжение в ущерб Екатерине не могло иметь успех». В созданной трудом всей жизни государя системе не оказалось ни чётких правовых норм, ни авторитетных учреждений, чтобы обеспечить преемственность власти.
Глава пятая ЗОЛУШКА У ВЛАСТИ
Великая героина и монархиня и матерь всероссийская.
Феофан Прокопович
Лифляндская пленница
В льстивом панегирике новой российской царице учёный грек Софроний Лихуд весьма изящно высказался о родословной Екатерины: «...Не от человеческого роду какого низводи-шися, но ниспослана еси семо на землю с неба», – и до известной степени был прав. Сохранилось несколько версий происхождения Екатерины; согласно наиболее вероятной из них она – лифляндская уроженка литовского происхождения Марта Скавронская. Польский язык был родным для её семьи, которую до 1726 года держали «под крепким караулом»: брат царицы был ямщиком, а сестра с мужем – крепостными. Неизвестен и год её рождения: составители «Календаря» на 1725 год указали, что царице 41 год, а год спустя извинились и определили её возраст в 38 лет.
Как бы то ни было, после смерти родителей от чумы в начале Северной войны сирота оказалась на попечении тётки – Василевской или Веселевской, затем в услужении у пастора Глюка в городке Мариенбурге (нынешнем латвийском Алукс-не), где приняла лютеранство. Новый господин весной 1702 года выдал девушку замуж за шведского драгуна Иоганна Крузе, который вскоре после свадьбы отбыл на войну. Екатерина больше никогда не увидела своего мужа, но особо по нему не горевала и вообще отличалась весёлым нравом и обаянием.
В августе 1702 года войска фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева подошли к крепости. После недолгой осады гарнизон согласился капитулировать, но кто-то из шведов взорвал пороховой погреб – и городок был взят уже без всяких условий. Для Екатерины рождественская сказка началась по-военному – после взятия крепости она стала трофеем: сначала была «полоном» кого-то из солдат, затем девушку приметил сам командующий Шереметев, а у того её выпросил удалой кавалерийский генерал и ближайший друг царя Александр Ментиков и поместил к сёстрам Арсеньевым, на одной из которых вскоре женился.
Через некоторое время пленница попалась на глаза самому Петру – и сумела произвести на него впечатление. К тому времени личная жизнь царя складывалась неудачно. Царице Евдокии Фёдоровне были глубоко чужды его дела и вкусы, а многолетний роман с Анной Моне подошёл к концу: милая блондинка из Немецкой слободы завела шашни с саксонским посланником. Во время бурного объяснения Пётр обвинял изменницу в неблагодарности, обещал, что Анна ни в чём не будет нуждаться – и посадил её под домашний арест. Вот тут-то он и обратил внимание на очаровательную служанку в доме своего приятеля.
«Так обстояли дела, когда царь, проезжая на почтовых из Петербурга, который назывался тогда Ниеншанцем, или Но-тебургом, в Ливонию, чтобы ехать дальше, остановился у своего фаворита Меншикова, где и заметил Екатерину в числе слуг, которые прислуживали за столом. Он спросил, откуда она и как тот её приобрёл. И, поговорив тихо на ухо с этим фаворитом, который ответил ему лишь кивком головы, он долго смотрел на Екатерину и, поддразнивая её, сказал, что она умная, а закончил свою шутливую речь тем, что велел ей, когда она пойдёт спать, отнести свечу в его комнату. Это был приказ, сказанный в шутливом тоне, но не терпящий никаких возражений. Меншиков принял это как должное, и красавица, преданная своему хозяину, провела ночь в комнате царя», – поведал в своих мемуарах об этой нечаянной встрече французский капитан русского флота Франсуа Вильбуа.
Во время нового приезда Пётр поинтересовался, что с ней сталось и почему он её не видит.
«Её позвали. Она появилась со своей естественной грациозностью. Это было ей свойственно во всех её поступках, каковы бы они ни были, но замешательство было так явно написано на её лице, что Меншиков был смущён, а царь, так сказать, озадачен, что было редким явлением для человека его характера... Царь, посмотрев на неё, сказал: “Екатерина, мне кажется, что мы оба смутились, но я рассчитываю, что мы разберёмся этой ночью”. И, повернувшись к Меншико-ву, он ему сказал: “Я её забираю с собой”. Сказано – сделано. И без всяких формальностей он взял её под руку и увёл в свой дворец. На другой день и на третий он видел Меншикова, но не говорил с ним о том, чтобы прислать ему её обратно. Однако на четвёртый день, поговорив со своим фаворитом о разных делах, которые не имели никакого отношения к любовным делам, когда тот уже уходил, он его вернул и сказал ему, как бы размышляя: “Послушай, я тебе не возвращу Екатерину, она мне нравится и останется у меня. Ты должен мне её уступить”. Меншиков дал своё согласие кивком головы с поклоном и удалился»13.
Так ли было на самом деле, нет ли, но поначалу Марта очутилась среди многих «метресс» вечно куда-то спешившего царя. Она сумела понравиться не только Петру, но его любимой сестре Наталье; приняла православие и стала Катериной Василевской. Современники считали, что она просто приворожила Петра – так быстро она выделилась из прочих красавиц, так крепко полюбил её царь. Отставной капрал Ингерман-ландского полка Василий Кобылин на пьяную голову рассказывал в 1724 году о прошлом императрицы: «Она де не природная и не русская, и ведаем мы, как она в полон взята и приведена под знамя в одной рубахе и отдана была под караул, и караульный де наш офицер надел на неё кафтан; да она ж де с князем Меншиковым его императорское величество ко-реньем обвели». Капрала за дерзость казнили, но служил он, между прочим, в личном полку Меншикова, и его впечатления о бывшей пленнице, похоже, были не лишены достоверности. Видно, были в этой женщине необыкновенная притягательность и внутренняя сила. Портреты не передают её – статная царица, с симпатичным, но тяжеловатым лицом воплощала тип красоты, далёкий от нынешнего идеала, воплощаемого фотомоделями, но куда более созвучный своей эпохе.
Люди прошлого лучше чувствовали её очарование. «Черты лица Катерины Алексеевны неправильны; она вовсе не была красавицей, но в полных щеках, в вздёрнутом носе, в бархатных, то томных, то горящих (на иных портретах) огнём глазах, в её алых губах и круглом подбородке, вообще во всей физиономии столько жгучей страсти; в её роскошном бюсте столько изящества форм, что не мудрено понять, как такой колосс, как Пётр, всецело отдался этому “сердешнинькому другу”», – это голос не поклонника, а историка XIX века и издателя журнала «Русская старина» Михаила Ивановича Семевского. По словам другого историка и одновременно придворного, графа Сергея Дмитриевича Шереметева, подруга Петра была «очень телесна во вкусе Рубенса и красива». А такой увидел Екатерину дипломат-современник: «В настоящую минуту (1715 год. – Я. К.) она имеет приятную полноту; цвет лица её весьма бел с примесью природного, несколько яркого румянца, глаза у неё чёрные, маленькие, волосы такого же цвета длинные и густые, шея и руки красивые, выражение лица кроткое и весьма приятное».
Приятная во всех отношениях наложница быстро завоевала сердце господина. В 1704 году при осаде Нарвы она уже находилась в царском лагере; в последующие годы Пётр вызывал её в Киев, Дубно, Глухов; с ней он встречал победный 1709 год в Сумах. В 1704 и 1705 годах она родила двух сыновей – Петра и Павла; в 1706-м – дочь Екатерину (все они умерли в младенчестве). 29 декабря роженица «докладывала» о рождении дочери:
«Милостивому нашему батюшке господину полковнику.
Здравие твоё да сохранит Бог на лета многа. Поздравляем мы тебе с новорожденною девицею Екатериною, а рождение её было декабря в 27 день. Пожалуй, батюшка, порадуй нас своим писанием, а мы о твоём здоровье ежечасно слышать желаем. А про нас изволишь милостию своею напаметовать, и мы молитвами твоими декабря в 29 день в добром здоровье. Пожалуй в забвенье нас не учини, к нам приезжай или нас к себе возми.
Не покручинься, батюшка, что дочка родилась: к миру. За сим писавый матка с дочкою и с тёткою поздравляем».
Следующими детьми Петра и Екатерины были девочки-погодки: в 1708 году родилась Анна, в 1709-м – Елизавета.
Шестого марта 1711 года накануне отъезда в Пруте кий поход Пётр I тайно обвенчался с простолюдинкой, которая теперь стала называться царицей Екатериной Алексеевной. Сочетаться браком с «мужичкой», а не с боярской дочерью или принцессой королевской крови (после Полтавы кто бы отказал посватавшемуся Петру?) было не только вызовом обычаям, но и отступлением от государственного интереса ради личного счастья. Для новобрачной же это был уж совсем немыслимый взлёт: пленница-служанка, наложница и, наконец, супруга могущественного государя.
К месту пришлась и легенда, согласно которой сопровождавшая Петра в Прутском походе Екатерина передала в подарок великому визирю Балтаджи-паше все свои деньги и драгоценности, что сделало турецкого военачальника более сговорчивым при заключении спасительного для русской армии мирного договора. Однако царицыны драгоценности не понадобились. Главный переговорщик Павел Шафиров действительно пообещал визирю 150 тысяч рублей и ещё 100 тысяч – другим турецким начальникам, но деньги были выделены из армейской казны; под командой бравого офицера и будущего министра Артемия Волынского в турецкий лагерь отправился целый обоз в «пяти ящиках, в семи фурманах, в шести палубех при 50 лошадях». Шафиров уже приготовился их раздать, но получать русские деньги турки стеснялись, а иностранной валюты в русском лагере не было, «...от русских денег всяк бежит, и не смеют их принять, и так оные дёшевы, что ходит левок их наших денег по 40 алтын. По се число ещё никто оных не берёт, опасаютца, чтоб кто не признал», – писали 28 июля 1711 года из турецкого лагеря Шафиров и второй посол М. Б. Шереметев. Дипломаты привезли деньги в Стамбул, но визирь так и не смог их принять – Карл XII, до невозможности огорчённый отказом турок продолжать войну, обвинил вельможу в том, что он сознательно выпустил русских из ловушки, и Балтаджи-паша был смещён.
Екатерина же раздавала свои драгоценности офицерам (потом она отберёт их обратно), но не подкупала ими турок, как утверждали впоследствии Вольтер и другие авторы. Но царь, видимо, запомнил, как держалась его боевая подруга, когда сам он на какое-то время потерял самообладание и, по сообщению датского посла Юста Юля, «как полоумный бегал взад и вперёд по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова». Можно предположить, что с ним случился нервный припадок; в таких случаях Екатерина была незаменима.
Царь и его тайная жена вернулись из неудачного похода невредимыми. 19 февраля 1712 года тайное стало явным: была сыграна свадьба, хотя жених и именовался на ней не царём, а вице-адмиралом. Но Екатерина стала настоящей царицей и любимой женой.
Петербургская царица
Чудо, произошедшее с Золушкой, не изменило её – она оставалась такой же милой и заботливой боевой подругой царя, спутницей в его походах. Екатерина приспособилась к тяжёлому характеру супруга, угождала его вкусам, умела успокаивать его во время приступов ярости. Но главное – она сумела дать одинокому и фактически бездомному царю (до переезда в Петербург у Петра не было постоянной резиденции – он жил в дороге и в гостях) ощущение собственного уютного дома. «Горазда без вас скучаю», – писал Пётр из Вильно, добавляя, что в отсутствие жены его «ошить и обмыть некому». Но её забота не могла удержать дома неутомимого государя. Супруги часто расставались. Однако именно благодаря этому до нас дошли десятки их писем. Пётр писал коротко и просто. Так, в сентябре 1711 года, будучи на знаменитом европейском курорте Карлсбад (нынешние Карловы Вары в Чехии), он обращался к жене, находившейся в то время в Польше:
«Катеринушка, друг мой, здравъствуй!
А мы, слава Богу, здоровы, толко с воды брюхо одула, для того так поят, как лошадей; и инова за нами дела здесь нет, толко что ссать. Писмо твое я чрез Сафонова получил, которое прочитал горазда задумался. Пишешь ты, якобы для лекарства, чтоб я нескоро к тебе приежал, а делам знатно сыскала ково-нибудь вытнее (здоровее. – И. К.) меня; пожалуй отпиши: из наших ли или из таруннъчан (жителей польского Торуня. – И. К.)1 Я болше чаю: из тарунчан, что хочешь отомстить, что я пред двемя леты занял. Так-та вы евъвины дочки делаете над стариками! Кнез-папе и четверной лапушъке (младшей дочке Елизавете, ещё не умевшей ходить и ползавшей на четвереньках. – И. К.) и протчим отдай поклон.
Пётр».
В августе 1712 года в тяжёлую минуту (Петру никак не удавалось наладить отношения с союзниками для совместных действий против шведов в Померании) он позволил себе пожаловаться жене: «Мы, слава Богу, здоровы, только зело теже-ло жить, ибо левъшёю не умею владеть, а в адной правой руке принужден держать шпагу и перо; а помочников сколко, сама знаешь».
В том же году, уже из Берлина, он слал жене извинения, что не сумел достать для неё устриц: «Объявля[ю] вам, что я треть-ево дни приехал сюды и был у кораля, а въчерась он поутру был у меня, а въвечеру я был у королевы. Посылаю тебе, сколко мог сыскать, устерсоф; а болше сыскать не мог, для того что в Гам-бурхе сказывают явился пест (чума. – И. К.), и для того тотчас заказали всячину оттоль сюды возить. Я сего моменту отъежаю в Лейпъцих. Пётр».
В следующем году он шлёт письмо с поля Полтавского сражения: «Катеринушка, друг мой, здравъствуй! Посылаю к тебе бутылку венгерского (и прошу, для Бога, не печалься: мне тем наведёшь мненье). Дай Бог на здоровье вам пить, а мы про ваше здоровье пили. Пётр. С Полтавы, майя в 2 д. 1713. Хто не станет севодни пить, тому будет великой штроф». А уже через две недели царь извещает «друга сердешнинкого» о начале покорения шведской Финляндии: «...Объявъляю вам, что господа шведы нас зело стыдятца, ибо нигде лица своево нам казать не изволят. Аднакож мы, слава Богу, внутрь Финландии вошли и фут взяли (стали твёрдой ногой. – И. К.), отколь ближе можем их искать. А что у нас делалась, о том прилагаю при сём ведение».
Между делом он сообщал и о своих хворях – но всегда успокаивал, как в августе 1721 года: «А что сумневаесся о мне: слава Богу, здоров и не имел болезни, кроме обыкновенной с похмелья; истинно верь тому».
В январе 1717 года Пётр утешал жену после смерти очередного сына, маленького Павла Петровича: «Катеринушка, друг мой, здравъствуй! Писмо твоё получил (о чём уже прежде уве-дал) о незапъном случае, которой радость в печаль пременил. Но что ж могу на то ответство дать? токмо со многострадалным Иевом: Господь даде, Господь и възят; яко же годе ему, тако и бысть. Буди имя Господне благославенно отныне и до века! Прошу вас також о сём разсуждение иметь; а я, колко могу, разсуждаю. О себе объявъляю, что, слава Богу, час от часу ума-ляетца моя болезнь, и чаю в[с]коре выходить из дому, а и была не иная какая, толко чечуй (геморрой. – И. К.); а въпрот-чем, славлю Бога, здороф, и давно б ехал к вам, ежели б водою мочно было, а сухим путём ещё боюсь разтрес[ть]ся; к тому ж ожидаю ответа от аглинского караля, которого на сих днях сю-ды ждут. Паки прошу, дабы вы обо мне нимало не мыслили о болезни; и для того послал Румянцева, чтоб вам умел лутче словами изъяснить, что я, слава Богу, не толко теперь, но ниже был тежело болен». В Брюсселе царь заказывал для жены знаменитые брабантские кружева: «Катеринушка, друг мой сердешнинкой, здравъствуй! А мы, слава Богу, здоровы. Посылаю к тебе кружива на фантанжу и на агажанты2; а понеже здесь славъныя кружевы из всей Эуропы и не делают без заказу, того для пришли образец, какие имена или гербы во оных делать. Хотя мы сего дня и отъежаем отсель; аднакож где мы ни будем, а когда получю от вас образцы, то на почте пошлю сюды...»