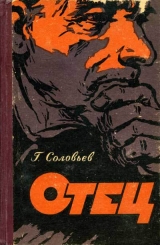
Текст книги "Отец"
Автор книги: Георгий Соловьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 39 страниц)
XXVI
На партийном цеховом собрании надо было обсудить меры по улучшению работы с изобретателями и рационализаторами. Доклад делал сам Гудилин. От Егора Кустова Александр Николаевич узнал, что несколько дней назад Гудилин вдруг сделался просто неузнаваемым. Как ветром сдуло с него чванливость и барские замашки. Этой метаморфозы никто не мог объяснить. Даже критика на партактиве заметно не повлияла на этого начальника, а тут вдруг ни с того ни с сего преобразился человек. Егор Кустов рассказывал о Гудилине:
– Я после того как дядя Саша кое-чего мне растолковал, с пристальным вниманием к нему относился. Нагрубит он, накричит на кого, я уж не оставлю этого. Приду к нему и прямо говорю: видишь, ты человеку сделал неприятное, тебя судить за это начинают – тебе неприятное дело. Что ж, мы так-то и будем сосуществовать? Злишься ты на меня, да и на себя, что теперь уж со мной ничего сделать не можешь. И про его сына ему я прямо сказал. Примером своего высокомерия и сыну характер испортил. Имей, говорю, в виду: какой ты на народе, такой и в семье. Стиль в жизни нехороший от тебя идет. Прямо так и назвал я этот стиль его наплевательством на людей. Послушает он меня, а сам, как бык, голову нагнет, усмехнется и скажет: «Эх, секретарь, тебя бы в мою шкуру». И все. И чувствую, что все мои слова впустую. И вот смотри-ка!
Никто, даже Егор Кустов, не знал о том конфузе, который пережил Гудилин. Новый директор завода побывал в цехе шариковых подшипников. Никому еще не знакомый, он обошел цех, присмотрелся, побеседовал с людьми, а потом вызвал Гудилина в свой директорский кабинет. Не предложив даже сесть, он, не стесняясь в выражениях, раскатал его на все корки за все непорядки и с угрозами выгнал, не дав сказать ни слова. Невозмутимо выслушав разнос, Гудилин пошел к двери. Все было нормально: новый директор совсем по-старому, по-привычному для Гудилина начинал руководить заводом, а уж как ему самому работать с такими-то, Гудилин тоже знал: жестокий разнос не встревожил его, а своей привычностью даже успокоил. Но тут директор вернул начальника цеха и спокойно спросил: «Ну, как вам нравится?» – «Что нравится?» – не понял Гудилин. – «Ваш стиль работы, – с улыбкой объяснил директор. Он пригласил Гудилина сесть в кресло и уже просто, душевно говорил с ним больше часа о делах цеха и всего завода. – Вот так мы и будем работать с вами. Уважая друг друга. Иначе невозможно», – сказал Гудилину директор, вежливо провожая его до двери. Вот этот поворот и ошеломил Гудилина, и он почувствовал, что появилась на заводе сила, против которой ему уже не пойти.
Цеховое партийное собрание проходило в заводском агитпункте. Председателем собрания выбрали Александра Николаевича. Выдвигая его кандидатуру, Мотя Корчагина сказала шутя, что нечего ему без дела состоять на учете в цеху, пусть хоть на собрании поработает, поруководит. Но и сама Мотя попала в секретари.
В зале на своем любимом месте, у окна, старый Поройков увидел Отнякина. Рядом с лохматым редактором сидел сам, как шепнула старику Мотя, директор завода. Александру Николаевичу новый директор с виду понравился. Одет он был в светло-серый костюм с накладными карманами, какие любят носить инженеры. Был он светловолос, и в лице его сквозила живинка умного, во все вникающего пожилого мужчины.
Гудилин делал обстоятельный доклад. И в его докладе ощущалось несвойственное ему до сей поры стремление к тому, чтобы его поняли и помогли в трудном деле непрерывного обновления цеха. Говоря о том, что не в силах был сделать в цехе сам, Гудилин доверительно смотрел на директора, и тот ему понимающе кивал головой. Но не только новые интонации были в докладе Гудилина. Весь вид его был новый. Словно грубиян-начальник, в такой борьбе с самим собой сломив свой характер, теперь на виду у людей застыдился себя, и, по прежней привычке характера, не хотел выказать перед людьми своего стыда, и не мог его не выказать. Весь он, даже на трибуне, был какой-то виноватый. Казалось, что его доклад ему самому не нравится и он сам ждет не дождется, когда возьмет в руки последний листок своих тезисов. И вдруг Гудилин собрал весь свой доклад, кое-как поровнял листы и бросил на стол президиума.
– А теперь я, товарищи, вот что скажу. – Он распрямился. – Дальше у меня тут набросаны предлагаемые мероприятия. Да расхотелось мне о них говорить. Много раз мы уж эдак-то толковали и в резолюции записывали. А потом… Что выполняли, а за что и совсем не брались, как нарочно, оставляли для разговора и критики на следующем собрании. Дальше так не годится. Пока я докладывал вам, родилась у меня такая новая, не написанная в моем докладе мысль: надо нам составить план, чтобы работалось спорей и легче, чтобы самое малейшее предложение в этот план вошло. Каждому что-нибудь да мешает в работе, на что-нибудь да зло берет. Иной раз пустяк какой, к примеру решетки повыше сделать, чтобы Мотя Корчагина ног не мочила. А все как будто руки не доходят. С таким казенным отношением к живому делу надо покончить. Составим мы обширный план: и по мелочи что надо делать, и большие вопросы. Я, как начальник цеха, даю слово, что такой план будет для меня первым делом и, с кого положено, тоже стребую. Это я говорю об инженерно-техническом коллективе цеха. – Тут Гудилин сказал самое для него трудное: – Мне самому прежде всех вас тоже работать по-старому уже нельзя. Но, конечно, и весь коллектив цеха должен свои усилия приложить. Этот план будет нашим общим кровным делом. И заметьте себе: мы его никогда не выполним, потому что одно сделаем – другое встанет на очередь. На этом я пока закончу.
Гудилин тяжелой поступью сошел в первый ряд и сел на свободный стул.
– Доклад окончен, – сказал Александр Николаевич, оглядывая собрание. – Кто желает взять слово?
Никто не захотел выступать сразу. Правдивый доклад Гудилина, его трудное признание собственной плохой работы и неожиданное предложение, наверное, требовали и обсуждать-то как-то по-новому.
– Подумать необходимо? – спросил Александр Николаевич.
– Нечего и думать, – сказал, поднимаясь, но не выходя, пожилой наладчик. – Предложение начальника цеха надо одобрить. А прения? Надо давать свои дельные предложения. Вот и будут прения по докладу. А это уже не на собрании надо делать, потому что никакой секретарь как следует не запишет всего.
– Ловко начальника от критики оборонил, – послышался чей-то тенористый голос.
Тогда поднял руку директор завода.
– Пожалуйста, товарищ Гаенко, – сказал Александр Николаевич.
– В самом деле, – заговорил директор, взойдя на трибуну. – Нам предложено такое, о чем надо меньше… ну, попросту сказать, надо меньше болтать. Надо немедленно начинать делать. Я понял суть предложения товарища Гудилина. Это такое дело, которое нужно не только вашему цеху, а всему заводу. Это, я бы сказал, начало борьбы за технический прогресс на каждом рабочем месте. Подчеркиваю: на каждом рабочем месте. Если мы сейчас, на собрании, начнем говорить о том, что нужно сделать, – проговорим до утра и всего не скажем. Так что обычных прений не получается. И мне думается, что товарищ Гудилин не ушел от критики. Он искренне критикнул себя. Но одно выступление на собрании должно быть. Это мое выступление как представителя дирекции завода. Если вы решите принять предложение вашего начальника цеха, то я должен сказать вам, что руководство завода тоже берет на себя обязательство всеми силами помочь вам – и тоже делом. Вот и вся моя речь. – Директор легко сошел с трибуны.
– Может, кто спросит слова? – снова обратился к собранию Александр Николаевич.
– Правильно сказал товарищ директор. Нечего время терять. Принять предложение Гудилина!
Александр Николаевич взглянул на Кустова. На полном лице Егора была растерянность: как же так, собрание без прений, без активности?
– Будем постановление принимать? У тебя, что ли, Егор Федорович, резолюция? – спросил у Кустова Александр Николаевич.
– У меня. Да она вроде уже прокисла, – сказал Кустов. – Вместе с товарищем Гудилиным составляли, а он вон как повернул. На ходу перестроился. Выдвинул такое, о чем не договаривались.
– Подвел, выходит! – вскрикнул кто-то, и его голос потонул в общем хохоте.
Мотя Корчагина взглядом показала Александру Николаевичу, что хочет говорить, и встала, подняв руку.
– Я предлагаю записать: доклад товарища Гудилина одобрить, – сказала она. – К составлению плана приступить немедленно. Слово директора принять к сведению.
Других предложений не было. На этом необычное собрание и закончилось.
С завода Александр Николаевич пошел вместе с Кустовым. До темноты было еще далеко. И Егор Федорович пригласил старика к себе в садик.
– Виноградом, дядя Саша, угощу. Поспевает уж. Мадлен у меня сладкий, – сказал он.
– Что ж, пожалуй, отведаю, – согласился Александр Николаевич.
– А ведь он лев-мужик, Гудилин, – заговорил Егор Федорович, возвращаясь мыслями к собранию. – Уж если он сам за такое дело взялся, значит, много передумал. Весь цех поднимет на новое большое дело. Выходит, что новое на заводе у нас родилось. И вроде как случайно у него это получилось.
– Нет, Егор, не случайно. Я, знаешь, что думаю. Он, Гудилин, доклад-то делал, как все равно о своей жизни говорил. У Гудилина, брат, была огромная борьба в душе. Дошел он до сознания, что без выполнения долга перед человеком не может быть и уважения к самому себе. А?
– Может быть и так.
– Только так. А дальше может быть и этак: борьба-то в нем, в Гудилине, не закончилась, прежнего Гудилина в нем больше. Кто из них один над другим победу одержит? Очень может получиться, что и дальше будет жить старый Гудилин, да в новом обличии, и опять разгадывать его надо будет.
– А что про нового директора скажешь?
– Мужик деловой. Это сразу видно. А так, поживем – увидим.
– Я и дальше еще думаю. Заметь, Егор, я это тебе как рядовой коммунист своему руководителю говорю. Попомни мои слова: будешь ты еще на собрании слушать доклады коммунистов о том, как они свою собственную жизнь тратят. Не только будете говорить о том, как коммунисты у станков работают или политическим самообразованием занимаются. Или там по необходимости за аморальные поступки кое-кого прорабатывать. А понимаешь ли, слушать на собрании, как коммунист живет, как он радости в своей жизни наживает сам и этим другим пример подает. Я считаю: особенно старики-коммунисты в своей жизни перед партией должны отчитываться.
– Это ты, дядя Саша, в поэзию ударился.
– А разве это грех для старого рабочего? Без поэзии и жизнь свою душевно не осмыслишь. Гляди-ка: я сегодня на двух внуков разбогател. – Они подошли к углу дома, где жили Поройковы, и Александр Николаевич придержал Кустова за руку. – Не пойду я с тобой в сад. Устал что-то. Ноги ослабли. Посижу у крылечка.
– Ну, и я посижу, – ответил Егор Федорович, заворачивая за угол и беря под руку старика. – Это откуда же сразу два внука свалились?
– У сына Артема с Викой двойняшки родились, – ответил Александр Николаевич, присаживаясь на лавочку под своим вязом. – Сегодня Толюшка новость эту из совхоза привез.
– Вот это действительно радость!
– Да, радость… Да тревожная. Когда человек рождается – это еще совсем не радость. Когда человек жизнь с людьми да себе и людям на пользу проживет – вот это радость! И помирать тогда легко.
– Это ты, дядя Саша, от поэзии к мрачностям переходишь.
– Слушай! Каждый человек живет со страхом перед собственной смертью. А ведь этот страх радостью жизни убивается, душевной радостью, нажитой вместе со всем народом, потому что во всенародной широкой жизни видишь и прошлое и будущее своей жизни и видишь, видишь, как в будущем и твоя жизнь, твой труд продолжается вечно. Это и есть поэзия жизни рабочего человека. Так-то мы трудом в вечное бессмертие входим.









