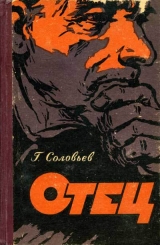
Текст книги "Отец"
Автор книги: Георгий Соловьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
II
На следующий день Женя и Отнякин встретились в проходной.
– Начинаем срабатываться. Минута в минуту, как по сверенным часам, – сказал редактор, и его голос показался Жене не таким резким, как при первом знакомстве.
– Скажите, Женечка, – заговорил он уже в редакции, когда Женя уселась за свой стол. – Скажите вот что: вы и, допустим, я тоже давно работаем на нашем заводе, и мы решили на материале заводской жизни писать роман. Как известно, всякий роман строится на остром конфликте: какой же узрим мы с вами конфликт?
– Вы просмотрели подшивку? – пряча улыбку, спросила Женя; интересно, какое бы лицо сделалось у Отнякина, если бы она в свою очередь назвала его Тишенькой? – В каждом номере нашей газеты конфликтов хоть отбавляй.
– А вот и нет! Не настоящие это конфликты. – Тихон Отнякин засмеялся; и опять он показался Жене другим, не вчерашним. – Газета полна ежедневными осложнениями – и только. Конфликты подлинные остаются за текстом газетных колонок, а там их не всякий разыщет. Что такое конфликт, Женя?
– Господи! Да сколько об этом пишется во всех газетах и журналах. Острое столкновение…
– Стоп! – скомандовал Тихон Отнякин, – А то вы опять покраснеете… Вы так хорошо краснеете, когда попадаете впросак. – Женя увидела на чуднóм лице редактора умную и добрую улыбку. – Газета, на мой взгляд, занята в основном как бы созерцанием. Понимаете?
– Да, конечно… Процесс познания действительности: от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике… Видите, я не попала впросак и не покраснела.
– И вижу, что вы по-настоящему учились… – Отнякин знал, что Женя бросила вечерний техникум, и сдерживался, чтобы не рассмеяться тому, как Женя опять заливается краской от стыда за свое вчерашнее вранье. – А вы знаете, что вы очень красивая?
– Знаю, – твердо ответила Женя и подумала: «О! Уже начинаются комплименты».
– У меня жена тоже очень красивая, обручили нас еще в детстве по старинному русскому обычаю, будто бы в шутку, а получилось на всю жизнь. И вот живем уже шесть лет и любим друг друга; и сын растет на меня похожим…
– Я снова попала впросак?
– Ну конечно же! Я угадал ваши мысли. Расскажите лучше, как вам работается. Я в подшивке на газетах видел пометки – это ваши? Объясните мне их.
Женя рассказала о своем невеселом предмайском раздумье, о разговоре с Бутурлиным. Отнякин изредка поглядывал на нее, и тогда его черные глаза взблескивали, и это показывало, что он одобряет ее мысли, что они интересны ему.
– Словом, одна часть вашего существа не хочет уже жить, как прежде, а вторая уже просто-таки не может жить, как прежде? – спросил Отнякин, выслушав Женю. – Так?
«Я ему о заводе, о газете, а он… Скакун он какой-то в мыслях», – подумала Женя и не ответила.
– Вот это и есть конфликт! Да какой еще! Это отражение в отдельном человеке большой общечеловеческой борьбы, которая потрясает всю частную жизнь и втягивает всего человека в борьбу. – Отнякин бросил на Женю испытующий взгляд. – Вам еще трудно понять меня. Ну хорошо. Догнать и перегнать капиталистические страны – это наша всенародная историческая задача, поставленная еще Лениным. И вот в этой борьбе наш завод не вышел на передний край борьбы. А ведь борьба уже идет на мировой арене. И соль в том, что на заводе есть все возможности работать лучше.
– Я же вам говорила: Леонид Петрович Бутурлин видит причину отставания в недостатках государственного руководства промышленностью.
– Я согласен с ним… И вот это нас злит, и этого мы терпеть не можем. – Отнякин вытащил из кармана горсть шариков, которые выковырял вчера из земли.
– Но ведь это же повседневное осложнение.
– Нет, не повседневное. Уже хотя бы потому, что грязь в цехах накапливалась годами. Я имею в виду и грязь, засосавшую и некоторых людей, как… Гудилин… Да мало ли еще с чем уже никак не можете смириться не только вы, а многие и многие люди на заводе.
– Об этом довольно часто писала газета.
– И только! Знаете, Женечка, это пока черновой наш разговор. Я хочу, чтобы мы с вами думали об одном. Мне кажется, что общественная мысль на заводе недейственна.
– Бутурлин говорит: на заводе нет действенной производственной политики, – возразила Женя.
– Чувствую, что тут большой смысл есть. Пожалуй, тот смысл, что политическая и организаторская работа на заводе не соответствует ни производственным задачам завода, ни его возможностям. Это конфликт не антагонистический, но тяжелый.
– Тихон Тихонович, я беспартийная.
– Ах, какой конфуз: я, оказывается, демагог! Критикую политическую работу перед лицом беспартийной массы… Ну, вы хоть в профсоюзе-то состоите? Слава богу. Скажите, кто такая Поройкова? – Отнякин вынул из стола папку с материалами.
– Технолог цеха железнодорожных подшипников. Беспартийная.
– Женщина-то ставит серьезнейшую задачу: говорит о коммунистическом воспитании рабочих в труде. – Отнякин ткнул длинным пальцем в папку.
– Бутурлин не хотел публиковать эту статью из дипломатических соображений: говорит, дирекция завода не пойдет на введение метода доверия контроля продукции самим рабочим, надо, говорит, не одной статьей действовать. Потом Вика… то есть Поройкова, нового ничего не открывает: метод доверия уже введен в некоторых цехах на куйбышевском и саратовском заводах, а наш завод особый, хотя бы потому, что у нас кладовые-склады готовой продукции не приспособлены для этого…
– Знаете ли, и тут Бутурлин прав. Рывком не возьмешь, но думать о статье Поройковой нам надо. – Отнякин порылся в папке. – А кто такой Александр Николаевич Поройков?
– Свекор Вики Поройковой, пенсионер, старый рабочий и коммунист.
– Так и вижу этого старика. С душой о детворе пишет. Готовьте статью к печати, только не сильно сокращайте и сберегите этот тон доброго стариковского недовольства. Я люблю недовольных людей. Таких, как ваша Вика Поройкова… – Отнякин надул губы, выпятил грудь, подбоченился и лениво повел сощуренными глазами. – Такая она?
– Точь-в-точь! – рассмеялась Женя.
– Недовольные – они всегда настоящие бойцы. По-хорошему недовольных людей должно быть порядком в цехе у Гудилина?
– Я же вам говорила о Моте Корчагиной.
– Да-да. Эта женщина, обутая в газеты… Нам нужно взять под обстрел Гудилина.
– Опять Гудилин, – протянула Женя. – И так им вся газета полна.
– Видел. Гудилин из тех людей, которые отнимают у нас возможность выигрывать время в соревновании с капиталистическим миром. Об этом думаешь, когда читаешь газетные заметки о нем. Это именно надо сказать гласно на весь завод. А мы щиплем петушка по перышку.
– Опять возврат к повседневным осложнениям?.. Отдельные консерваторы, разные бюрократы, подлежащие изничтожению…
– Да, и все-таки за этим гораздо большее: опять же слабость политической и организаторской работы.
– Слушайте, черногривый лев! Уж не кажется ли вам, что вы пришли на завод, чтобы установить Советскую власть?
– Ох, какая вы заноза, – весело рассмеялся Отнякин. – Нет, конечно. Советская власть есть на заводе, она крепка и будет крепка и без моей помощи. А вообще, Женечка, без того, чтобы не помогать Советской власти, жить невозможно. – Отнякин взглянул на электрические часы над дверью. – Ого! Мне пора в партком.
III
Александр Николаевич и Варвара Константиновна утвердились в том, что дочери Дмитрия Лидочке расти в их доме.
Внучку записали в школу. Немногословно, и по понятным причинам, утаив правду, объяснили учительнице, почему девочка в конце учебного года переехала в другой город, попросили присмотреть, чтобы новенькую не обижали мальчишки. Первые дни Александр Николаевич сопровождал внучку до школы и встречал после уроков, но Лида быстро перезнакомилась с новыми товарищами и стала ходить в школу сама.
Вскоре учительница, встретив Варвару Константиновну, похвалила ее внучку, как прилежную и способную, а еще через некоторое время Лидочка сказала, что она будет и в новой школе отличницей. Так все хорошо устроилось с прерванным было учением.
Лида даже в первое после приезда время не скучала. Может быть, от новизны и оттого, что в большой дружной семье она почувствовала себя вольготней: как никак, а музыка и французский ей изрядно наскучили. В компании же Танечки и Алешки ей было по-настоящему весело.
Лида была разговорчива, ласкова, ела хорошо, не привередничала (чего очень опасалась бабушка), вовремя делала уроки и гуляла на улице со своими новыми знакомыми ребятишками из дома.
Особенно она любила ходить с бабушкой и Мариной в поройковский сад; увидев его впервые в буйном цветении, девочка сделала его своим царством, которое всюду находят впечатлительные и наделенные воображением дети. У нее был в саду свой детский, но настоящий, сделанный дедом инструмент, своя клумбочка, в которой она посеяла цветы; она сама посадила «поющее и звенящее» деревцо и верила, что оно вырастет и тогда в саду повторится волшебная сказка.
Словом, пока все было очень хорошо. Но старики знали, что это только пока.
Вскоре отец выслал дочери ее любимые игрушки. И лучше бы он этого не делал. Посылку распаковали, когда Алешка был еще в школе, а Танечка в детском саду. Обрадованная Лидочка перенесла игрушки в большую комнату. В уголке за комодом она расставила мебель, посуду, нарядила куклу, а дальше играть одна, как бывало, дома, не стала. Игрушки, купленные для Лиды мамой, были теперь с ней, а мамы не было. Девочка не могла позвать свою родную маму, показать ей, как она устроила дом кукле и как ее одела и причесала, она не могла приласкаться к своей маме. Лиде стало тоскливо, она вдруг почувствовала себя одинокой и в чем-то обманутой.
Почему никто, даже бабушка с дедушкой, не вспомнили ни разу про ее маму? Они все тут не любят ее?
Сидя на полу, охватив коленки руками и уткнувшись в них лицом, Лида вспомнила все случившееся с ней за последнее время, начиная со слов мамы, что она получила телеграмму и уезжает надолго во Владивосток. Ничему, что ей говорили мама и папа, она сейчас не верила. Когда они ехали в поезде и летели на самолете, папа был такой грустный и все ласкал ее, будто бы ему было ее страшно жалко. И бабушка и тетя Марина ласкают ее больше, чем Алешу и Танечку. И Алеша какой-то чересчур хороший и будто тоже обманывает.
Как будто мама умерла, и все это скрывают…
Так, горестно притихшей около игрушек, и застала внучку Варвара Константиновна.
– Да уж не уснула ли ты, Лидушка? – спросила она.
– Бабусенька, а почему мне мама письмо не прислала до сих пор? – жалким голоском спросила девочка.
– Да ведь далеко. Считай, до Владивостока ехать с месяц надо, а письму оттуда тоже не меньше по почте лететь, – ответила Варвара Константиновна давно припасенными словами.
– Бабуся, ты правду говоришь?
– Как это я тебе могу неправду говорить? А ты, если наигралась, выбеги-ка на улицу, поищи деда, скажи: бабушка, мол, по делу зовет.
Лидочка покорно пошла из комнаты.
Варвара Константиновна рассказала об этом разговоре с Лидой Александру Николаевичу. Старик только головой покачал в ответ. Он знал, что жизнь внучки в его семье устроена только с виду, что он и Варвара Константиновна делают все, что должны делать дедушка и бабушка, а перед чем-то главным, что неизбежно они должны сделать, бессильны. И он все больше и больше злился на Митьку и его «кукушку бесхвостую» – только так он называл про себя Зинаиду Федоровну. Его сердили нежности Марины и Варвары Константиновны, которые те проявляли к; Лиде. «Уж больно чересчур, только тоску на девчонку нагоняют», – думал он. Любя, жалея Лиду, сам он стал относиться к ней попроще, порой и построже и, наверное, а этом пересаливал, потому что однажды Варвара Константиновна сказала ему:
– Ты, Саша, поделикатней будь с Лидушей: она тебе не Алешка.
– Вон что! А в чем разница? Оба они Поройковы и внуки мои.
– Я не о том. Лидуша, она ведь из другой жизни, из другой семьи, не простой.
– То-то, что не из простой, а из… не знаю, как и назвать вертеп ихний. А жить ей вот приходится в самой простой семье. И привыкать к настоящей жизни надо. Ишь, вы вон с Мариной рядите ее, наглаживаете. Скоро износит она свой гардероб… Это, когда она у кукушки бездельной жила, та ее могла расфуфыривать для забавы. А у вас и вкусу нет того, да и по ателье мод бегать вы непривычные. И будете одевать девочку, как все люди на поселке своих детей одевают… Вот разве что насчет пианино да французского вам подумать. А?
Старик начинал непозволительно для него волноваться, и Варвара Константиновна прикончила разговор, но потом он не раз возникал снова и стал походить на затянувшийся спор.
Оба старика, каждый про себя, очень хорошо понимали, что толкуют вслух не о том, не о главном; придет время, и на вопрос Лиды, почему мама не шлет ей писем, уж невозможно будет сослаться на долгий путь до Владивостока. Не отец, не мать Лиды, а именно они, старики, рано или поздно должны будут рассказать внучке о том, что на всю жизнь ляжет ей на душу тяжелым камнем.
IV
В последнюю субботу мая Лида пришла из школы, опоздав против обычного на час, но, как всегда, оживленная и голодная. Она переоделась в домашнее платьице, повесив форменное школьное на плечиках в стенной шкаф, вымыла руки и вошла в кухню.
– Ты где же это разгуливала? – спросила Варвара Константиновна. – Жду-пожду тебя, суп с плиты не снимаю…
– Ах, бабусенька, мы сговаривались. Завтра идем в лес на прогулку, – ответила Лида, ее глаза сухо и жарко блестели, а лицо было озабоченно. – Приготовь мне, пожалуйста, еды… Чтобы с собой на маевку, в лес.
– Еды? На какую такую маевку, – не понимая, спросила Варвара Константиновна. Она лишь видела, что внучка увлечена какой-то затеей. – На-ка вот пока, – Варвара Константиновна налила в миску супу. – Да иди в зал: там поешь и там потолкуем – видишь, я тут приборку затеяла. Иди, иди, там потолкуем… Только какая же это маевка, если июнь на носу? Отложили бы уж до каникул.
Лида поставила миску на уголок стола.
– Ну и что же, что июнь на носу? Весь месяц, бабусенька, был холодный. Помнишь, всей школой мы хотели ехать на Волгу? Не поехали из-за плохой погоды, все воскресенье дома просидели. А теперь тепло! А каникулы? Как только нас распустят из школы, так много детей уедет… А есть такие, кому ехать некуда.
– Все, все, я, Лидушка, поняла, – остановила девочку Варвара Константиновна; последние слова внучки ее напугали: Лиде тоже некуда было ехать на лето. – Ладно уж. Погоди, вот тетя Марина с работы придет, велю ей тебе на завтра пирожка испечь.
Лида, взяв свой суп, ушла в комнату. Быстро поев, она убрала за собой и упорхнула на улицу. Через час она вернулась огорченная и уселась на диван, пристально глядя на деда, точившего на оселке бритву.
– Что же не гуляешь? – спросил Александр Николаевич, чувствуя, что у внучки к нему есть дело. – Лето уже на улице, считай. Теплынь. Красота.
– А что на улице делать? – скучающе протянула Лида.
– Играть.
– В классики? Надоело.
– Придумайте что-нибудь новенькое.
– Мы-то придумали, – Лида порывисто поднялась с дивана, остановилась перед дедом и потупилась. – Хотели завтра в лес на маевку…
– И за чем дело стало?
– Не пускают, – Лида тряхнула косичками и, сузив рыжеватые глаза, взглянула на дедушку. – Меня бабуся тоже, наверное, не пустит.
– Расскажи-ка толком. – Александр Николаевич вытер тряпочкой бритву, и, пока опробовал ее жало на ногте, Лида, торопясь, рассказала:
– Это третьеклассники сначала придумали идти на прогулку в лес, а потом их сестренки и братишки из младших классов тоже захотели… ну, и еще другие дети. А что на самом деле? Мальчишки в свободное время только и знают, что в клек играют или сражения на шпагах устраивают, а девочки в мячик об стену или в «дочки-матери» играют. Вот все дети и придумали идти на целый день в лес, еды взять с собой, как взрослые ходили на Первое мая. А никто из родителей детей одних не пускает, и сами идти не хотят. Значит, завтра целый день у домов на асфальте прыгать? А дубовая роща такая уже зеленая, дедушка. Погляди сам в окно.
Александр Николаевич смотрел на голенастую внучку, на ее вдруг ставшую короткой юбчонку, топорщившуюся сзади, как хвост у молодого петушка, и думал: «Эк растет-то девчонка как быстро. Надо заставить набрать материалу на летние платьишки, да и пошить уж».
– Дедушка Сандрик! – требовательно воскликнула Лида. – Ты их, родителей, за то, что они нас не пускают в лес, в газету протащи.
Александр Николаевич оторопел.
– То есть почему это ты мне приказываешь? – спросил он.
– Ты уже раз их прохватил, и они сердятся на тебя. А ты их еще раз.
– Ты, Лида, насчет того, что кто-то там кого-то протащил в газете, помалкивай, – Александр Николаевич опустил глаза.
Написанную под впечатлением родительского собрания статью он опубликовал за подписью Пенсионер. Да только все знали, кто ее автор и о ком он пишет, хотя фамилий он и не называл. Когда меж соседями пополз слушок, что Дмитрий подкинул свою дочь в семью Поройковых, Александр Николаевич стал стыдиться своей статьи: других взялся учить, а у самого в доме как некрасиво получилось.
– Кто это наболтал, что я писал в газету?
– А тетя Демьянкова.
– О! Это женщина с фантазией. Слушай-ка, собирай ватагу повеселей, я с вами в лес пойду.
– Это ты вправду? – Лида кинулась к нему, прильнула горячей щекой к его небритой бороде. – Так я, дедуся, пойду.
Получилось так, что Александр Николаевич в лес с детишками не пошел. В субботу вечером Анатолий вернулся из школы уставший и с виду расстроенный. Он вяло поел, и то потому, что мать стояла у него «над душой», потом включил репродуктор и уселся на диван слушать концерт. За последнее время он все больше и больше сосредоточивался в себе. В семье на него никто за это не обижался – все знали, что ему трудно. Но неужели у него после недели упорных занятий в школе и дома не было потребности поделиться чем-либо даже с родителями?
Видимо, отцу самому надо было поговорить с сыном. Но на первый же вопрос о том, как у него прошла неделя, Анатолий ответил:
– Нормально, в общем.
Александр Николаевич не стал его неволить и отложил разговор на воскресенье: пусть парень хоть отоспится.
С вечера Александр Николаевич сразу не уснул, а, вернувшись к мыслям о сыне, раздумался.
Анатолий был парень честолюбивый, потому и старался. А вот не забоялся ли он, не заленился ли учиться дальше? После десятого-то класса, как узнал, чего стоит много лет подряд грызть гранит настоящей трудной науки? Это предположение, вполне основательное, растревожило Александра Николаевича. Он плохо спал ночь и поутру почувствовал Себя довольно скверно.
«Нет, не лентяй он», – думал Александр Николаевич, наблюдая, как Анатолий быстро поднялся, как убрал постель, как потом занимался гимнастикой у открытого окна. Ему вспомнилось, как недавно ему попалась на глаза забытая на ученическом столе общая тетрадь, на обложке которой Тольян написал: «Мысли для себя». Листая тетрадь, Александр Николаевич наткнулся на записи, которые показались ему чудаковатыми. На отдельной страничке сын откуда-то выписал стихи:
Средь бурных волн и в горестных блужданьях
Закончен круг земного бытия.
Мой челн пристал, и скоро должен я
Поведать о моих земных деяньях.
Микеланджело.
На следующей странице Анатолий комментировал:
«Настало время, когда поднялась цена каждой человеческой жизни. Не только гений должен давать отчет в своей жизни перед человечеством, а и простой человек. Вот в чем расцветающая радость жизни у нас в стране. И в этом сила строителей близкого коммунизма».
«Куда соплячок забирается, – подумал тогда старик. – Философия! Не дело это для него».
Но сейчас, глядя на сына, он проникся к нему уважением за его философствования.
В безрукавной майке и трусах Анатолий выглядел длинным и тонким; походка у него была какая-то капризно вихляющаяся и как будто выдавала его внутреннюю несобранность. «Вытянулся за зиму, а силой не налился. Корпя над книжками, силы не насидишь. А гантельки эти – что в них толку… Но сила духа в нем есть. Сила, которую мне, старому, и не понять».
Сходив под душ, Анатолий поел на кухне и прошел в спаленку, чтобы на свежую голову засесть за учебники.
– Иди-ка сюда, сынок, поговорить надо, – крикнул Александр Николаевич, поднимаясь с опостылевшего за ночь дивана и снимая со спинки стула свою пошитую Мариной зелено-полосатую пижаму.
– Сейчас, – откликнулся Анатолий, но вышел из спаленки, лишь подняв с постелей Алешку и Лиду и послав их умываться. По знаку Александра Николаевича он подсел к столу, передернув плечами.
– Да не вихляйся ты, – почему-то раздражаясь, прикрикнул на него Александр Николаевич. – Как дела у тебя в школе? Что-то последнюю неделю ты нелюдем живешь.
– Сам собой хвастаться не могу. Будто все нормально. – Анатолий прямо взглянул на отца, и тот увидел в его глазах потребность и готовность к полнейшей откровенности, упрямое желание отстоять что-то свое и боязнь того, что разговор может быть неприятным.
– Мгм… А после? Как аттестат зрелости получишь? Сейчас уже думать самое время, сынок.
– Папа! Говори прямо.
– Обязательно, только прямо. – Александр Николаевич распахнул закрытые сквознячком створки окна и подвинул к окну свой стул. – Только предисловие тебе придется выслушать, – заговорил он, сделав несколько глубоких вздохов. – Я, сынок, всю жизнь о коммунизме мечтал, как себя помнить начал… Эта мечта в рабочем классе, она давняя. И вот я своими глазами, может, и не увижу коммунизма, а тебе жить в нем. Это тебе понятно?
Анатолий сидел, подперев щеки кулаками. Он смотрел внимательно на отца, слушал его, а думал как будто о чем-то своем. При последних словах Александра Николаевича он хотел что-то сказать, но в комнате появилась Лида.
– Дедушка Сандрик, так мы сейчас собираться будем, – объявила она. – Помнишь, что вчера обещал?
– Помнить-то помню. Да тяжело что-то мне сегодня дышится. Идите уж без меня.
– Значит, можно?
Александр Николаевич махнул рукой, как бы молча давая разрешение, и опять обратился к Анатолию.
– В своем предисловии я тебе хочу сказать: какой богатой нынешняя молодежь в жизнь вступает. Вон какие заводы вам передаем, – Александр Николаевич показал взглядом за окно. – В них наша сила, в заводах. А наживали мы ее под угрозой войны. И пришлось-таки выстоять нам в невероятной войне. А теперь, гляди-ка, у нас, у нашей страны кругом друзья – еще большая сила. Может, скоро нам и грозить-то войной никто не посмеет, и вы, наши дети, не будете знать новой мировой войны. Голода вы в жизни знать не будете. Вон сколько миллионов целины подняли… Вы богаче нас вступаете в жизнь и большего достигнете.
– Папа, ты думаешь, мы школу на Марсе заканчиваем? – спросил Анатолий. – Мы уже все второй год как с советскими паспортами живем.
– А я и говорю с тобой не как с марсианином, а как с родным сыном. Слушай. Ты в зрелые годы уже без меня войдешь. А мне вот сейчас нужно знать, как ты жизнь намереваешься прожить, я ее сейчас, при жизни своей, хочу видеть, как видел твое будущее, когда тебя еще и на свете не было.
– Ты опять хочешь спросить про мое поступление в вуз? – тихо спросил Анатолий.
– Об этом Гляди-ка, Гудилин Ванька с шестого класса лбом трясет да выращиванием бродячих собак занимается. Кому за это стыд должен глаза есть? Отцу!
– Ну, лбом трясти можно и с высшим образованием, – Анатолий усмехнулся. – Даже с седой головой и с грудью в орденах.
– Не Дмитрия имеешь в виду?
Анатолий неторопливо подошел к отцу сзади и облокотился о спинку его стула.
– Я действительно имею его в виду, но в другом смысле, – сказал он, склонясь над плечом отца. – Скажи, папа, ты в молодости мало раздумывал? Ну, хотя бы, когда в подпольную партию вступал. Просто это для тебя было? Или когда на гражданскую войну пошел? Ведь ты тогда уже на маме женился, и Митя уже родился.
Александр Николаевич повернул голову и пристально посмотрел на спокойное лицо сына. «Возмужал парень. Уж вовек теперь не приластится, как бывало. И говорит-то как».
– Ну, Толя, тогда другое время было.
– Согласен. Но согласись и ты со мной. Кажется мне, у каждого человека бывают такие переломы в жизни, которые заставляют его крепко задуматься. Одинаково крепко, в какие бы времена этот человек ни жил.
– Мудрствуешь…
– Нет! Просто думаю. Ты мне говоришь о долге перед рабочим классом, перед всем народом, чтобы я, значит, обязательно и сразу после школы поступил в вуз. Но ведь речь идет о моем собственном пути в жизни, и решать я должен. Так?
– А не много ли, салажонок, на себя берешь?
– Много ли, мало ли, но это такой груз, который мне невозможно свалить со своих собственных плеч или кому другому, даже тебе, хоть малость передать. Я опять же, папа, о своей собственной жизни говорю.
– Да ты, однако, индивидуалист! – Александру Николаевичу захотелось зацепить сына, сбить его с мысли: старика задевало, что Анатолий, а не он повел серьезный разговор.
– Да нет же, папа! – Анатолий обошел стул и, встав перед отцом, заговорил уже горячо, энергично жестикулируя руками. – Я хочу быть похожим в жизни на тебя, на маму, на старших своих братьев Артема и Митю, я тоже хочу жить для народа, как все равно для себя. Ты говоришь, Митя и Артем вынуждены были начинать сознательную жизнь с труда на заводе, а у меня другое дело, у меня нет нужды идти сначала к станку и учиться зарабатывать себе хлеб… Боюсь, не поймешь ты меня. Ты очень хороший, папка, ты любишь меня, думаешь обо мне, желаешь мне добра и готов для меня сделать все, что угодно, но ты не можешь влезть в мою шкуру, шкуру десятиклассника, сдающего экзамены на аттестат зрелости весной 1956 года, не можешь?
– Что верно, то верно! – усмехнулся Александр Николаевич. Сын действительно передумал немало, но уж что-то больно красно он говорит.
– Ага! – торжествуя воскликнул Анатолий. – Вот, папочка, что теперь скажу: мне просто невозможно идти в вуз, не умея ничего делать, и это совсем другое, чем было у Мити и Артема. Можешь этого не понимать, а согласиться с этим ты должен. Суди сам: всеми десятыми классами мы ходили на завод, чтобы заработать на выпускной вечер. И заработали только триста рублей. Стыдно, папа! Работа-то какая была? Завертывать в бумагу готовые подшипники.
– М-да, работнички, – Александр Николаевич покачал головой.
– Слушай дальше: ты говоришь, нам придется жить в то именно время, которое для вас, старых коммунистов, было мечтой. Да если хочешь знать, в этом-то все и дело! Это значит: мы живем и будем жить в такое время, какого на всей земле не бывало! Как же тут не раздуматься? В этом отношении мы должны быть не хуже вас, отцов и старших братьев. И этим, только этим выразить вам нашу благодарность.
– Анатолий, ты вроде хочешь меня положить на обе лопатки, – пробормотал Александр Николаевич, вдруг почувствовав, как у него влажнеют глаза, и в то же время внутренне не находя еще возможным согласиться с сыном полностью.
– Сейчас дожму, папка. – Анатолий снова подошел к отцу и крепко обнял его. – Мы думаем, как нам делать жизнь. А вот представь себе: мама услала тебя в магазин, а за чем, не сказала, только подумала, что ты должен принести соли. И вот мама варит суп и думает, что ты принесешь соли, а ты приходишь и вручаешь ей килограмм горчичного порошка. Или нет, папа, другой пример: ты мне сказал: «Тольян! Вот тебе сломанный стул, почини». Я взял стул, а как чинить, и не думаю, ты об этом думаешь. Эх, и работка будет у нас с тобой! – Анатолий отпустил отца. – Папа, ты своей жизнью показал, какая жизнь должна быть у меня. А уж дальше я думать сам обязан, в деталях, так сказать, с учетом особенности времени… А насчет вуза я пока не решил.
– Ну ладно, решай, – сказал Александр Николаевич. – А как у тебя отношения с Тамарой Светловой?
Анатолий покраснел и промолчал.
– Иди уж готовься к своему аттестату зрелости, – отец отвернулся к окну. – Одно имей в виду: чтобы экзамены сдать как следует, а после мы с тобой еще поговорим окончательно.








