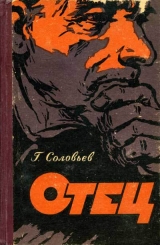
Текст книги "Отец"
Автор книги: Георгий Соловьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
XVII
Егор Федорович появился у Поройковых вскоре после разговора с Александром Николаевичем в саду. Первым делом он сообщал, что постоянный и бессрочный пропуск в завод дожидается уважаемого пенсионера у начальника охраны и его надо немедля получить; потом он дал Александру Николаевичу московскую газету с напечатанной в ней статьей Тихона Отнякина, сказал, что статья в самый «кон», попросил ее внимательно прочесть и обдумать выступление на партийном активе.
– Смотри, как раскомандовался, – нарочито недовольно сказал Александр Николаевич. – Ты, Егор, как партийное поручение даешь мне, вроде как я у тебя опять на учете состою.
На это Егор Федорович ответил не допускающим возражений тоном:
– С этим делом тоже не затягивай.
Он торопился и ушел.
Зовущим дыханием заводской жизни пахнуло от статьи Тихона Отнякина, как и от очерка Жени.
«Немного написал, а как наизнанку завод вывернул. Смело. И правильно», – поразмыслив над прочитанным, одобрил Александр Николаевич. Статья была, наверное, первым выстрелом того сражения, которое предугадывал Егор Кустов.
В день собрания партийного актива Александр Николаевич пришел в заводской агитпункт к назначенному часу. Егор Федорович встретил его у двери и будто для приличия поговорил с ним о том, о сем.
– А выступать, дядя Саша, будешь? – спросил он будто между прочим, продолжая высматривать среди входящих в зал людей коммунистов своей парторганизации и отмечая их в записной книжке.
– Так уж тебе и нужна моя речь. Куда уж мне. Сегодня и начальство все не успеет выговориться. – Александр Николаевич, увидев незанятым свое любимое место в шестом ряду у окна, пошел к нему вдоль стены. Он, бывало, шутил, что, глядя в окно, можно и скучных ораторов слушать.
Народ, как всегда, собрался минут десять спустя после назначенного срока. Дальше все пошло тоже по обычному ритуалу. Выбирали президиум и утверждали повестку дня. Александр Николаевич выискивал в зале знакомых, которых давно не видел. Все таким же благопристойным был Леонид Петрович Бутурлин с его интеллигентской бородкой. Мотя Корчагина перешептывалась с соседками и, как всегда, на лице ее было ожидание чего-то, что ее обязательно взвинтит, и она, хоть сама и не выступит, а будет бросать занозистые реплики; невозмутимо, засунув руки в карманы, сидел Гудилин, он уже был готов выслушать «критику в свой адрес» и позевывал, словно заранее высказывал свое отношение к этой критике. Сергей Соколов встретился взглядом с Александром Николаевичем и, многозначительно подмигнув ему, кивнул на сидевшего позади него черногривого Тихона Отнякина, автора статьи, так понравившейся Егору Кустову. «Вот сегодня вокруг чего разговор будет», – как будто это хотел сказать Соколов. «А ведь он – боец. Горяч. Глаза-то как угли, а, видно, умеет свой огонь внутри держать», – так определил Отнякина Александр Николаевич.
Докладчиком был первый секретарь райкома партии. Не так давно он работал на заводе диспетчером одного из цехов, а потом быстро стал выдвигаться, и в каких-нибудь три года стал руководителем организации крупнейшего индустриального района города. И его никто не считал выскочкой, он оказался энергичным и вдумчивым партийным работником. Он остался легко доступным человеком, не отгородился от народа звуконепроницаемыми дверями своего кабинета. «Этот от массы не оторвется», – отзывались о нем рабочие.
Говорил он о ходе выполнения решений Двадцатого съезда партии в районе. Доклад был в большей части призывным. Конечно, на предприятиях района имелись достижения, и немалые, но предстояла борьба за новые рубежи. Говоря же о заводских делах, докладчик как будто хитрил; он давал советы осмотреться, подумать, все ли благополучно на заводе, и не только в области производства, а и с внутрипартийной демократией, и в работе профсоюза. Можно было подумать: секретарь райкома пришел на собрание не столько учить других, сколько поучиться, как бы проникнуть в то новое, что рождается на заводе в связи с новыми задачами, вставшими перед всей страной.
Но можно было подумать и другое: докладчик завод-то знает, да не хочет о многом говорить, не хочет высказывать мнение райкома и тем снизить активность собрания.
И еще можно было думать, что он пока остерегается в выборе своих позиций насчет всего сказанного в статье Отнякина, которая, безусловно, была неприятна заводскому руководству.
Президиум чувствовал неопределенность доклада по отношению к заводским делам. Директор, положив перед собой руки – кулак на кулак, – хмуро поглядывал то на один край стола, то на другой и сидел недвижимо, уйдя в свои особые директорские мысли, которые владели им даже на этом собрании. Как всегда, в отличие от спокойно-властного директора, нервничал главный инженер, человек сухощавый и подвижной. Он то и дело нацеливался самопиской на раскрытый перед ним блокнот, но снова свинчивал ее, явно удивляясь гладкости доклада; главный инженер держался бдительно: ему предстояло отбиваться за дирекцию. Секретарь парткома почти не сводил глаз с докладчика и чего-то ждал от него. Похоже было, что он обижался на секретаря райкома за слишком уж бесстрастный доклад.
Выразив уверенность, что партийная организация завода сумеет возглавить борьбу подшипниковцев за выполнение плана шестой пятилетки, секретарь райкома закончил доклад.
За те минуты, пока председатель договаривался с собранием насчет того, чтобы вопросы задавать в письменном виде, главный инженер набрался решимости и первым попросил слова. По залу прошел шумок: обычно начальство приберегало себе выступление в прениях напоследок, и то, что главинж открывал прения, насторожило многих.
Насторожился и Александр Николаевич. Вскоре он догадался, в чем дело.
Главный инженер заявил, что на заводе ширится фронт борьбы за выполнение пятилетки. И после этого, экономя время, стал говорить быстро, приводя очень убедительные факты.
Завод участвовал во Всесоюзной промышленной выставке, послав туда для экспонирования в павильонах Поволжья и Машиностроения электропневматические и контрольно-сортировочные автоматы. Автомат для сборки веретенных подшипников тоже красовался на выставке. Разве это не свидетельствовало о кипении творческой мысли на заводе?
863 предложения, внедренных в производство в 1955 году, и три с половиной миллиона рублей условногодовой экономии тоже нельзя было сбросить со счетов.
Приводя положительные и веские факты и цифры, главный инженер перемежал их с критикой недостатков. На заводе, оказывается, не было достаточного резерва кадров для выдвижения на руководящие посты, и за это оратор пожурил помощника директора по кадрам. Сказав, что в 1955 году завод в основном успешно справился с планом, оратор подчеркнул, что в текущем году дело идет неважно, особенно плохо было с майским заданием. В этом повинны были все те товарищи, которые оказывают сопротивление внедрению нового. Так, разобрав деятельность завода, оратор призвал большевиков завода не успокаиваться на достигнутом.
После главного инженера и в тон ему выступили еще три оратора, и ни один из них тоже не упомянул ни словом о статье Отнякина.
Становилась все более и более понятной тактика, избранная главным инженером. Эту тактику – повернуть собрание так, как нужно руководству завода, – быстро поняли те, кому ее надлежало понять.
«Да, товарищ редактор, не сообразил ты, с кем в спор вступил; руководство завода – это испытанный монолит: он тебя всем своим весом прижмет, – подумал Александр Николаевич. – В „Правду“ надо было тебе статью посылать. Тогда бы и наша областная газета перепечатала и разговор на активе другой бы завязался, с полным признанием твоей критики».
Было несомненно, что, замалчивая, все ораторы уничтожают статью Отнякина. И кто-то в ходе собрания должен будет нанести прямой и неотразимый удар по самому Отнякину.
«Экие хитрохвостые, – досадовал Александр Николаевич. – А ты, Отнякин, пишешь, что политики на заводе нету. Есть! Вот она, тоже политика». Всех тех, кто сейчас выступал с трибуны, и тех, кто награждал ораторов жиденькими хлопками, Александр Николаевич знал хорошо. Все они были людьми работящими и, если честно сказать, уважаемыми им хозяевами и руководителями производства. Но сейчас их рвение вдруг как бы обернулось другой стороной и оказалось равнодушием. И как это ни странно, эти равнодушные люди Александру Николаевичу показались обладающими большой силой морального давления, именно давления, которое они умели создать под тем куполом, о котором писал Тихон Отнякин.
Александру Николаевичу даже стало немного душно, будто он тоже оказался под этим куполом.
XVIII
После перерыва прения продолжил Леонид Петрович Бутурлин. Он позволил себе решительно не согласиться с предыдущими ораторами и со своей мягкой улыбкой заявил, что полностью разделяет статью редактора заводской газеты Тихона Тихоновича Отнякина.
После такого вступления Бутурлин помолчал, ожидая реплик, но собрание настороженно затихло, и Бутурлин продолжил свою речь. Видно было, что он волнуется и чего ему стоит эта первая смелая речь на собрании.
– Очень хорошо, что созданные у нас на заводе машины экспонируются на столичной выставке. Но ведь это же упрямый факт: на выставке красуется автомат для сборки веретенных подшипников; он даже работает там, а в цеху такие же автоматы застыли, как музейные экспонаты. Подшипники же, как известно, делаются не на выставках. – И дальше Леонид Петрович побил все крупные козыри главного инженера и уже вескими примерами показал, как устарела на заводе вся система руководства производством. – Нет уж, товарищи, если мы считаем себя коммунистами, то давайте и осмотримся на заводе, как строители коммунизма. А так ли мы работаем? Учимся ли мы коммунизму практически, да и хотим ли учиться? Наш завод должен быть активнейшей силой в руках всего народа в деле создания материальной базы коммунизма. Невозможно представить себе мысленно, какое огромное количество подшипников, причем все новых и новых типов, потребует хозяйство страны. Да и других стран. Вот и давайте, проникнувшись этой высокой ответственностью, посмотрим на нашу работу. Я полагаю, другие товарищи постараются показать нам это в своих выступлениях, – с этими словами Леонид Петрович отошел от трибуны.
– А как вы понимаете броневой купол? Помните это место в статье? – не вытерпел и остановил его секретарь райкома. – Купол, скрывающий болезни завода?
– Да, помню. Видите ли, в дружеском разговоре с Тихоном Тихоновичем я именно так и говорил, – Бутурлин снова мягко улыбнулся. – И знаете ли, я не в обиде на товарища Отнякина за использование этого моего… ну, образного, что ли, выражения. Очень удачно он воспользовался им в своей статье.
Секретарь райкома в ответ неопределенно кивнул головой, а Леонид Петрович сошел в зал. Ему достались первые искренние аплодисменты.
«Открыл Леонид Петрович шлюзы чистой воде», – подумал старый Поройков, и с этой минуты собрание захватило его.
Одному человеку, будь он семи пядей во лбу, не охватить своим умом огромного завода, не управиться с ним, пусть он наделен от рождения недюжинной энергией и выдающимся организаторским талантом.
Управленческий аппарат, приданный командиру производства, тоже до конца не решит всех задач, которые наше коммунистическое строительство ежедневно, ежечасно ставит и каждому заводу, и всей промышленности страны. Борьба за коммунизм – дело всенародное. И есть у народа великая организующая его свободный труд сила; она рождается в устремлении к высоким идеалам и действует всюду.
Подшипниковый завод не просто не выполнял плана, не только был в долгу у страны – он оказался в долгу у будущего, у коммунизма. За это и начался спрос с виновных на собрании партийного актива.
Виновных было много, и степени виновностей были разные.
От выступавших ораторов доставалось бракоделам, неразворотливым снабженцам, медлительным организаторам. Многие сидящие в зале, слушая горячие речи, опускали головы, многим приходилось задумываться. Но на собрании вскрывались и тяжелые болезни всего производства, и этим подтверждалось и пополнялось главное обвинение, выдвинутое в статье Тихона Отнякина.
– Как же все-таки получилось, что наши руководители перестали понимать по-государственному свою роль? – спросил директора в своей речи Егор Кустов. И ответил: – Да потому, что они стали делягами. Вообразили себя генералами от подшипниковой промышленности, перестали понимать, что нельзя строить коммунизм, забыв о простых людях. А мы вот им напомним о себе и скажем: не позволим дальше вести стратегическую линию на штурмовки, на фальшивые рапорта, на очковтирательство. Мы не позволим скрываться за недостаточное снабжение завода металлом, новыми станками и винить только министерство. Мы, простые люди, знаем цену нашему труду; он и нам щедро отдается, и детям в наследство пойдет. Если мы несем по чьей-то вине потери в труде, то эти потерн самые невосполнимые, причем потери в мировом масштабе. Я это говорю насчет соревнования с капиталистическим миром. А раз так, то и выходит, что стратегическая линия, товарищ директор, у вас не наша, не коммунистическая. Вот и все!
«Это он уж слишком, – подумал было Александр Николаевич. – Руководители завода – люди партийные. – Однако, приглядевшись к директору, он встревожился: – А не понимает он. Ох, не понимает, за что его парят».
Директор сидел с невозмутимым видом: собрание было для него одним из привычных, когда он оказывался под огнем критики, признавал ее, но всем видом своим показывал, что есть обстоятельства, которые ведомы только ему, против которых он бессилен, и потому все то, что делается на заводе, – единственно возможное в этих обстоятельствах.
«Как неудачно сложился человек, – пожалел директора Александр Николаевич. – Не станет у него силы обновлять завод».
Зато главному инженеру, по мнению старика, партийная «банька» все же оказалась «пользительной»: действие ее сказывалось в той лихорадочности, с которой он делал записи в блокнот, в злом выражении его худого лица, которое он то и дело вытирал платком.
Секретарь парткома тоже был разогрет. Ему тоже досталось. Один оратор посоветовал перестать чувствовать себя «при директоре», забыть, что был недавно начальником цеха, и стать самостоятельным руководителем. Другой упрекнул за шумиху и показную парадность в социалистическом соревновании. За комитет комсомола, который больше заседает, чем работает, тоже крепко досталось. Но секретарь парткома набирался сил на собрании, в этом Александр Николаевич был убежден.
Ход прений Александр Николаевич совсем уж было оценил как хозяйский и уже ждал перерыва, намереваясь подтрунить над Егором Кустовым, припомнить его слова насчет того, что только пенсионер может быть полностью бесстрашным в критике. Разве сам Егор смалодушничал на трибуне? Но тут на трибуне появился работник из БРИЗа и напал на Отнякина: он назвал его самонадеянным выскочкой, пробывшим на заводе без году неделю, щелкопером. Статью Отнякина он назвал верхоглядством и встал горой на защиту заводских руководителей, честно выполняющих свой долг в труднейших условиях. От такой защиты даже главный инженер поморщился. Это было не хозяйское выступление.
«Такие-то и жизни своей не хозяева», – подумал Александр Николаевич. И тут ему захотелось тоже выступить, сказать о том, о чем еще никто не говорил и не скажет. А сказать надо всем, и директору особенно, пусть люди подумают над словом старика, что значит работать гордо. Он попросил у соседа бумажку и карандаш и послал в президиум записку.
Тем временем на трибуну взошла Мотя Корчагина. Никогда на таких больших собраниях она не выступала, а тут решилась.
– Недавно мы прочитали постановление о преодолении культа личности и его последствий, – уверенно начала свою речь Мотя. – Центральный Комитет нашей партии напомнил нам слова Владимира Ильича Ленина о том, что ум десятков миллионов творцов создает нечто неизмеримо более высокое, чем самое великое и гениальное предвидение (это Мотя прочитала по бумажке). Так-то оценивал Ильич наш ум, товарищи. Про что здесь многие говорят? Да про то, что мы все очень хорошо знаем, куда направлен наш общий труд на заводе, и еще про то, что нам мешает. А за всем тем, что нам мешает, стоят тоже люди, у которых понятие заскорузлое. С этими людьми мы и должны разговаривать прямо, против шерсти их задрать перед всем народом. И я хочу сейчас сказать свое слово начальнику нашего цеха Гудилину Михаилу Михайловичу. Его деятельность подробно описана и в нашей газете и в областной тоже частично освещалась. А только итога ей не подбито. Да так, чтобы все знали. А итог такой: если посмотреть, какие задачи нам предстоит выполнить, и поглядеть на наш цех, так иначе, как разваленным, он выглядеть не будет. Может, наш коллектив цеха виноват? Конечно, виноват. Виноват в том, что мы в своей партийной организации не потребовали от Гудилина, чтобы он к рабочему слову прислушивался и уважал его, чтобы он принимал нашу руку, когда мы ему предлагали ее для помощи. А ведь Гудилин нанес заводу большие потери, если их в потерянном труде посмотреть. И не хочет человек чувствовать себя за это виноватым. Вот он у нас студент: в рабочее время уроки учит, а в цеху порядка не наводит, даже не обращает внимания, что в цеху есть новое оборудование, а работают на нем по-старому необученные люди. Какой же из него в дальнейшем будет руководитель, хотя и с инженерским дипломом? А то на работу под хмельком заявится. А с него пример берут. Вчера только наладчик Сопрыкин на четыре часа во вторую смену опоздал. Не за ту науку прежде взялся ты, товарищ Гудилин, тебе бы поначалу людей любить и уважать научиться надо. Если бы ты рабочего любил, так и в цехе станки бы хоть расставил, чтобы у них легче было, просторней работать. В грязи надоело работать…
– Демагогия! – пробасил Гудилин. Его не очень пока трогали, и он помалкивал. А как Мотя задрала против шерсти, не выдержал.
Мотю будто ударили по лицу.
– Демагогия!? – вскрикнула она. – Любят у нас этими словами некоторые бросаться, когда против правды нечего сказать. Слушать надо, товарищ Гудилин, что люди говорят, да понимать, что когда с тебя государство, партия спросят, – не отделаешься этим словом, как от меня хочешь отделаться. – Мотя пошла от трибуны и добавила: – Некоторым запретить надо это слово, не для них оно.
«Как он ее обидел-то, – посочувствовал Александр Николаевич рассерженной Моте. – А и мне надо ему свое слово сказать. На меня, небось, не рявкнет». Он стал обдумывать свою речь, полагая, что выступать ему еще нескоро, если вообще придется: народу в прениях много записалось, и скоро должны «подвести черту». Но тут председатель сказал, что слово просит старый рабочий Поройков и президиум предлагает выслушать его без очереди. Собрание ответило аплодисментами.
«Эх, как неожиданно», – растерялся Александр Николаевич, однако пошел к сцене.
На трибуне он замялся, подыскивая в уме первые слова, и оглядывал зал так, словно спрашивал у всех, что же он им должен сказать. И вдруг взгляд его остановился на Отнякине, который действительно выжидательно смотрел на него. «Экий, в самом деле, взгляд у него. Таким взглядом и человека остановить на ходу можно. А добрые глаза-то. Вот тебе-то я и расскажу кое-что». И, обращаясь к Отнякину, Александр Николаевич заговорил:
– Вот взошел я на это место, и будто вчера меня из этого зала провожали. Насовсем, на отдых, как говорят. А это только так показалось. На самом деле долгие дни я прожил в стороне от завода не у дел. Нелегко это. Не отдых… Так, значит, уважили вы меня, как старика, вне очереди слово дали. Спасибо. Вот я и хочу сказать по-стариковски душевно и откровенно. Нехорошо я ушел с завода. То есть проводили меня очень приятно. Подарками и сейчас любуюсь… А уходить я начал не с того часа, как меня болезнь свалила, а когда один начальственный товарищ стал мне чуть не каждый день говорить: уходить тебе, старая песочница, пора, отстоял вахту – и уходи с поста. Правильные слова его были, а обидные, потому как они говорились… по-капиталистически: износился, мол, рабочий всего-навсего, а не советский человек состарился.
Может, непонятно говорю и вроде как ни к чему про себя говорю? Нет, не про себя.
В какое время я окончательно вышел из строя? Как раз в период Двадцатого съезда партии. Великий был съезд. Все съезды нашей партии были великими и каждый раз все величественней и величественней. А для меня он особенно великий. Может, до следующего съезда не дожить мне уже… Читал, изучал я Двадцатый съезд; итоги и моей жизни на нем подведены… Потому-то я и говорю вроде о себе, а на самом деле – не о себе.
Такая у меня мысль возникла. А что, если бы всех моих сверстников в сей момент из могил поднять?
И в моем поколении люди очень задолго до такой вот, как моя, старости лишились жизни. Лежат сейчас мои сверстники кто на дне морском, кто в земных могилах, а чьи кости и без могил истлели. Погибали мои товарищи и в петле жандармской виселицы, и сражаясь за нашу власть в заоблачной высоте, и в труде – тоже. Вот какой бы строй стариков мог сейчас быть перед вами… Да только один я из таких-то на нашем собрании живой оказался. Это для меня исключительное счастье. Только оно не исключительно личное, а потому особенно необъятное. От имени своих старинных товарищей хочу говорить.
Тут у Александра Николаевича немного захватило дыхание от сухости во рту. Он посмотрел на пустой стакан, стоявший перед ним на трибуне.
Секретарь райкома схватил было со стола графин, но он тоже был пуст.
Кто-то побежал за водой. Александр Николаевич продолжал свою речь:
– У человека, который в борьбе сгорает, нет времени итог всей своей жизни подвести. Так вот, у меня-то есть время на стариковское раздумье. О том, как нам верней идти по указанному партией пути, разговор у нас на собрании. – Александр Николаевич заметил, что Отнякин одобрительно кивает ему, и, не сводя с него горящих глаз, сказал: – А как же?! Именно об этом. И что же получается! Смотрю я на некоторых товарищей здесь, а они вроде как упираются. И даже очень некрасиво это у них выглядит. – Тут Александр Николаевич перевел взгляд на Гудилина. – О тебе хочу сказать, Михаил Михайлович… Слышишь? Да глаза-то подними. Как ты мог такое слово в рабочего бросить? Объясню-ка собранию я это слово, как ты его понимаешь. Я тебя маленько знаю. Начальник ты властный, с напором; нажимать на нашего брата умеешь. Это у тебя талант несомненный. За это начальство ценит, и ты это знаешь. А больше у тебя ничего нету. И первым делом уважения к людям. И вот все, чего у тебя нету, ты и называешь демагогией, то есть подрывом своего авторитета. В опасном ты положении находишься, потому что не понимаешь, до какого времени мы всем народом дожили. Живешь ты в то время, которое для нас было когда-то будущим. Не порти его своим непониманием и грубыми привычками. Вот что тебе говорю от имени всех живых и покойных стариков.
Александр Николаевич оглядел зал и продолжал, уже не глядя ни на Гудилина, ни на Отнякина:
– Теперь, значит, насчет талантов вообще. Талант у нас расцветает, когда он народу служит, в общем деле вперед идет. Без этого у нас и таланта не бывает. Погаснет у него этот огонек служения народу, и талант заглохнет, и тогда он подлежит замене. И заменяют его непременно. На то у нас народная власть и установлена.
Александр Николаевич запнулся: сердце дало о себе знать тупой болью. «Надо заканчивать, – подумал он с тревогой. – И говорить-то уж негож…» Но тут секретарь райкома поспешил подать стакан воды.
Александр Николаевич отпил немного и заторопился.
– Да, так вот насчет горения души… – Тут у него вдруг перехватило дыхание. – А сердце-то у меня шалит… – сказал он с трудом и кривясь в болезненной улыбке. – Мы на этом собрании и увидали, что кое у кого огонек погас… Это, я думаю, понятно, о ком говорю?
В зале поняли состояние старика, послышались возгласы:
– Ясно, дядя Саша. Правильное твое слово. Передохни. – Кое-где раздались хлопки в ладоши.
Александр Николаевич поднял руку.
– И мы им должны сказать: такой их службы не допустим… на то мы и партийцы. Прошу подумать над этим некоторых товарищей. Ежели устал, чувствуешь, – уходи сам, по-хорошему. И тогда останешься нашим уважаемым товарищем, хотя и поменьше работу возьмешь. Огонька в душе только не гаси, партийного огонька… Трудно все же мне говорить… Последнее скажу… Приглашают меня, старика, товарищи по партии вернуться на учет в свой цех… – Александр Николаевич почувствовал противную теплоту в руках и ногах, как будто сердце с натугой плеснуло в жилы горячей кровью, судорожно вздохнул и в настороженной тиши закончил: – За это им мое сердечное спасибо.
Александр Николаевич сошел с трибуны. Ему было совсем нехорошо. По тому, как все в зале поднялись, он догадался, что объявлен перерыв.
Кто-то сильный взял его под руку и повел к выходу в потоке гомонивших людей. Это был Сергей Соколов.
– Крепко ты сказал, дядя Саша. Насчет стариков особенно…
– Где там…
– Пойдем-ка на вольный воздух, на ветерок тебя провожу.
– Тут и отдыхай, – сказал Соколов, подводя старика к скамейке на краю заводского сквера. – Побледнел, серый сделался ты на трибуне. Даже напугал. – Сергей Антонович тоже присел на скамейку и некоторое время наблюдал за Александром Николаевичем.
– Ты иди на собрание, – сказал тот. – И без тебя отдышусь благополучно. Это у меня часто бывает и проходит.
– Только смотри сам не вздумай один опять по этажам карабкаться, – помедлив, сказал Соколов. – Прыть не выказывай зря. – Он еще помедлил, прежде чем уйти. – Жди меня тут.
«Смотри, какой заботник. – Александр Николаевич проводил взглядом быстро и легко уходящего Соколова до угла заводского корпуса. – Вот зять, значит, у меня еще будет».
Побеленный к майскому празднику и еще чистый корпус весело шумел всеми цехами; от кузницы доносилось сотрясающее землю уханье прессов. Низкое солнце обливало стенку корпуса, асфальтовую аллею, деревья буйным потоком золотого нежаркого уже света. Звенела над головой тяжелая налитая листва. Левее ворот стояло с десяток «москвичей» и «побед» – это были личные машины заводских работников. У проходной скучал охранник. По аллее прокатила электрокара; прошли слесари-водопроводчики с мотком проволоки и газовыми ключами. В дальнем конце заводского двора, посвистывая, прокатил паровоз, толкавший два пульмана. Завод жил привычной жизнью.
А в агитпункте продолжался партийный актив. «Сильных людей много на заводе», – подумал Александр Николаевич, немного придя в себя и стараясь хоть мысленно представить себе тот разговор, который продолжался в агитпункте. И тут ему пришла мысль, что завод никогда не ослабевал; он только временами не мог быстро набраться той новой силы, которой требовала от него страна. И все же происходило так, что на заводе неизбежно нарастал прилив новых сил. И этот прилив всегда начинался так же, как он начался сегодня на партактиве.
«Обязательно на партучет в свой цех… Гудилин-то, наверное, Матрену Корчагину поприжмет за критику. А мы не дадим ее в обиду, – думал Александр Николаевич. – На таких-то вот делах и самого Михаила Михайловича помаленьку переиначивать начнем… А Тольян-то верную линию выбрал. Не сожалеть, а гордиться отцу надо. Со своей юной силой парень в завод стремится, пожалуй, хорошо ему на заводе устроиться. Помочь, что ли? В отделе кадров уважат просьбу старика. Чтобы сразу на хорошую работу был поставлен, о какой мечтает… Да не обидеть бы таким-то „блатом“».
За этими мыслями и застали Александра Николаевича Егор Кустов и Сергей Соколов.
– Ну, бой заканчивается, – сказал Кустов. – А ты как, дядя Саша?
– Отсиделся… Неужели опять перерыв?
– Последний. – Соколов присел на скамью. – Директор выступал. Как в воду опущенный. Трудно ему, обессилен, всем видно, да и сам он это понимает. – Соколов был какой-то виноватый и встревоженный. – Может, зря его так-то, дядя Саша? Живой все же человек.
– Закаленный мужик. Выдюжит.
– Где попроще – выдюжит, – уточнил Егор Кустов. Он все еще был в боевом запале.
– Это уж его дело, – ответил Александр Николаевич и спросил у Соколова: – А ты чего не выступил, ты теперь, кажись, на заводе в передовики выходишь со своей бригадой.
– Побоялся, дядя Саша. – Соколов загадочно ухмыльнулся. – Вот что пойми: в бригаде мы постоянно учимся работать культурно, это нужно в нашем массовом производстве. Вот и боюсь: как выйду на трибуну опытом делиться, так и попросят меня и другие трибуны обслуживать. А нам работать надо.
– Не прав ты, – вмешался Кустов. – Опыт затаиваешь.
– Опыт? – спросил Соколов все с той же загадочной ухмылкой. – Когда накопим богатый опыт, не пожалеем. А сейчас мы – как все. Может, труд свой больше других уважаем. Это не опыт, это от души.
– Скромничаешь?
– Нет. А выхваляться не стану. – Соколов лукаво улыбнулся. – Это мне вот старики, которые нынче с дядей Сашей на трибуну вместе выходили, еще раз сегодня строго-настрого наказали.
Александр Николаевич тронул Егора Федоровича за колено.
– Ты вот что, Егор, как думаешь: Гудилин Матрене не спустит? Тут, гляди, дело сугубо партийное.
– Разве мы с тобой позволим? – удивился Егор Федорович. – Ты же теперь у нас будешь опять.
– Да вот все же хочу по Волге. Ну, тянет старого. Так пока я путешествую, ты гляди.
Александр Николаевич помолчал и доверительно закончил, обращаясь к Сергею Соколову:
– А потом есть у меня еще одно семейное дело. Со старшим сыном дело.
– Знаю, – ответил Соколов.
– Так у него порядок, кроме меня со старухой, никто не наведет. Тоже съездить обязательно надо.







