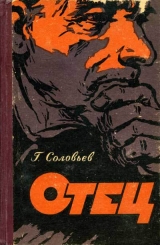
Текст книги "Отец"
Автор книги: Георгий Соловьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
XV
Светлое чувство к людям бригады Соколова, родившееся у Жени на собрании, было столь сильным, что и без совета Тихона Отнякина Женя села бы к столу с листом чистой бумаги. Но если бы требовалось только описать собрание, – задача была бы легкой. Нужно было осмыслить безусловно что-то новое для Жени, что было какой-то новой высотой в ее газетной работе, которую нужно было взять. Женя, то раздумывая, то пытаясь записать свои мысли, просидела за столом до рассвета. И просидела впустую. Даже Соколов, хотя она описала его вплоть до его пегой брови, получился какой-то приторный. Она писала так, как привыкла писать, а так писать было уже нельзя.
«Аллилуйщина, аллилуйщина, – думала со стыдом Женя. – Это и в самом деле оскорбительно для тех, о ком пишем».
Изверившаяся той ночью в себе, расстроенная Женя вздремнула немного и вовремя вышла на работу. Отнякину она сказала, что с очерком у нее не получается и не получится.
– А много ли бумаги испортили?
– Листов пятнадцать.
– Можно бы и больше, но и так – почти нормально. Уверяю вас, теперь получится.
Женя занялась своими обычными делами, которые ей показались в тот день легкими. Но, что бы она ни делала, она думала о бригаде Соколова. И ноги будто сами принесли ее в цех мелких серий к концу смены.
Пересменка рабочих произошла, как всегда: одни ушли, другие встали на их места, и станки продолжали жужжать моторами, искрить и шипеть абразивными кругами.
А Соколов сказал Жене:
– Сегодня у нас генеральная проба сил по всему фронту. После смены на пятиминутке точные обязательства возьмем, – он похлопал себя по нагрудному карману блузы, где – надо было так понимать Соколова – уже лежали записанные на бумаге эти самые точные обязательства бригады.
И Женя вдруг «заболела» работой бригады. Она была на собрании, знала, какие задачи поставило перед собой одно из подразделений огромного коллектива завода, поэтому работа каждого рабочего сделалась для нее не обыденной, а наполненной большим смыслом; Женя наблюдала в действии товарищеский сговор бригады.
Марина, когда Соколов подводил к ее станку какую-либо работницу, особенно отчетливыми движениями с ободряющей улыбкой показывала, как она работает. Соколов также учил работниц, как лучше пользоваться мерительным инструментом. Дядя Вася работал с явным удовольствием; он встречал в людях отклик на его готовность учить их подналадке. То формальное отношение к станку, когда люди считали себя обязанными лишь крутить ручки, пока станок в исправности, и отходить в сторону и равнодушно ждать порой по горло занятого наладчика, исчезало в бригаде. Как раз через два часа после начала смены Ленька Ползунов закончил шлифовку партии колец; надо было переналаживать станок на другой тип, и Ленька помогал наладчику. Дядя Вася похвалил Леньку за сообразительность, и парнишка засиял. Кепочка-короткокозырка, придававшая раньше Леньке хулиганский вид, сегодня совсем не портила воодушевленную физиономию.
Валя Быкова и Миля Уткина, шлифовавшие разные детали, в эту смену менялись станками и контролировали качество работы одна у другой. И у этих девушек дело шло на лад. За все время, пока Женя была в бригаде, ни одна из них не бегала в ОТК, не выказала неуверенности в том, что работает неточно.
– Понимаешь ли, товарищ журналист, – сказал Соколов, подойдя к Жене, сидевшей на высоком табурете у станка Марины. – Как только маленько обладим наш ансамбль, так станем добиваться перехода на почасовой график. Вот тогда-то зазвучит наша музыка. В настоящем ритме.
И тут Женя поняла причину своей неудачи в прошлую ночь. Она, задумав писать о бригаде, писала об отдельных людях. Да, конечно, в бригаде были люди с разными талантами, с разными характерами и способностями. Но эти разные люди были объединены общей идеей, и бригада могла бороться за единую цель именно потому, что была богата разными людьми, каждый из которых отдавал что-то свое лучшее общему делу.
Как только Женя поняла это, ее потянуло домой к столу, к чистым листам бумаги.
Солнце уже приблизилось к горам. В воздухе стало будто прохладней. Народ высыпал на улицы поселка. На асфальте шоссе молодежь затевала танцы. Пожилые люди расселись у крылечка в холодке густолистых деревьев. По другую сторону шоссе ровным звоном станков пел завод; в этот звон гулкими ударами врывался грохот кузнечных прессов. И в этом поющем шуме завода был шум и станков бригады Соколова. «И так ежечасно, ежедневно даже на нашем отстающем заводе люди своими руками дарят миру новое. Об этом, пусть маленьком, но новом, что произошло в его бригаде, Сергей Антонович объявит после смены на пятиминутке», – подумала Женя. Это и была та мысль, которая помогла ей найти верное начало и пафос ее очерка.
Женя опять трудилась всю ночь. Все, что она знала теперь о бригаде Соколова, о Марине, представлялось ей продолжением ее мыслей, ее разговоров с Тихоном Отнякиным, и она писала об этом; она писала о том, почему, за что она полюбила людей бригады, прониклась к ним светлым чувством, которое обогатило ее самое. Так, она написала о том, что все люди не любят пустой славы, о том, как хорошо сказал об этом Соколов, что они хотят быть хозяевами своих судеб. Она вспомнила слова Марины, что горе не заело ее жизни, что труд – ее главное дело. Она написала о той прямоте, с которой Соколов говорил рабочий о настоящей рабочей закалке, и о примере Марины, добытом в старательном труде. Ленька Ползунов ей представился человеком не только с ленцой, а и с характером, который устраивает бригаду. Потом Женя вспомнила слова Отнякина о том, что еще никто не видел так близко коммунизм, как видят его люди нашего советского поколения. Потом подумала сама, что никогда еще они так зримо не ощущали результатов своего труда в растущем собственном благосостоянии и необыкновенном росте, в красе и могуществе всей Родины.
Проработав так всю ночь, Женя, чуть вздремнув, пошла на работу.
– Вижу, работали, и как следует. Вот теперь вы обязательно напишете, – сказал редактор и отправил ее спать.
Отдохнув, Женя перечитала свои наброски, отредактировала их, уже как чужие – это она умела делать, – и переписала очерк начисто. Наутро она робко отдала его Отнякину.
– То, что надо. Публицистическая жилка явно у вас есть. Я хочу отдать этот очерк в областную газету. Вы разрешаете? – спросил он.
– Куда хотите.
Прошло всего три дня, и очерк увидел свет. Как будто ни словечка не было изменено в очерке, но то, что читала Марина, вроде как и не Женя писала. Ее собственные мысли, но прочитанные чужим голосом, казались ей четче, полней и глубже.
– «…Так в труде всей бригады, вливающемся в труд заводского коллектива и всего народа, таятся истоки полноты и личной жизни каждого рабочего. Там учатся друг у друга работать и жить. Каждый находит в товарище такое, что обогащает душу, наводит на раздумье и желание подражать. В этом и выражается трудовое товарищество в бригаде». – Марина кончила чтение и, складывая газету, сказала: – Да, это наши мысли. Все правда. И ладно написано.
– Люблю завод! И век любить буду… – воскликнул Артем. – А у Вики, небось, чайник весь выкипел… Опять семейная сцена будет. – Он торопливо ушел.
– Душу сегодняшнего рабочего ты, газетчица, начинаешь очень правильно понимать, – сухо покашливая, проговорил Александр Николаевич. – Однако засиделся я в доме. Пойти садок проведать, что ли…
Своим очерком Женя как бы издалека показала Александру Николаевичу мир, близкий ему и родной, но озаренный новым светом, и потому вдруг ставший далеким и невозвратным для старика.
«Ишь ты, девчонка чего пишет: „Никогда еще на планете люди не жили так красиво, как живут в нашей стране, в наше время“, – раздумывал Александр Николаевич, бредя затихшим под знойным солнцем поселком. – А мы, что же, не красиво свое время отжили? Нет! Мы с Владимиром Ильичом Лениным путь начинали, а потом его заветы выполняли. Люди коммунистического общества не забудут и нас, бойцов ленинской партии».
XVI
На краю участка Соколова стояла высокая старая груша. Она осталась от старого сада. Весной она сплошь покрывалась цветом, казалась полным сил деревом и гордо высилась среди молоди, росшей на месте давно вырубленных ее сверстников.
Буйный цвет старого дерева приносил мелкие и жесткие, как у лесного дичка, дульки. А осенью, стряхнув листья, груша становилась откровенно старой, хотя черный ствол ее и на новую зиму оставался надежной опорой искривленным ветвям и сучьям.
«Видишь, какая счастливая судьба тебе выпала, – завидев старую грушу, подумал Александр Николаевич. – Пожалели тебя почему-то, а то и забыли срубить вместе с твоими сверстниками, когда запущенный сад расчищали. А теперь у кого на тебя рука поднимется? Стой, красуйся и страдай, пока сама не рухнешь…» – Александр Николаевич дошел до своего участка и сел в холодок под вишенку на старое перевернутое кверху дном ведро.
Густо увешанная кораллово-розовыми еще жесткими ягодами ветка соседней вишенки выставилась на солнце; на самом ее конце две Ягодины, словно самые жадные на свет и тепло, уже набухли темно-бордовой мясистой спелостью. Александр Николаевич потянулся к ним и сорвал.
«Сладка уж, – определил он, попробовав ягоды. – А не наберу ли я спеленьких своему степняку?» – Александр Николаевич оглядел млеющие в благодатной теплыни вишенки. Артема, конечно, можно было угостить вишнями.
Но тут Александр Николаевич заметил у штамба вишенки, под которой сидел, аккуратную щепотку желтоватой пыльцы. Эта пыльца струйкой набежала на землю по трещине в коре от почти незаметного отверстия. Под кору молодого дерева забралась какая-то нечисть и точила его.
Александр Николаевич достал из рундука кусок проволоки и с трудом вытащил из довольно уже длинного хода жирного вредителя. «Не зря в сад пришел. Надо еще посмотреть», – решил Александр Николаевич.
Он пошел меж деревьями, осматривая их стволы и набирая в кепку самые спелые вишни.
Где-то в глубине сада хор хмельных, но не очень фальшивых голосов затянул «По Дону гуляет казак молодой». Какая-то компания уже начала гулянку в саду и, судя по голосам, то визгливым – женским, то густым – стариковским басам, компания собралась немалая, семейная. И старый Поройков вернулся мыслями к своим семейным делам.
Как это получилось, что растили они с Варварой Константиновной детей и как-то предопределяли им судьбы? А вырастили – и все не по родительскому плану получается. А может, народная жизнь так обновляется, что старикам самим ее уж не понять, не то что детям в ней указывать дорогу? Так ли оно, этак ли, а в старости родительские обязанности получаются неясные. Неужели только и осталось, что сопротивление неумолимым болезням да вот этот садочек, эти первые спелые вишни, которыми он собирается угостить сына? И как же это получилось, что, когда был молодым, хотел угадать будущее своих, тогда еще не родившихся детей, а не угадал и собственной старости?
Александр Николаевич оглядел округу. Видел ли он в своих давних боевых мечтах о будущем именно таким этот завод, этот поселок и все, что лежало вокруг, как свое последнее местожительство на земле?
Нет, он всего этого в мечте не видел именно таким, каким оно было сейчас перед его глазами. А вот жизнь при народной власти, которой он и его дети и внуки сейчас жили, виделась ему именно такой. Но мечта всегда вела его в жизни и он всегда видел, как достигается мечта, а, достигнув, никогда не мог постичь ее во всей жизненной полноте сам, в одиночку. Для этого и глаз только своих, и сердца, и души не хватало. Вот тут-то старый Поройков и подумал, что дети его, чьи мозг, сердце и глаза были его кровными, чьи жизни были продолжением его жизни, увеличивают мир его стариковской души. Их труд, их радости, их страдания – все это и его жизнь, его личное богатство, душевное богатство его старости, нажитое всей его жизнью.
Александр Николаевич посмотрел на далекий голубевший плес Волги. На глаза попалась старая груша. «Это тебе, бабушка, до конца века с места не стронуться. И не нажить больше ничего. А я вот возьму супругу да по Волге и поеду с ней. Ишь, как манит. Самая пора ехать…»
Но тут справа от Александра Николаевича послышался громкий голос:
– Так и есть! Думаю, по такой погодке обязательно ты должен в садочке быть. – Егор Федорович Кустов продрался сквозь крыжовник. Его полное чисто выбритое лицо было в красных пятнах, и он тяжело дышал.
– У тебя, что ли, гуляют? – спросил Александр Николаевич, пожимая потную руку Кустова.
– У меня… Родня… Ишь, распелись. А меня, значит, в магазин за водкой. Не хватило старикам. Эх, и народ! Говорят, водки бояться не надо, пусть она тебя боится, иначе – убьет водка тебя. Вот и понимай их.
– И раздобрел же ты. – Александр Николаевич взглянул с усмешкой на жирную волосатую грудь Кустова, обтянутую расстегнутой трикотажной рубашкой. – Сердце пошаливает?
– Да вроде ничего. А раздобрел… Ничего не могу поделать. Уж я и городками занялся, и работаю… А все пухну.
– А все же водки остерегайся.
– И то. Думаю: я вам, дорогие родичи, конечно, принесу, да не сей же час, прежде вот своего старого друга моряка навещу. Как живет, узнаю. Где же тут посидеть-то можно?
– Видишь, парк мой еще не больно тенист, – ответил Александр Николаевич, обходя кругом вишню и выискивая спелые ягоды. – Да и работу еще я не кончил. Сын приехал, надо угостить.
– Артемий Александрович приехал? – Егор Федорович сорвал спелую вишню и бросил себе в рот.
– Он.
– Хороша у тебя скороспелка, дядя Саша… Ну и как он, совхозник наш?
– Артем-то? Артем, он молодец.
– А сам-то ты, дядя Саша, поживаешь как?
– Да все так же.
– А ведь я к тебе неспроста. Поговорить бы надо. Задушевно. Да у тебя дома полно народу. К себе позвать – тоже не уединимся. А тут в садочке обстановка благоприятная.
– Вроде для роздыху посреди выпивки разговор-то, – усмехнулся Александр Николаевич.
– Это ты зря, дядя Саша. Выпил-то я действительно. Да что двести граммов старому разведчику…
– Бывшему разведчику, – поправил Кустова старик.
– Это все правильно, – с готовностью согласился Егор Федорович. – А все-таки нюх разведчика остался у меня… Ты что же на завод глаз не кажешь? Оторвался, так сказать.
– Видать, не крепко пришит был.
– Ишь ты! А я думал, ты не нитками к заводу всю жизнь был припутан. Может, обида? Помню я, как ты от Гудилина выходил с обходным листком.
– Какая может быть обида? Наоборот, как сяду чай пить, возьму дареный подстаканник, так и вспомню, как торжественно меня на отдых проводили. – Александр Николаевич перешел к следующему дереву. – Так что тут нюх тебя обманывает.
– Насчет нюха разговор будет другой. – Егор Федорович высыпал горсть вишен в кепку Александру Николаевичу. – Пожалуй, с этого и начну. Чую, на заводе сраженье начинается.
– Это какого же неприятеля ты, разведчик, унюхал?
– На заводе этот неприятель вечный. Как только новый разбег начинаем в производстве брать, он тут же и объявляется.
– Понимаю. В каком же лице он сейчас воплотился?
– А черт его знает. Может, и во мне он сидит.
– Вот так разведчик.
– То есть он кое-где ясно виден. Вот к примеру. Наш цех скоро на шестичасовой день переведут. Нелегкая у нас работа, сам знаешь. Требовалось давно подумать о здоровье рабочих. Ну, раньше не до того было. А теперь можно. Так ведь нашлись, которые против этого. И Гудилин был первый. Вроде как за план болели, за себестоимость. И брала верх ихняя сила. Да я и сам их поддерживал: вроде сознательность проявлял. А высшие инстанции разъяснили, что такая линия не соответствует нашему общественному устройству. Выходит, только цехком и Матрена Корчагина с самого начала правильно понимали существо вопроса.
– Ну вот, теперь посидим. Видишь, к своему трону я вернулся. – Александр Николаевич сел на ведро, положив на землю полную вишен кепку. – Бери вот тот ящичек да растолкуй суть твоего разговора.
Егор Федорович устроился напротив старика и рассказал ему про заводские дела то, о чем Александр Николаевич и сам знал.
– Видишь ли, какое дело, дядя Саша, будто весь заводской коллектив осмотрелся на заводе, примерился к линии, рекомендованной нашей партией, и забеспокоился: неладно дела у нас идут… Ну вот, как хозяйка в доме в какой-то день вдруг увидела, что требуется побелка, большая приборка; запусти еще чуток – и жизнь в доме настанет некрасивая. Вот моя компания, – Егор Федорович кивнул головой в глубь сада. – Слышь, умолкли, значит, разговор у них. А о чем? О заводе только.
– Всегда так было. Всегда, Егор, мы осматривались вокруг себя и крепко думали, как дальше нам жить и работать.
– Знаю я это. Понимал всегда, что без этого ничего бы мы не создали. Да вот сам я так не умел оглядываться. Не понимал, что это такое, сам мало видел, ждал, пока люди укажут.
– Это ты, Егор, в зрелый возраст вошел. Раньше тебе по возрасту футбольные увлечения были положены, а теперь другое! – «подковырнул» Александр Николаевич.
– Я серьезно говорю, дядя Саша! – обиделся Егор Федорович; пятна на его лице почти исчезли, и он уже говорил не задыхаясь. – Про бригаду Сергея Соколова знаешь?
– Да ведь газеты читаю.
– Тянет меня по-душевному к этому человеку. Это настоящий разведчик, он умеет вперед поглядывать. – Егор Федорович поднялся. – А пришел я к тебе, дядя Саша, чтобы пригласить тебя вернуться в нашу партийную организацию. Как?
– Это у тебя тоже вычитано из газет?
– Нет, – твердо ответил Егор Федорович. – Это наш новый редактор – он у меня в организации состоит – разделал меня на все корки за то, значит, что ты от завода оторвался. Пристыдил крепко за бездушие к старому коммунисту. Перехватил он, конечно, насчет бездушия, а все же прав.
– Не знаю, Егор, может, и есть такие железные старики, про которых в газетах пишут. И молодежь-то они поучают, и работать учат, и в рабкоровских рейдах, и члена ми-то советов ветеранов. Больше молодых работают.
– Постой, – Егор Федорович коротко махнул рукой. – Ты в школу на собрание все равно ходишь… Статью насчет детского воспитания написал… А в свой цех тебе тяжелей будет прийти? Пойми, дядя Саша, нашей организации твоя душа старого коммуниста нужна, твой опыт жизненный.
– Э, опыт… – Александр Николаевич тоже отмахнулся от Кустова. – Мой опыт и родным детям не больно годится, а то цеху… Нет, Егор. Старость, она есть старость по всем швам. Наедине с собой человек остается. В последнем, так сказать, раздумье и подведении итогов. Намерился я по Волге проехать. Дождусь внуков из лагеря, старуху приглашу, и такой-то компанией отправимся страну посмотреть, какой она стала за мою рабочую жизнь.
– Это дело хорошее, – согласился Егор Федорович, снова садясь на ящик и придвигаясь ближе к старику.
– Не только хорошее, а и необходимое, – строго пояснил Александр Николаевич. – Ты вот Соколовым восхитился. У него в бригаде молодая жизнь расцветает. Старикам другое нужно. Я думаю, в старости человек обязательно должен сам увидеть, в какие большие дела и его трудовая жизнь влилась. Вот и я хочу проехать по Волге как хозяин.
– Ты, дядя Саша, не уклоняйся, – тихо, но настойчиво попросил Егор Федорович. – Самого, небось, тянет на завод.
– Мало ли куда тянет, – раздраженно ответил старик. – Ну что я буду делать в цеху, гостем приходить?
– Дядя Саша, ты человек независимый, твое слово будет чистым, бесстрашным, как никто, правду резать можешь, никто тебя ни в должности не понизит, ни даже выговора не объявит.
– Вон оно что! Это значит, для борьбы с разными бюрократами ты сам-то храбрость подрастерял, разведчик? Может, полагаешь, что я Гудилину хребет начну ломать? Этого нескоро повернешь, гибкости у него должной нету. – Александр Николаевич взял свою кепку с вишнями и пошел к дороге.
– А мы его, Гудилина, сначала попарим, баньку устроим. А уж потом и хребет согнем.
– Кто это мы? – Александр Николаевич остановился на дороге, поджидая Егора Федоровича.
– Партийный актив завода на днях. Приглашаю, дядя Саша. Придешь?
– Вот за это спасибо. Пожалуй, обязательно приду.
– Договорились! – обрадовался Кустов. – А насчет Волги, дядя Саша, – это замечательно. Сам собираюсь который отпуск, да все не выходит: то денег маловато, то семейные дела. На будущий год обязательно поеду, если жив буду.
– Эх ты, молодяк. Если жив буду, – передразнивая Кустова, сказал Александр Николаевич. – Это что же тебе смертельно угрожает? Разве что жирок излишний.
– Так, привычка, – смутился Егор Федорович и вдруг рассердился: – А не пойду я им за водкой. Скажу, нету в магазине. Ишь, молчат, песни на сухую не идут. Ждут. Да хватит им уж. – Пожав осторожно руку старику, он сошел с дороги и пошел тропой между садочков. – Я еще зайду к тебе, – крикнул он.
Выйдя из сада и перейдя овраг по насыпи, Александр Николаевич сделал небольшой крюк и зашел к Вике и Артему. Там он застал свата.
– Сергею Яковлевичу почтение, – бросил Александр Николаевич и, держа обеими руками кепку с вишнями, прошел мимо сидевшего у двери свата. – Угощайтесь, самые первые, – сказал он, поставив кепку на стол.
Артем, сидя боком на кровати, с ожесточением правил одну из подаренных Дмитрием бритв. Вика высунулась в раскрытое окно, как бы выказывая свое безразличие к разговору отца и мужа. Александр Николаевич подсел к сыну.
– …Если такой вопрос поставлен, значит, дело в тупик зашло, – продолжал говорить Сергей Яковлевич. – Это я, сват, насчет постановления о культе личности, – пояснил он Александру Николаевичу. – Ведь какой вопрос! И получил всенародную огласку. А?
«И этот, по такой жаре, лакнуть не позабыл», – Александр Николаевич увидел, что Сергей Яковлевич «под газом», а по его тону, притворно сдержанному, понял, что он пришел покуражиться.
Артем бросил бритву на кровать и, сбычившись, смотрел на тестя; он понимал, что его хотят вывести из себя, наталкивают на скандал, что этот родственный скандал неизбежен, и старался быть собранным.
– Это дело сложное, государственное, и нас в полной мере не касается, – продолжал Сергей Яковлевич. – Мы люди простые. Нам не лезть в такие дела: голова целей будет. – Сергей Яковлевич шумно вздохнул и понизил голос: – Ведь к каким партийным людям было применено беззаконие… Этим самым Берией… До нас этому извергу дела мало было, до простых людей, которые страну на своих плечах держат, хлебом кормят. У нас своя линия: умей во всевозможных обстоятельствах жить и трудиться себе и людям на пользу.
– Уж будто и людям? – насмешливо заметил Артем.
– А как же! Про меня, про мое хозяйство, верней, говорят: «Как кулак живет». А я и сам сыт и людям продать, что бывает…
– И никакие налоги, ограничения вас не пугают. Налог побольше – и молочко на базаре продаете подороже. – Артем встал с кровати и, пружиня ноги, шагнул к столу. Он бросил в рот горстку вишен и прищурился на тестя словно оттого, что вишни показались ему кислыми.
– А что поделаешь? Надо находить, говорю, свою линию во всевозможных обстоятельствах.
Артем выплюнул косточки себе в ладонь и положил их кучкой на стол.
– Что-то не пойму я вас: начали с постановления Цека, а теперь вот хозяйством своим похваляетесь, – сказал он. – Я ведь вижу, неспроста с разговором пришли.
– То есть как неспроста? Именно по-простому с родней поговорить. Тем более, родня партийная.
– Угу. – Артем начал есть вишни по одной. – Ну, и дальше?
– А что же дальше? Неужели не понятно, что ваших семейных дел тоже разговор касается?
Артем быстро взглянул на отца и подмигнул ему, как бы говоря: «Понимаешь, куда гнет?» И Александр Николаевич подумал, что семейный скандал вот-вот разразится. Только бы Артем не взорвался.
– Ничего не понимаю, дорогой… – Артем помялся, словно не зная, как же ему назвать сейчас тестя. – Ничего не понимаю, дорогой тестюшка.
– Так ведь не чужие вы мне. Дочь моя родная за тобой. Артем, замужем. Должен я за нее заступиться? – Сергей Яковлевич искоса и снизу зло посмотрел на Артема и подвигал правым плечом.
– Ах, вот оно что! – притворно удивился Артем. – Ну, а при чем же тут постановление насчет культа личности?
– Может, оно так и есть, что в сельском хозяйстве были допущены ошибки. Я вот сколько ни гляжу на колхозы, все не так… И чего ты жену за собой тянешь?
– Понимаю. Удрали вы, Сергей Яковлевич, из деревни, от колхоза, приготовили дочери городскую жизнь, а она не ценит этого и того гляди опять насовсем в деревню за мужем уедет. – Артем улыбнулся несвойственной ему злобной улыбкой. – Так давайте говорить по-семейному и серьезно. Давайте! Черт возьми, давно пора. Прежде всего один вопрос. – Артем потемнел в лице. – Только отвечайте начистоту. Почему вы, Сергей Яковлевич, вламываетесь в грязных сапогах в нашу семью, в мою и Вики семью? Ломитесь, хотя знаете: нахулиганить вам не удастся.
– Уж и ломлюсь… – Сергей Яковлевич прикрыл зеленые глаза. – Ты, Артем, поуважительней бы. С тестем говоришь.
– Вот именно, что с тестем. Итак, вы не ответили на мой вопрос. Отвечу я сам. Да потому вы ломитесь к нам, что вы не родной, а чужой человек. В душе-то у вас заквасочка и в самом деле кулацкая.
– Это ты, зятек, на мои трудовые руки клевету возводишь. Ишь ты, в кулаки зачислил! Слово-то какое старое на свет вытащил. – Сергей Яковлевич метнул злобный взгляд на Александра Николаевича: «Связал меня черт с вами, с Поройковыми».
Александр Николаевич ответил свату вялой улыбкой и развел руками, что должно было означать: «Навязался на приятный разговор, сватушка, так уж говори». А Артем продолжал свою атаку:
– Слово действительно старое и неприятное, да ни к чему мне с вами деликатничать, когда вы хотите напакостить нам с Викой. Вы говорите, за народ радеете. Не с народом, а за спиной народа живете, и о личной наживе у вас главная забота. Не вы ли требовали от Вики, чтобы я вам фуражику подкинул при случае?
– Дело родственное.
Артем соскочил со стола и прошел взад и вперед по комнате, вся его сильная фигура была напряжена. Он остановился около тестя.
– И не то ли еще свербит у вас на душе, что сыны ваши гоже из повиновения вышли, рвутся из плена вашего хозяйства? Свербит у вас оттого, что сыны невесток-работниц в дом не ведут? Так, что ли? – Артем зло засмеялся. – Рухнет ведь ваше хозяйство.
Матерый и здоровенный мужик лишь подвигал правым плечом и сказал:
– Нет, Артемий Александрович. Дому и хозяйству моему, пока я жив, не рухнуть. И дочери моей в нем всегда место будет. Так пусть сейчас решается. А ты уж сам гляди, как тебе с женой держаться. Может, со старшего брата, Дмитрия, пример возьмешь? – Сергей Яковлевич злорадно сверкнул глазами, победно оглядывая Артема и Александра Николаевича. – Вот в чем смысл разговора моего. О дочери болею. На вас, Поройковых, нет у меня надежды. Верченые.
Артем легонько свистнул и сказал:
– Вот как! Отвечу лишь одно: этот разговор у нас последний. Убедитесь же, наконец, что все ваши усилия тщетны. Мы с Викой будем жить только так, как сами считаем правильным. – То, что Сергей Яковлевич напомнил про семейные дела Дмитрия и тем самым попытался бросить черную тень на Поройковых, не оскорбило Артема. Он смотрел на тестя с презрительной улыбкой. – Неужели не понимаете, что вы как баба-сплетница?
«А ведь верно! От добрых людей упреков не слышали. Демьянчиха только… да вот ты, сват, – подумал Александр Николаевич. – А молодец Артем! Глава семьи настоящий. Муж!»
– Вот и все. – Артем отошел от тестя и спокойно сказал жене: – Закрыла бы ты окно, Вика, мухи налетят же.
– Нет, не все! – рявкнул Сергей Яковлевич. – С тобой все. Пусть мне дочь теперь свое слово скажет. Слышь, Виктория?
Вика не ответила ни отцу, ни мужу, продолжая все так же грудью лежать на подоконнике.
Александр Николаевич приблизился к двери.
– Так я пойду? – сказал он тихо.
Артем утвердительно кивнул ему головой и добро улыбнулся.
– Куда же ты, сват? – остановил Александра Николаевича Сергей Яковлевич. – Уж побудь до конца разговора.
– Да разговор-то неинтересный и никчемный. – Александр Николаевич вышел.
«Эх, кепку-то забыл», – спохватился он уже на улице, но возвращаться было нельзя. Там сейчас начнется разговор отца с дочерью, и пусть уж при нем один Артем присутствует. Александр Николаевич обошел угол дома. Вика все еще не отходила от окна. Лица ее не было видно, она отвернулась от подходившего свекра.
– Чего же ты молчишь, Виктория? – послышался из комнаты громкий, но уже совсем не уверенный голос Сергея Яковлевича.
Вика скрылась в комнате, и, проходя мимо окна, Александр Николаевич услышал, как она сказала:
– Ты будешь бриться, Артем? Ужинать пора. Я есть хочу.








