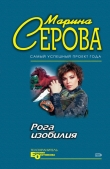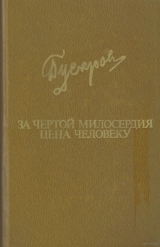
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 46 страниц)
После Сугреева желающих выступить оказалось так много, что пришлось установить регламент – десять минут. Критика, вероятно, подействовала и на Мошникова. Он начал активнее руководить заседанием, слово предоставлял по очереди, не позволял прерывать ораторов вопросами и репликами.
Один за другим поднимались люди, и никто не защищал Орлиева, никто не поддержал его. Даже никогда не выступавшая на собраниях Валя Шумилова попросила слова и, чуть ли не со слезами на глазах, растерянно произнесла всего две фразы:
– Зачем же вы так, Тихон Захарович?! Это ж несправедливо... совсем несправедливо.
Потапов выступать не стал. Лишь в порядке справки, перед выступлением Гурышева, он сообщил, что леспромхозу дано задание поставить до конца года двадцать тысяч кубометров отборного пиловочника для строительства лесозавода в Заселье и что это задание целиком падает на Войттозеро.
– Так что, мне кажется,– он посмотрел на Орлиева,– в Войттозере не зря подумывали о переводе нижней биржи в Заселье.
– Слово имеет товарищ Петр Иванович Гурышев,– наконец объявил Мошников.
С одинаковым нетерпением, но по-разному ожидали Орлиев и Курганов выступления секретаря райкома партии.
Внешне Тихон Захарович был спокоен. Привалившись плечом к шкафу, сидел он, молчащий и неприступный, уже ии словом, ни выражением лица не выдавая своих чувств. Виктор, наоборот, смущенно ерзал и чувствовал себя неловко, словно критиковали и упрекали не Орлиева, а его...
Гурышев начал спокойно, как будто не было до него ни горячих выступлений, ни тяжких взаимных обвинений.
– Признаюсь, товарищи, что я ехал на это заседание с тревожным настроением. Правда, в сравнении с другими месяцами в сентябре вы поработали неплохо. Месячный план перевыполнили, дороги наладили. Но пять тысяч кубометров долгу! Честно скажу, не верилось, что до конца года вы сможете покрыть его! Особенно после доклада Тихона Захаровича... Непосредственно о производственных делах вы сегодня говорили мало. Однако теперь я думаю, что это заседание скажется на делах лесопункта значительно глубже, чем можно было поначалу ожидать. Почему я так считаю? Во-первых, потому что у коммунистов и у всех присутствующих есть единый и правильный взгляд на положение дел на лесопункте. Надо сказать, что в последние годы у нас в лесной промышленности не было недостатка в разного рода начинаниях. Вспомним хотя бы соревнование за сохранность механизмов, увлечение часовым графиком, или почти ежегодные изменения структуры бригад, участков... Лесную промышленность попросту лихорадило от обилия начинаний и инициатив, а положение не выправлялось. Почему? Потому, что не было сделано главного. Не был налажен правильный, наиболее рациональный технологический процесс, с учетом конкретной обстановки. Ведь каждый лесопункт и участок имеют свои особые условия работы. Они зависят не только от погоды, но и от природных условий. Разве можно не учитывать их? Действительно, это походило на прожектерство. Не устранив очевидных нарушений в организации технологического процесса, не сделав самого необходимого, мы хотели выправить дела при помощи массовых движений – соревнования за сохранность механизмов или введения часового графика. На какой-то очень короткий срок это иногда удавалось. Но затем лесопункт или леспромхоз попадал в еще более тяжелое положение. Так действительно было, Тихон Захарович... Правы вы и в том, что центральная наша печать осудила подобное прожектерство. Добавлю, что она обратила внимание на необходимость четкой, технологически обоснованной организации труда. Однако то, на чем настаивает Курганов и что так энергично поддерживают коммунисты лесопункта, не прожектерство. Это даже не какое-то новое начинание, а всего-навсего исправление нарушений в использовании лесосечного фонда, в отношении к дорожному строительству, к механизмам. Хорошо, товарищи, что вы начали это дело и так решительно настаиваете на его завершении. Появляется уверенность, что войттозерцы справятся с выполнением годового плана. И сделают это не при помощи спасительной рубки леса в прибрежных зонах, как еще нередко бывает, а путем умной и правильной организации всего технологического процесса на основных делянках.
Во-вторых, сегодня на партбюро разговор шел о главном. О человеке, о людях, о их взаимоотношениях... Говорилось, в основном, о двоих. Но говорилось так, что во всю остроту встали вопросы о методах руководства, об отношениях руководителя и коллектива... Сейчас я не буду говорить о Курганове. У нас с ним была долгая и, я считаю, полезная беседа. У Курганова есть свои недостатки. При всей его откровенности, он слишком многое переживает в себе, словно боится, что люди не поймут его или поймут неправильно. За свои ошибки в прошлом он заплатил такой дорогой ценой, что меня искренне порадовало доверие и доброе к нему отношение со стороны товарищей. По-моему, такого человека, как Курганов, доверие окрылит еще больше... Скажу о Тихоне Захаровиче Орлиеве. Нелегко говорить такое об одном из старейших коммунистов района, о человеке, которого люди привыкли уважать за его немалые заслуги во время войны и в предвоенные годы. Но коммунисты сегодня поступили правильно. Я полностью поддерживаю их!.. Тихон Захарович! Читаешь ли ты газеты? Слушаешь ли ты радио? Знакомят ли тебя, как члена райкома, с партийными документами последних месяцев?..
– Ты что, экзаменовать меня думаешь? – спросил Орлиев, горько усмехнувшись.
– Экзамен-то был уже! – с сожалением покачал головой Гурышев.– И ты его не выдержал, вот в чем беда... Почему же ты не хочешь понять, чем сейчас живет партия? В последние полгода произошли огромные события, а ты живешь как за глухой стеной. Партия своими решениями еще раз подчеркнула, что забота о человеке, о благе людей – для нее высший закон. А для тебя даже такого понятия, как человек, не существует. Если и существует, то абстрактно... Словно люди, тебя окружающие, не подпадают под это понятие. Ты любишь повторять слово «коммунизм». Разве мы строим коммунизм не ради людей? Разве жить в нем будут не те конкретные люди, которые окружают тебя?
– Коммунизм надо еще сначала построить, а потом думать, кто в нем жить будет,– мрачно перебил Орлиев.
– Вот в этом, пожалуй, твоя коренная ошибка! В твоем представлении коммунизм – как бы огороженный высоким забором пансионат, куда в один прекрасный день будут распахнуты двери – пожалуйста, входите! А ведь не будет такого! Не будет и высокого забора, потому что коммунизм строится не для избранных. Не будет и пансионата, потому что только труд, ставший естественной потребностью для каждого человека, сделает коммунизм возможным. Не будет и конкретного дня, так как коммунизм нельзя объявить. Он будет постепенно складываться из множества каждодневно рождающихся черточек нового не только в экономике, но и в сознании людей. Нельзя сделать человека сознательным при помощи окрика или приказа! Только убеждение, только внимание и забота способны воспитывать людей! Коммунизм – самая человечная и справедливая формация на земле, и строиться она должна самыми человечными методами. Кто не понимает этого, тот не может в настоящее время руководить людьми. Тот попросту отстал от жизни! Как ни больно, но с тобой, Тихон Захарович, произошло именно это! В этом и твоя личная трагедия, и большая вина всех нас... О Мошникове я говорить сейчас не буду. Скоро у вас отчетно-выборное собрание, и, мне кажется, коммунисты скажут свое слово о работе партбюро и его секретаря... Я слышал, отчетный доклад у вас уже два месяца назад готов был? – повернулся Гурышев к Мошникову.
– Готов, готов,– радостно закивал тот, не замечая легкой иронии в тоне секретаря райкома.
– Рановато,– покачал головой Гурышев.– Так поторопились, что теперь новый писать, наверное, надо?
– Он просто цифры свежие подставит, и все! – с насмешкой сказал Сугресв.– У Мошникова третий год подряд одно и то же слушаем!
– Нет! – твердо сказал Гурышев и вдруг как-то сразу помрачнел.– Подстановкой цифр теперь уже нельзя отделаться. Прошли те времена! А в том, что так бывало раньше, есть и ваша вина, товарищ Сугреев! Вы ведь не посторонний человек, а член партбюро! И судить коммунисты будут не только Мошникова, а и вас, всех пятерых... Поэтому предлагаю записать в решении, что проект отчетного доклада партбюро подготовить не одному Мошникову, а совместно с Сугреевым.
– Я не возражаю,– ответил тот.– Только пусть начальство не обижается на критику!
Постановление партбюро приняли единогласно. Его составили из нескольких предложений, выдвинутых тут же. Даже Орлиев голосовал за это постановление, хотя в последнем пункте ему указывалось на недооценку воспитательной работы с подчиненными, произвол и неправильное отношение к критике. Тихон Захарович помедлил, подумал и все-таки вместе с другими членами партбюро поднял руку.
Как только Мошников объявил заседание закрытым, Орлиев поднялся и, ни с кем не попрощавшись, двинулся к выходу. Это было так неожиданно, что люди расступились перед ним, образовав молчаливый коридор. Тихон Захарович шел медленно, ни на кого не глядя.
– Погоди, я провожу тебя! – крикнул ему Гурышев.
Но Орлиев как будто ничего не слышал. Он даже не обернулся и, резко толкнув дверь, скрылся в темном коридоре,
ГЛАВА ШЕСТАЯ 1
Не зажигая света, Тихон Захарович ощупью добрался до кровати и, не раздевшись, тяжело ткнулся головой в прохладную подушку. Бешено колотилось сердце, и с каждым ударом где-то там, в глубине, поднималась ноющая боль, ставшая в последний месяц почти постоянной.
Близилась полночь. Тихон Захарович угадывал ее по тому, как постепенно замирала жизнь в общежитии. По коридору шумно прошли вернувшиеся с тайцев парни. Голоса, хлопанье дверей, позвякиванье чайников... И когда в доме начало стихать, в дальней комнате жалобно взвизгнул Котькин баян. На секунду он замер, словно не решаясь тревожить ночную тишину, потом приглушенно и медленно, как бы пробуя чистоту звучания, потянул грустную знакомую мелодию:
Не пыли, дороженька лесная,
По тебе шагать далеко нам...
Не роняй ты слезы, мать родная,
А победы пожелай своим сынам...
Это повторялось каждый вечер, с того самого дня, как полтора месяца назад Котька впервые услышал полюбившуюся песню. Он довел ее исполнение до такого совершенства, что, казалось, сам баян научился выговаривать слова.
Тихон Захарович знал, что произойдет дальше. Кто-либо обязательно загрохочет кулаком в стену и закричит:
– Дня тебе мало? Не наигрался, что ли?
Сегодня Тихон Захарович с особым нетерпением ждал этого. Песня раздражала, тревожила, усиливала жгучую боль. Она каждым своим звуком проникала в сердце, переполняя его и создавая нестерпимое теснснпе в груди.
«Неужели никого не найдется, кто бы постучал ему? Как будто свет на баяне да на песнях сошелся...» – думал Тихон Захарович, вслушиваясь и досадуя, что сегодня как назло никто не собирается оборвать Котьку.
Наконец кончилась и песня. Глухо рявкнули басы – Котька укладывал баян в футляр,– еще несколько раз хлопнули двери, и весь дом погрузился в тишину.
Ночь, темнота, смутно сереющее окно и черные, расползающиеся в глазах тени...
Только теперь Тихон Захарович отчетливо понял, почему он с такой ненавистью слушал песню. Она сбивала его, мешала думать о случившемся, напоминала слишком многое, чтобы он мог сосредоточиться, холодно и спокойно, как хотелось ему, разобраться во всем.
...Случилось страшное! Нет, дело не в Курганове. Страшно другое. Впервые за тридцать лет пребывания в партии его не поняли. Тридцать лет! Он вступил в партию тогда, когда Курганова еще не было на свете...
...Тишина. Ползут, расплываются неясные тени. Боль вроде успокаивается. Она, конечно, пройдет... Но почему так трудно дышать?
...Да, люди не поняли его! Впервые!.. Это был страшный момент, когда он не мысленно, а наяву ощутил, что если он вскочит и крикнет: «За мной, товарищи!», то не почувствует за спиной горячего дыхания на все готовых людей. А какое это сладостное и волнующее чувство! Он много раз испытывал его и всегда с замиранием сердца думал, что ради одного такого момента стоит всю жизнь
не жалеть себя. Разве он жалел себя? Было ли v него
«/
что-либо, кроме одной-единственной цели – служить людям, тем самым людям, которые так несправедливо отвернулись от него?!
...Надо бы встать, открыть окно. Или дверь. Зря так рано начали топить печи. Осень нынче совсем не холодная.
«Он беспощаден к людям...» «Он не понял, что коммунизм строится для людей...» Какая наивность! Разве великие учителя не предупреждали, что путь к счастью человечества тернист и труден? С нытьем и жалобами его не одолеешь. Если сейчас думать о благах, то не скоро мы построим коммунизм. Пусть кто-нибудь назовет хоть один случай, когда Орлиев был снисходителен к себе! Разве это не дает ему права быть таким же и в отношении других? Разве теперь вопрос не стоит прямо – кто кого? Или мы их, или они нас! Разве враги когда-нибудь были снисходительны к нам, коммунистам? Нет, тысячу раз нет! Он и сейчас отчетливо, как никогда раньше, видит кучку войттозерских комбедчиков, при свете пожара стоящую ноябрьской ночью перед дулами озверевших белобандитов. Разве враги были снисходительны, когда в концлагере Киидасово заморили голодом его жену и десятилетнюю дочь? А миллионы павших?! Почему свой долг мщения за них мы должны растворить теперь в преждевременной снисходительности к себе, к друзьям, а потом, значит, и к врагам?
...Надо бы подняться, найти и принять сердечные капли, которыми запасся он после того, как приступ впервые схватил его при подъеме на Кумчаваару. Они стоят где-то на окне...
...Когда же это было? В тот вечер он узнал о приезде Курганова. Мог ли он думать тогда, что все так обернется! Он ждал верного помощника, послушного начальника штаба. А приехал совсем незнакомый человек... И люди ему верят! Ведь они, по существу, пошли за ним... Даже Гурышев, даже Потапов поддержали Курганова...
...Почему так душно в комнате? Темно и душно. Даже летом в темноте кажется прохладнее. А на дворе не лето. Осень. Настоящая осень. Завтрашний день снова придется начинать с уступок... Трактора и лесозозы вернуть Раптуевой... Панкрашову готовиться к переходу в семьдесят второй квартал. Вяхясало строить дорогу для вывозки к Заселыо. Так решило партбюро. Даже Мош-ников голосовал, хотя, наверное, так ни черта и не разобрался, зачем все это нужно. Ну что ж! Решили – значит, надо делать! Если кто-либо надеется, что Орлиев пойдет против решения собрания, он жестоко ошибается... Чадову этого очень хотелось бы. Он бы снова расписал в газете... Но этого не будет... Орлиев прежде всего коммунист и знает, что такое партийная дисциплина. В конце концов разве в перестройках дело? Разве из-за того разгорелся сыр-бор? Это только частность. А главное совсем в другом...
Надо думать, думать, думать. Как только расслабляешься, начинаешь успокаивать себя, боль сразу усиливается... Удивительно одеревенели ноги. Как будто мешок с песком придавил их. Какая тяжелая тьма!..
Он никогда не думал, что темнота может так давить па тело, подобно опрокинутому на тебя возу черной ваты. Она оседает все плотнее, плотнее, лезет в рот, в нос, в уши... Уже ничего не видно и не слышно, уже задыхаешься, лихорадочно разгребаешь ее руками, сознавая в ужасе, что тебе не успеть выкарабкаться.
В детстве Тихону Захаровичу довелось мыться в печке. Было это зимой, после долгой болезни, когда он еще не совсем поправился и не мог пойти в баню.
Мать начисто вымела печь от сажи и золы, постелила соломы, поставила чугун с водой, шайку:
– Полезай, Тиша! Голову помоешь, распаришься...
Печь находилась рядом с дверью, и мать, чтобы не застудить мальца, затворила ее заслонкой. Тесно, душно, темно. Все шло хорошо, пока Тихон не вздумал выпрямить занемевшие ноги. Он хотел их вытянуть, но ноги уперлись в шершавый горячий кирпич. Он хотел отодвинуться, но и спина сразу же коснулась противоположной стенки печи. Ужас охватил Тихона. Вероятно, сказалась долгая болезнь, но он так ясно представил себя заживо заколоченным в гробу, что страшно закричал, забился в поисках выхода и, опрокидывая чугуны и шайки, почти выбросился на пол вместе с заслонкой.
Давно это было. Очень давно. Он даже и забыл о том. И всс-таки это ощущение, что полная темнота может быть твердой, горячей, вещественной, сохранилась в нем, оказывается, до старости... Вот она вновь подступает, наваливается... Сейчас она не похожа на ту, она мягкая, но она тоже давит, затыкает рот, заполняет уши... Где же выход? Где он? Он должен быть здесь, слева... Надо выбрасываться, пока не поздно... Пора!
В судорожном рывке Тихон Захарович вскакивает. Сапоги грохают об пол, и этот грохот похож на взрыв. Так рвутся гранаты. Оглушающий треск, неуловимая вспышка пламени, обжигающая лицо волна и... полная тишина! Перед глазами плывет, качается снова обволакивающая темнота.
Нет, он не умер! Он еще жив! Он найдет выход!
Нетвердыми шагами он добирается до двери. Привалившись плечом к косяку, что есть силы толкает ее.
Дверь распахивается, гулко ударяясь о степу... Снова взрыв, пламя, оглушающая тишина.
– Люди!!! Сюда, люди! Помогите!!!
Он медленно сползает вниз. Он цепляется пальцами за каждый сантиметр косяка, из последних сил жмется плечом, чтоб не упасть, и все же сползает, клонится все ниже и ниже.
Он слышит испуганные голоса, он понимает, что говорят о нем, он даже видит людей, но ничего не может сказать им... Боль, адская, мучительная боль сковывает даже язык.
Через полчаса прибегает испуганная, едва очнувшаяся от сна фельдшерица. Она делает укол, окладывает ноги больного грелками... Потом приносят кислородную подушку. Когда постепенно дыхание восстанавливается, чужим – тихим и жалобным – голосом Орлиев проси г:
– Позовите Курганова...
– Вам нельзя разговаривать! Лежите спокойно! – просит фельдшерица, щупая слабый мерцающий пульс. Проходит минута-другая, и вновь, отрываясь от кислородной трубки, больной повторяет:
– Позовите Курганова...
У него нет сил повысить голос, по выпученные глаза смотрят так повелительно, что фельдшерица не может отказать.
– Сходите кто-нибудь за Кургановым! – говорит она толпящимся у дверей парням.
Парни – необычно тихие, удивленные. Им, здоровым и сильным, еще трудно понять, что же произошло, и еще непривычнее видеть своего начальника, вчера такого властного и энергичного, теперь бессильно раскинувшимся на койке.
Медленно, слишком медленно тянется время. Вдох-выдох, вдох-выдох, минута за минутой. Кажется, проходит целая вечность, пока возвращается посыльный.
Остановившись у порога, он подзывает фельдшерицу.
– Почему вы шепчетесь? – встревоженно поднимает голову Орлиев.– Что случилось?
Его взгляд такой растерянный и бессильно-требовательный, что фельдшерица в испуге бросается к больному:
– Пожалуйста, не волнуйтесь... Прошу вас...
– Почему не пришел Курганов?– сопротивляясь ее попыткам уложить его голову на подушку, спрашивает Орлиев.– Отвечайте же, черт возьми! – гневно смотрит он на посыльного.
– Курганова пет дома... От него ушла жена... Уехала из поселка.
Орлиев откидывается, задыхаясь, приникает ртом к кислородной трубке. С полминуты в комнате слышатся глубокие медленные вдохи и ровное легкое шипение воздуха.
Остекленевшими глазами Орлиев смотрит в потолок. Потом, после каждого вдоха, он повторяет по одному слову:
– Курганова... Найдите... Курганова... Найдите,
2
Спит поселок. Давно уже выключена линия уличного освещения, и глаз способен различать в темноте лишь неясные очертания самых близких домов. Внизу невидимо плещется озеро. По небу плывут невидимые тучи. В стороне шумит невидимый лес.
Спит поселок. Кажется, совсем и не велик он. Каждый дом знаешь по памяти... А все же больше тысячи сердец бьются в эту минуту под его крышами... Тысяча сердец – тысяча жизней, а значит, и тысяча судеб, которые продолжаются даже ночью. Пусть с тобой ничего в эту ночь не произошло Пусть твое сердце билось мягко и ровно. Но если есть рядом или по соседству неспокойное сердце, если с ним что-то случилось, то и твоя судьба какой-то стороной продолжалась в его радостном или горестном биении... Ведь чужая радость – это и твоя радость. Чужое горе – это и твое горе. Конечно, если твое сердце не одиноко, если оно принадлежит к той тысяче, которые пока быотся спокойно и лишь завтра узнают, что произошло ночыо.
Они сидели на кухне и разговаривали почти шепотом. Но в доме стояла такая тишина, что Славик, если бы он не спал, мог из другой комнаты слышать каждое их слово.
– Ты не прав, Павел! Понимаешь ты это?
– Оля, я все сделаю... Я найду ее хотя бы на краю света. Я поеду сегодня же и разыщу ее. Без нее я не вернусь сюда! Я не буду оправдываться, говорить, что был пьян... Пойми и меня! Тогда мне казалось, что только так я и обязан поступить. Ради тебя, понимаешь? Неужели тебе никогда не хотелось сказать ему правду?
– Конечно, хотелось... Я много раз ловила себя на этом, а вчера даже начала с ним разговор. Начала и вдруг вовремя остановилась. Вдруг поняла одну простую истину. Если хочешь себе счастья, береги счастье других...
– Но нельзя же, черт побери, строить счастье на обмане! Рано или поздно это все равно выяснилось бы!
– Не шуми! Я согласна с тобой... Но здесь нет обмана. Ни он, ни я не обманывали друг друга. Помнишь, как это было?
– Неужели ты думаешь, я могу забыть!
– Какое это было унизительное состояние любить украдкой, любить с сознанием, что ты совершаешь почти преступление... И все это в такое время, когда не знаешь, вернется ли он из разведки, будем ли мы в живых завтра... Если бы не Орлиев, все могло быть по-другому.
– Ты жалеешь об этом?
– Давай никогда не будем задавать друг другу таких вопросов.
– Хорошо, Оля. Прости... Можно мне посмотреть на Славку? Я ведь никогда его не видел...
– Он спит, не разбуди, пожалуйста.
– Хорошо, хорошо, я даже не буду зажигать свет.
– Что же ты увидишь в темноте? Погоди, я включу свет.
– Не надо. Я посвечу спичкой... Ого, какой славный парень!
– Да, Славка вырос. Недавно ему исполнилось девять лет.
– Оля, мне мать говорила, что Славка меня считает своим отцом. Правда?
– Да. Она сама внушила ему.
– Оля! Может, она и не напрасно это сделала, а?
– Не надо сейчас, Павел.
– Я не сейчас... Я потом... Ты только не разубеждай Славика и не говори, что я уже вернулся. Хорошо, хорошо, я не буду об этом. Оля, можно мне еще посидеть у тебя?
– Извини, Павел. Мне в семь часов надо уже вставать.
– Тогда я поброжу во дворе... Как раньше, помнишь? Все равно сегодня мне не спать. А завтра я уеду и привезу ее во что бы то ни стало... Займу денег у твоего отца и поеду.
– Ну, отец не очень-то, пожалуй, расщедрится. Лучше у Анны Никитичны попроси.
– Ничего... я знаю один верный подходец и к дяде Пекке... Только боюсь, ты обидишься.
– Спокойной ночи, Павел.
3
Когда Курганова наконец разыскали и он пришел к Орлиеву, у постели больного рядом с фельдшерицей сидела заплаканная Рябова. Увидев Виктора, она быстро поднялась, неслышными шагами пошла ему навстречу:
– Наконец-то! Он вас очень ждет...
– Что с ним?
– Сердце... Совсем никудышное сердце...
Кажется, ничто не переменилось в этой комнате. Однако тишина, белый халат и сильный приторный запах валерьянки уже сделали ее похожей на больничную палату. Осторожно ступая, Виктор подошел к кровати.
Движением глаз Тихон Захарович дал понять, что заметил Курганова, и даже чуть кивнул ему.
– Только, пожалуйста, недолго,– предупредила фельдшерица.
Виктор сел на ее место.
Орлиев лежал, глядя вверх, с застывшим, неживым выражением на красном, словно укрупнившемся лице. Он медленно и тяжело дышал, огромной волосатой рукой прижимая ко рту кислородную трубку. На лбу поблескивали капельки пота. Наконец Тихон Захарович оторвался от трубки, повернул голову влево.
– Спасибо, что пришел... А я вот, видишь, совсем... расклеился.
– Ничего, все наладится...
Почувствовав пустоту своих слов, Виктор смутился и принялся подтыкать свисавшее с кровати одеяло.
Снова некоторое время Орлиев дышал из кислородной подушки, Виктор смотрел на него, и с каждой секундой что-то ноЕог, совсем незнакомое открывалось ему. Как будто перед ним был уже не Орлиев, а чужой, никому не известный человек, долгое время выдававший себя за Орлиева. Ему даже не нужно было маскироваться– так похожи они внешне. Тот же тяжелый властный подбородок, тот же угловатый умный лоб, те же глубокие, идущие от суровости характера складки на лице, нависшие лохматые седые брови, недоверчивый пучок морщин у глаз, гневные крылатые ноздри с красными прожилками...
Теперь эти знакомые черты, застывшие в неподвижности, воспринимались как-то порознь, и лишь огромным усилием памяти их можно было соединить в одном лице. Ему не хватало главного, что всегда отличало Орлиева: силы, воли, движения.
Виктору вдруг подумалось, что если бы этот неподвижно лежащий человек сейчас решительно поднялся, строго посмотрел на присутствующих, все стало бы на свои места. Каждая черта вновь ожила бы, соединилась с другой. Даже одного короткого движения хватило бы, чтоб Орлиев стал Орлиевым. Но сейчас он не был способен и на это.
– Я слышал... у тебя... ушла жена? Уехала, говорят...
Застигнутый врасплох, Виктор поспешно кивнул. Было тяжело, очень тяжело начинать разговор о Лене, но Орлиев, с усилием повернув голову, смотрел на него неестественно блестевшим, воспросительным взглядом.
– Да,– подтвердил Виктор.– Она уехала... Наверное, в Ленинград. Получилось какое-то...
– Она вернется,– перебил Орлиев, медленно и четко выговаривая каждый звук.– Вернется... Это бывает... Если она жена тебе... а не...
– Тихон Захарович, вам нельзя разговаривать! – вступилась фельдшерица, когда обессилевший Орлиев лихорадочно приник к трубке.
– Да, да... Вам нужен покой. Я пойду,– поднялся Виктор.– Я зайду потом, утром.
– Погоди! – Орлиев дотронулся до Виктора рукой, несколько секунд лежал, собираясь с силами, и вдруг беспокойно зашевелился: – Анна Никитична, где ты?
– Я здесь, Тихон Захарович.
– Открой стол!.. Справа... верхний ящик... Справа* говорю! – повысил он голос, скосив глаза так, что они,

казалось, выкатятся из орбит...– Там лежит папка... Зеленая... со шнурками... Дай ее сюда!
Непослушными пальцами он долго развязывал тесемки, потом, судорожно рванув, вырвал их из обложек папки и достал лежавшую сверху бумагу. Виктор сразу узнал ее – это была рекомендация, которую Орлиев дал ехму несколько недель назад для вступления в кандидаты партии.
– Возьми... Я знаю... Она тебе уже и не нужна... А все же возьми... Захочешь – сам порвешь... Так уж вышло, брат... Так вышло... Эту папку тоже возьми. Будет время, почитаешь. Тут, брат, вся жизнь моя... Только
Чадову не давай!.. Не показывай даже, слышишь! Берегись таких... А теперь иди! Иди, брат!
Холодной и потной рукой он слабо сжал кисть Виктора и откинул голову к стене. Фельдшер поднесла ему кислородную трубку, и он задышал медленно, тяжело и жестко, как будто дышал не человек, а работали громадные кузнечные мехи.
4
– Анна Никитична, можно вас на минутку?
Они вышли в коридор.
– Накиньте пальто. Холодно,– мягко напомнил Виктор.
– Ничего.– Рябова машинально застегнула жакет на верхнюю пуговицу и остановилась у двери, настороженно глядя на Курганова. Даже при тусклом освещении было хорошо видно, как осунулось и постарело ее лицо. Опухшие от слез глаза, воспаленные, набрякшие краснотой веки, бесчисленные морщинки, покрывавшие шею, виски, подбородок:
– Анна Никитична! Я хочу вас спросить...
– Да... Я слушаю...
– Оля... на заседании... сказала правду?
– Вы ведь уже спрашивали у нее?
– Да, спрашивал... Я говорил с ней... Я хочу, чтоб и вы ответили мне.
– Она сказала правду,– размеренно подтвердила Рябова.
– Но скажите же тогда, кто отец Славика? Поймите, я не успокоюсь, пока не буду знать!
Она строго посмотрела на него:
– Я должна предостеречь вас от этого. Все годы Славик считал своим отцом Павла. Ни у кого нет права внушать ему какие-то сомнения. Ни у кого! И особенно у вас!
– Почему же вы так выделяете меня?
– Виктор Алексеевич! Может быть, сейчас и не время говорить об этом, но я не умею и не хочу скрывать. В Войттозере я единственный, наверное, человек, который знает все о ваших прошлых отношениях с Олей...– Она посмотрела ему в глаза, помолчала, потом тихо сказала:– Еще полтора месяца назад я просто ненавидела вас. Да, да, я ненавидела вас.
– Я это чувствовал...
– Да! И я имела на то право. Я хочу, чтоб вы знали. Так будет лучше – и вам, и мне. Нам рядом жить и работать.
– Спасибо, Анна Никитична, за откровенность. Почему вы так смотрите на меня?
– Вы сказали это искренне?
>– Да„, Я не лгу..., Я не умею лгать.
– Что ж, я рада... Я очень рада... Если бы вы знали, как я хочу для них счастья* Имеют же право на счастье люди, которые так много страдали, так много отдали другим!
– Вы как будто упрекаете меня! Вероятно, вы правы... Но поймите...
– Нет, я ни в чем вас не упрекаю. Я вам очень поверила. Особенно вчера.
– Скажите, что я должен делать?
– Что делать? – Она задумалась, чуть улыбнулась,– Как-то однажды Оля сказала: «Если хочешь себе счастья, думай о счастье других». Не знаю, где она выкопала эту мудрость, но теперь часто повторяет ее. Разве я могу вам сказать, что вы должны делать? Вы обязаны решать сами. Чего вам не следует делать – я уже сказала!
– Я люблю Лену... Люблю, понимаете!
– Разве кто-нибудь сомневается в этом? Или кто-нибудь мешает вам? Почему вы здесь? Я верю, что Елена Сергеевна рано или поздно сама вернется. Но на вашем месте я не стала бы ждать.
– Я не могу так. Я должен разобраться.
– В чем?
– Я должен знать правду о Славике.
– Вы знаете ее. Другой правды нет и никогда не будет. Все сложилось так, что для вас, Виктор Алексеевич, мне хочется переиначить Олину поговорку: «Если вы желаете счастья другим, то позаботьтесь о своем счастье». Судьба многих людей будет зависеть от того, как вы наладите свою семейную жизнь. Теперь так много зависит от вас самих! Не забывайте этого. Извините, я должна идти.
– Я все понял, Анна Никитична... Спасибо вам, я никогда этого не забуду.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ х
Гурышев, сидевший рядом с шофером, заметил Лену случайно. Откинувшись вполоборота назад, он разговаривал с Потаповым и сквозь боковое стекло едва успел уловить взглядом мелькнувшую в темноте фигуру.
– Там человек, что ли? – спросил он у шофера.
– Девушка, кажись...– ответил тот.– И куда только их гонит в полночь? Да еще с чемоданом. Тут и дере-вепь-то нет.
– Останови! – Гурышев открыл дверцу, вылез из машины.—Девушка, вам куда? Не в Тихую Губу?