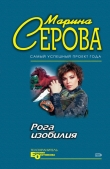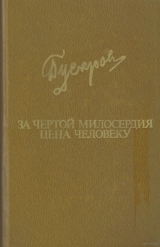
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 46 страниц)
– И вас с приездом... Извините, не знаю имени-отчества.
– Да, Тихон Захарович! – спохватился Виктор.– Познакомьтесь, это моя жена, Лена...
Орлиев ничего не сказал. Он поздоровался за руку с Леной, но Виктор почувствовал, как что-то переменилось. Лицо Орлиева на секунду сделалось сухим, требовательным и жестким, таким, каким оно было в прежние годы.
«Неужели он из-за Оли?» – внутренне холодея, подумал Виктор.
– Ну что ж, пошли! Милости прошу ко мне...– Орлиев обернулся к Лене и сказал: – Только уж извините. Живу я один, и все у меня попросту, по-походному...
– Ну что вы, что вы, пожалуйста!
– Панкратов, бери чемоданы...
Мужчины забрали вещи, и все четверо направились вдоль главной улицы поселка: впереди – Панкратов и Орлиев, за ними – Виктор и Лена.
Орлиев шагал широко. Его размеренная покачивающаяся походка напомнила Виктору военные годы, вновь вызвала полузабытое, приятное чувство юношеского восхищения и зависти к своему командиру. Даже штатский костюм, показавшийся в первую минуту таким нелепым на могучих плечах Орлиева, теперь уже не вызывал протеста. Портили впечатление лишь ботинки и брюки навыпуск. Не было в них той внушительности, которую придают человеку болотные сапоги и галифе.
– Витя, а он хороший! – шепотом сказала Лена, показывая глазами на Орлиева.– Он, наверное, очень-очень строгий и правильный, да?
Виктор в ответ лишь согласно улыбнулся. Они свернули к приземистому бараку, вошли в узкий длинный коридор с множеством дверей в обе стороны, и у первой направо Орлиев остановился.
– Сбегай к Вяхясало,– приказал он Панкратову.– Пусть зайдет.
В коридоре было тихо и прохладно. Из дальних дверей слышались грустные звуки баяна, и хотя баянист играл современную песню из какого-то кинофильма, Виктора вдруг охватило чувство, как будто он вернулся в прошлое – нелегкое, даже печальное, но знакомое и потому приятное прошлое. Как будто позади – поход, необычный, мучительный, полный таких душевных волнений, когда забываются физические тяготы и хочется только одного – обрести наконец уверенность и спокойствие. И вот оно – спокойствие, тишина, прохлада, переборы баяна... А завтра – новая жизнь, может быть, опять поход, но он уже будет новым и потому иным...
– Тут я и живу, располагайтесь! – откуда-то издалека донесся голос Орлиева.
– Хорошо играют,– сказал Виктор и вошел в комнату.
– Это Котька, из второй бригады... День и ночь готов пилить. Соседи даже жалуются.– Орлиев снял пиджак и повесил на гвоздь.
Виктор тоже снял пропыленный пиджак, огляделся. Комната была прибрана к приходу гостей: пол тщательно вымыт, на окнах свежие, со складками от утюга, за-дергушки, стулья аккуратно расставлены вокруг стола, две кровати одинаково застелены по-гостиничному, «конвертом». Накрытый белой скатертью стол уставлен тарелками с закуской – колбаса, винегрет, холодные котлеты, жареная рыба. Тусклым зеленоватым светом поблескивали две бутылки водки.
– А вторая кровать чья? – спросила Лена.
– Так... На всякий случай...– неохотно ответил Ор-лиев.
Вернулся Панкратов и сообщил, что Вяхясало еще на покосе, жена обещала передать ему приглашение.
Сели за стол. Панкратов, стараясь сделать это незаметно, вынул из кармана галифе бутылку красного вина.
– Молодец, Костя! – похвалил его Орлиев и, задетый собственной непредусмотрительностью, добавил не без ехидства: – Если б ты и на делянке так разворачивался, а?
– А как же, Тихон Захарович,– смущенно сказал Панкратов. Его смущение было отработанным, много раз проверенным.– Женщинам должен быть почет и уважение. Про них особая статья даже в конституции записана.
– Ну, ну. Все ясно. Бери-ка бразды правления да командуй. Это по твоей части.
Панкратов ловко, одним привычным движением открыл бутылку и быстро разлил водку по стаканам. Потом аккуратно откупорил вино, не торопясь протер горлышко бутылки полотенцем и налил Лене. Он делал это настолько подчеркнуто, что Виктор подумал: «Кто он – дурак или комедиант?»
– Ну, дорогие товарищи. Предлагаю поднять тост за...– Панкратов обвел всех радостным умиленным взглядом,– ...за встречу старых партизанских друзей. Честное слово, для меня это большой праздник. Я, конечно, не партизан. Я воевал на Южном фронте. Но, честное слово, мне очень хотелось бы быть на вашем месте, встретить сейчас кого-либо из своих бывших подчиненных или посидеть за столом со своим любимым командиром танкового полка майором Лес-ничуковым...
– Короче,– перебил его Орлиев.
Панкратов смутился, сел на место, но, увидев, что никто не пьет, добавил:
– С приездом вас, Виктор Алексеевич и Елена...
– Сергеевна,– подсказал Виктор, после реплики Орлиева почувствовавший себя как бы виноватым перед Панкратовым.
– И вас, Елена Сергеевна.– Панкратов первым чокнулся с Леной, потом с мужчинами и в три глотка осушил стакан.
Некоторое время за столом длилось молчание, но спиртное начало делать свое дело, и постепенно языки развязались. Выпили по второй. Теперь уже Панкратов наливал в стаканы меньше половины.
– Витя, ты ешь, а то опьянеешь...– сказала Лена, ласково дотрагиваясь до руки мужа.
– Ничего, Леночка, ничего, дорогая. В партизанские годы было и не такое.– Виктор почувствовал, как добрая и приятная теплота расходится по всему телу, полуобнял жену за плечи и вдруг громко спросил: – Тихон Захарович, можно я буду звать вас на «ты», а?
– А как же еще,– поднял на Виктора тяжелый взгляд Орлиев.
– Так вот, дорогой Тихон Захарович,– по-пьяному четко отделяя слова, сказал Виктор.– Ты знаешь, какая у меня жена? Нет, ты не знаешь... Это золотой человек. Бесценный, понятно?! И ты, Костя, не знаешь...
– Витя, друг! Дай лапу! Вот так! – Панкратов пожал Виктору руку и полез целоваться.– Знаю, я все знаю... и верю, честное слово, верю!
– Ну и что? – на Курганова из-под нахмуренных бровей требовательно глядели застывшие глаза Орлиева.
– А то, что вы не знаете, вот что...
– Виктор, зачем ты? – встревожилась Лена.
Тихон Захарович несколько секунд упорно смотрел в
глаза Виктору, потом повернулся к Лене.
– Ты вот спрашивала, для кого здесь я поставил вторую койку... А ведь для него,– не глядя, ткнул он пальцем в сторону Виктора и задумался.– Начальник штаба... Вместе... вдвоем... А ведь все не так... Время идет...
– Мой папа тоже был партизаном,– сказала Лена, желая доставить Орлиеву приятное.
– Партизаном... Пар-ти-за-ном...– медленно, как бы вдумываясь в смысл каждого звука, повторил Орлиев,– И где он сейчас?
– Погиб, в сорок третьем, под Лугой.
– Погиб... Многие погибли...
– «Немногие вернулись с поля, богатыри – не мы»...– подхватил Панкратов, и это прозвучало так не к месту, что лицо Орлиева стало вдруг сердитым и жестким.
– «Богатыри», «богатыри»... Много ты знаешь! Тебе, видать, и невдомек, что богатырями не рождаются, а делаются... Знаешь ты, что вот он сделал? – Орлиев снова ткнул пальцем в грудь Курганова.– Отряд спас. А ведь он тогда кто был? Мальчишка, безусый мальчишка.
– Да я ведь так просто, Тихон Захарович,– взмолился Панкратов, вытирая платком лоб.– Я к слову.
– Так просто ничего не бывает,– веско сказал Орлиев.
Разговор затих. Виктор, поглядывая на склонившегося к столу командира, нехотя ковырял вилкой жареную рыбу. Два года жили они бок о бок, ходили в одной цепочке в походы, ночевали у соседних костров, но никогда Виктор не имел случая видеть командира так близко, как сейчас.
«Неужели этот поникший над столом человек и есть мой бывший командир?» – подумал Виктор и, вспомнив, с каким восторгом он ловил девять лет назад этот, теперь слегка усталый, но все еще очень твердый и даже тяжелый взгляд, радостно ответил себе: «Да, да, это он.., И теперь мы будем вместе работать – он и я».
– Что заскучали? – поднял голову Тихон Захарович.– Костя, сходи, приведи Котьку.
– Может, и водочки еще, а то мало осталось? – нерешительно спросил Панкратов, но Орлиев отрицательно качнул головой.
Через несколько минут почти насильно в комнату был доставлен смущенный баянист.
– Иди сюда! – позвал его Орлиев и, налив в стакан водки, приказал: – Пей!
Котька – двадцатилетний, рослый парень с курчавыми светлыми волосами и с миловидным, по-детски чистым лицом – некоторое время в нерешительности постоял у порога, потом встряхнул головой, громко поздоровался и подошел к столу.
– Пей! – подвинул ему стакан Орлиев.
– Не-е,– отстранил Котька.– Вот красного... у меня танцы сегодня, от водки развезет в жару.
– Ну, пей красного! – Подождав, пока Котька выпьет, Тихон Захарович спросил: – Партизанскую знаешь?
– Какую, эту? – Котька с готовностью вскинул за плечо ремень баяна, нащупал аккорд, помедлил и запел:
...Нас было только семеро,
И больше ни души.
Мы пробирались плавнями,
Шумели камыши...
Партизаны, не забудем никогда...
Пел Котька вполголоса, склонившись ухом к баяну и как бы выслушивая там нужные звуки. Лена и Виктор любили эту грустную раздумчивую песню и обрадованно посмотрели друг на друга, уже готовясь подхватить ее:
...Своих детей оставили —*
Когда увидим их?
Руками неумелыми Баюкаем чужих...
Вдруг Орлиев стукнул кулаком по столу:
– Стой! Не эту! Мы тогда пели другие...
Наступила тишина. В выкрике Орлиева было столько
тоски, что все испуганно посмотрели на него.
– Не эту! – тише повторил Тихон Захарович.– Это теперь так про нас чирикают, а мы другие пели... Помнишь, Курганов?
В отряде пели много песен, и Виктор не понял, какую из них имеет в виду Тихон Захарович. В сознании Виктора каждая песня была прочно связана не только с определенным периодом войны, но и с конкретным походом, во время которого ее особенно часто певали партизаны.
Даже сейчас, полупьяным сознанием Виктор отчетливо видел и слышал, как, бывало, разрастался в партизанской землянке никем не созываемый хор, когда он брал в руки баян.
Он вдруг подумал, что никогда не видел среди поющих своего командира. Раньше он не думал об этом, но теперь, лихорадочно перебирая в памяти все два года партизанской жизни, он очень хотел вспомнить хотя бы один случай, когда Тихон Захарович сам запел песню или присоединился к поющим.
– Котька,– приказал Орлиев,– дай-ка баян Курганову. Бери, бери, Курганов... Сыграй нашу, партизанскую,
Тихон Захарович неестественно оживился, стал суетливым. Даже не дождавшись, когда Виктор подберет нужную тональность, он во весь голос затянул:
Шумят леса, карельские леса,
Партизаны проходят лесами!
Виктор давно уже не держал в руках баяна и не смог сразу освоиться с чужим инструментом. Он сбивался, кое-где фальшивил, переживал это, слыша, как вслед за ним фальшивит голос Орлиева. Панкрашов с восторгом смотрел то на Виктора, то на Тихона Захаровича. Коть-ка довольно и чуть снисходительно улыбался, Лена молча страдала от каждого неверного звука.
К концу песня наладилась настолько, что начали подпевать все, и последний припев закончили дружно:
...И творят чудеса,
Мы верим в чудеса,
Которые делаем сами.
– Вот какие песни пели мы! – тяжело дыша, проговорил Орлиев, обращаясь к Котьке.– А все остальные это так, выдумка...
Желая доставить командиру приятное, Виктор заиграл одну из самых любимых партизанских песен «Не пыли, дороженька степная...». Он с наслаждением медленно перебирал клавиши, ожидая, что вот-вот вновь вступит глухой и сильный голос Орлиева. Но командир молчал, опять склонившись над столом и глядя на гостей из-под низко нависших бровей.
«Неужели он не знает эту песню? Он должен знать, ведь в отряде так любили ее»,– думал Виктор.
Они с Леной в два голоса пропели эту песню до конца. Панкрашов шумно зааплодировал, а Котька прошептал на ухо:
– Слова дадите списать?
Виктор передал баян его хозяину. Стало вдруг тягостно. Как будто не получилась не только песня, а что-то более значительное. Орлиев мог и не знать слов этой песни, хотя ее очень часто пели в отряде. Но почему он так равнодушно сидел, ни одним движением не отозвавшись на дорогие партизанской душе звуки?
«Я, конечно, пьян... Может, потому мне это так и кажется. Но ведь и он тоже захмелел... Он выпил столько же. Неужели ему не хочется плакать? Ведь это такая песня, такая песня...» – обиженно размышлял Виктор,
– Витя, мы обязательно купим баян! – дрожащим от волнения голосом сказала Лена.
– Хорошо, Леночка.
Все притихли, Котька еле слышно, одной правой рукой наигрывал на баяне мелодию «Дороженьки», Панкратов хмельно и влюбленно улыбался прямо в лицо Виктору.
– Что ж, Вяхясало, видать, не придет,– посмотрев в окно, сказал Тихон Захарович.– Панкратов, наливай остатки!
Без желания выпили по последней, закусили, но веселья не наступило. Панкратов тихо запел какую-то протяжную украинскую песню, Котька несмело ему подыгрывал.
– Я Чадова встретил,– сказал вдруг Виктор, глядя в глаза Орлиеву.
– Ну и что? – сузившиеся зрачки Тихона Захаровича дрожали от напряжения.
– Ничего... Встретились, поговорили..*
– Пустой человек...
В другое время Виктор, возможно, и не стал бы спорить с Орлиевым, по крайней мере расспросил бы, почему он так думает о Чадове, но сейчас такой короткий и категоричный ответ не понравился ему:
– Чадов не глупый парень,– возразил он.
– Это чем же он тебе так пришелся? Вроде в отряде не примечал я, чтобы ты с Чадовым дружил?
– Чем? – переспросил Виктор и на секунду растерялся.– Журналист хороший, много пишет... По-моему, он серьезный, думающий человек.
– А ты читал его статьи?
– Читал.
– Когда же ты успел?
– А вчера. Пошел в библиотеку при гостинице, взял подшивку и прочитал.
– Ты по библиотекам да по подшивкам его статьи знаешь,– возвысил голос Орлиев,– а я здесь, на делянках их читывал. И скажу, что его статьи никакой пользы нашему брату не дают... Не понимает он нашей жизни, да и понять не хочет... Об этом ты подумал?
– Этого я не знаю, но все его статьи написаны ярко, интересно и доказательно.
Орлиев внимательно посмотрел на него и, отодвинув широким жестом посуду на столе, вдруг поднялся.
– Пойдем-ка, проветримся на свежем воздухе,– взял он за плечо Виктора.– А вы,– он строго посмотрел на Панкратова и на Котьку,– занимайте хозяйку, смотрите, чтоб не скучала.
– Можно и я с вами? – спросила Лена.
Орлиев, как бы не слыша, направился к двери.
– Леночка, мы скоро вернемся.– Виктор понял, что Тихону Захаровичу хочется поговорить с глазу на глаз.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ 1
Они пересекли шоссе и по узенькой тропе-межнице спустились к озеру. Орлиев подошел к самой воде и молча сел на большой плоский камень. Виктор опустился рядом. Был тот безветренный и прохладный час августовских закатов в Карелии, когда огромное, как бы разбухшее за день солнце уже коснулось вершин дальнего леса и багрово-красная полоса лежала на всей глади озера – от берега до берега. Лишь изредка кое-где всплеснет верховодка. Ровные расходящиеся круги подолгу держатся на зыбкой воде и медленно, незаметно для глаза, гаснут, чтобы возникнуть снова, в другом месте, всколыхнуть красную солнечную дорожку и снова раствориться в озерном покое.
Гремела музыка. Звуки отражались от воды, скрадывалось расстояние, и казалось, песню о лихом шофере и тяжкой фронтовой дороге поет не динамик у поселкового клуба, а все вокруг – озеро, небо, берег.
– Куришь?
– Курю.
– Угощайся.– Тихон Захарович протянул пачку «Беломора» и, помолчав, потребовал: – Ну, рассказывай!
– Что рассказывать,– быстро отозвался Виктор, подумав: «Неужели он знает? Неужели сейчас?.. Нет, нет, только не сейчас, потом, когда-нибудь – потом».
– О себе. Девять лет не виделись. Как жил-то после госпиталя?
...Что ж, после госпиталя Виктор жил неплохо. Три года работал на заводе, учился, окончил вечернюю школу рабочей молодежи, поступил в лесотехническую академию...
– Почему в лесотехническую? – остановил его Ор-лиев.
– Как почему? – не понял Виктор.
– Почему не в артисты пошел или там журналистом не заделался? Парень ты умный, лицом ничего, за словом в карман не лезешь, жил бы себе припеваючи.
– Шутите бы,– смутился Виктор, не зная, в шутку или всерьез принимать слова Орлиева.
– Какие тут шутки! Некоторые вон в дипломатическую школу пытались, и туда, и сюда тыркались... А теперь других через газету учат. А ты почему в лесотехническую?
Виктор понял, на кого намекает Орлиев. Но странное дело, теперь слова командира не вызывали в нем прежнего протеста. Он промолчал. Орлиев отвернулся, задумался.
– А знаете, Тихон Захарович, я и сам много думал – почему? Я не выбирал. И не потому, что в другие институты меня не приняли бы: школу я с медалью закончил. Но еще после госпиталя решил – пойду в лесотехническую.
Орлиев требовательно посмотрел на Виктора. И тот стал продолжать.
– Вышел я из госпиталя, дали мне увольнение по чистой, инвалидность на полгода, езжай, куда хочешь. А куда мне ехать? Родных никого. Из детдома я. Была на Смоленщине бабушка, да и та перед войной умерла»
– Ну и дальше?
– Так вот, вышел я из госпиталя,– словно обрадовавшись, заговорил Виктор.– Один. Никого, ничего... Ни родных мест, ни родственников... Заказал себе литер почему-то до Свердловска, хотя там никогда не был. Еду в вагоне. Другие, списанные по чистой, едут домой, радуются, а я сижу у окна и думаю – где ж моя родина? Куда я еду? И чем дальше, тем сильней чувство, что от родных мест уезжаю. В общем, понял тогда, что самое мое родное место на земле – Карелия! И сразу легче стало... Есть и у меня оно, родное место... Ну, а дальше я рассуждал просто. Что для Карелии главное? Лес. Так вот и убедил себя, что мое призвание быть инженером.
Виктор с радостью заметил, что его рассказ пришелся по душе Орлиеву*
– Складно у тебя вышло!.. Чего ж ты иам-то никому не написал... Нелегко было учиться на стипендию, помогли бы!
– Весной, пока я в госпитале был, перевели отряд в другое место. Так и потерял я всех... Я писал... Много раз писал. И в отряд, и в штаб партизанского движения...
– Да, как раз в марте нас в Заполярье перебросили... А в октябре в Петрозаводске партизанский парад был. Знай я твой адрес, обязательно вызвал бы...
Виктор подумал, что, не случись этой переброски отряда, вся его жизнь наверняка сложилась бы по-другому. Лучше или хуже – кто знает, но обязательно по-другому. Все могло выйти проще. Как у других. Сразу направили бы на работу, устроился бы и жил, как живут многие товарищи по отряду. Не было бы этих долгих девяти лет переживаний из-за той мартовской ночи! Если бы он знал тогда, что Тихон Захарович так хорошо относится к нему!
– Ты, Курганов, молодец! Ты идешь по жизни правильной прямой дорогой... Не то, что некоторые... В партию вступил?
– Нет...
– Почему?
– Да так как-то,– замялся Виктор.
– Зря,– отрубил Орлиев.
«Нет, сейчас я ничего не скажу,– решил Виктор.– Поработаю, сживемся поближе, и потом пусть судит...»
– В партию тебе обязательно надо вступить. Пора уже... Ты теперь людьми руководить должен. Рекомендация нужна – я всегда готов.
– Спасибо, Тихон Захарович.– Виктор, почувствовав, что его лоб покрывается испариной, отвернулся в сторону, незаметно вытер его платком.
– Ты вот о Чадове заговорил,– продолжал Орлиев.– Я так скажу – таких людей я не люблю... А не люблю потому, что не верю таким. Конечно, он умный, кто спорит... Но нет у него святого трепета перед великой целью, во имя которой мы живем... Случись беда – из таких предатели выходят.
– Но ведь воевал он неплохо,– напомнил Виктор.
– Ну и что ж... Против фашизма и бывшие преступники сражались. Фашизм – это явный враг... Против него сражались даже наши нынешние враги... Вот так! Чадов после войны хотел попасть в дипломатическую школу. Он ведь умный, хитрый, языки знает – специально изучал... Попросили у меня характеристику. Ну, я написал все, что думаю... С тех пор получил за эти восемь лет пять разносных статей в газете, и в общем, может быть, и правильно, но жалко, что пишут их такие люди, как Чадов.
«Вот откуда у вас такая крепкая «любовь»,– про себя усмехнулся Виктор, подумав, что Чадов и сейчас дипломат хоть куда, а вот как газетчик – он ему не понравился. Ну, зачем он на целые два столбца расписал приезд Виктора, да еще в таких пышных фразах...
Орлиев начал рассказывать о делах. Лесопункт полностью механизирован... Два десятка тракторов КТ-12, пять передвижных электростанций, четырнадцать лесовозов... Но план спущен с предельной нагрузкой на каждый механизм... Подводят трелевка и вывозка... Вывозить приходится за двадцать километров – нижняя биржа на берегу реки Войттозерки... Дороги плохие, машины то и дело выходят из строя.
Хотя за каждым словом Орлиева стояла привычная командирская непререкаемость, Виктор почувствовал, что Тихон Захарович пытается этим прикрыть свою растерянность.
«Пытается и не может... Все хорошо и все плохо,– подумал он, когда Орлиев замолчал.– Он ждет от меня чего-то... А что я могу? Я буду стараться... Я буду очень стараться...»
– Это не тот остров? Помните, в марте сорок четвертого? – спросил Виктор, указывая на еле проступавший сквозь вечернюю синеву маленький густо заросший островок.
– Который? Да, тот самый... Там и сейчас сохранились дзоты...
– Скажите... У Павла Кочетыгова в деревне оставалась мать... Она жива еще?
– Тетя Фрося? А как же... Шустрая еще старушка... Работает уборщицей в общежитии.
«Позавчера вот так же вдвоем мы сидели с Чадо-вым...– подумалось Виктору.– И вода, и даль, и остров... А ведь все куда проще, чем кажется, чем думает Чадов. Может, и я зря усложняю все?.. Надо быть самим собой и работать, работать... Все станет на свои места».
Они вернулись в комнату Орлиева, когда уже смеркалось и под потолком, мигая, горела лампочка. Лена, неизвестно откуда добывшая таз и горячую воду, заканчивала мытье посуды. Ей скорее мешал, чем помогал, Панкрашов. Котька давно уже ушел вместе с товарищами в клуб на танцы.
Орлиев вернулся довольный, веселый. Виктор, наоборот, тихий, задумчивый.
– Зачем вы? – принялся укорять Лену Тихон Захарович.– Все равно посуда из столовой, там и вымоют...
– Я просто доказала Константину Андреевичу, что и в общежитии можно держать посуду чистой,– улыбнулась Лена и спросила Панкратова: – Ну, как, теперь верите?
Тот развел руками.
– Елена Сергеевна! Вы настоящая домохозяйка!.
– Я не домохозяйка, а учительница.
– Извиняюсь, я хотел сказать другое...
– Хватит,– перебил его Орлиев.– Давайте решим, как вас лучше устроить. Квартиры сейчас свободной нет. Через пару месяцев сдаем два новых дома, там выделим для вас квартиру... Решение такое! Оставайтесь у меня, а я поживу у Панкратова.
– Это неудобно, зачем же,– запротестовала Лена и разочарованно спросила: – Неужели нельзя снять комнату частным порядком?.. Только чтоб отдельную...
Орлиев улыбнулся, подумал и обрадованно повернулся к Панкратову:
– Есть выход! У тети Фроси никто сейчас не живет?
– Кажется, нет.
– Ну вот, можно к ней. Это в деревне, недалеко. Тетя Фрося и по хозяйству поможет, и обед сготовит... Хотите?
– Хотим,– ответила Лена, посмотрев на Виктора.
– Тогда собирайтесь... Панкрашов, бери чемоданы...
И вот снова вчетвером они шагают по главной улице поселка. Редкие фонари бросают на гравийную, истертую колесами и мягкую, как пух, дорогу слабый мерцающий свет. По сторонам цепочка уходящих вдаль освещенных окон, из которых громче, чем днем, слышатся голоса,
песни, шумные разговоры. То и дело попадаются навстречу подвыпившие компании.
Обнявшись по двое, по трое, мужчины бредут по середине улицы, тянут нестройными голосами песню, при встречах обнимаются, спорят, шумят. Завидев начальника с гостями, ненадолго притихают и провожают молчаливыми взглядами.
Орлиеву все это не нравится. Он хмурится, не отвечает на приветствия, делая вид, что не замечает их, и шагает все быстрее и быстрее. Панкрашов, наоборот, сам окликает гуляющих, иногда даже останавливается с ними и потом, с тяжелыми чемоданами в руках, рысью догоняет товарищей.
– Гуляют мужики! – как бы извиняясь, тихо поясняет он Лене. В его голосе – и снисходительное осуждение и зависть.
– А что, у вас праздник какой? – спрашивает Лена.
– У нас каждый месяц праздник. Даже два. Как получка – так и гуляют.
Слышавший этот разговор Орлиев бросает на Панкратова сердитый взгляд, и тот притихает.
В конце поселка, где от шоссе уходит широкая тропа к деревне, виднеющейся несколькими слабо освещенными окнами, из низенького домика тягучий и сладкий, как патока, женский голос вдруг позвал:
– Кинстянтин. Можно тя на минуткю?
Лена даже и не догадалась, что этот голос обращается к кому-то из них четверых, но Панкрашов опустил на землю чемоданы и, помедлив, отозвался;
– Чего тебе?
– Седня придешь? .
– А ну тебя! – Он махнул рукой и наклонился к чемодану.
– Придешь, спрашиваю? – возвысила голос женщина.
Панкрашов неожиданно метнулся к домику, привычно распахнул калитку и, приблизившись к окошку, недовольно забубнил:
– Чего пристаешь? Не видишь – занят?.,
– Седни такого крепача сообразила – быка свалит. А чистый – прямо слеза божья,– торопливо зашептала женщина.– Искала-искала тя„, У начальника, грят, в гостях..,
– Некогда мне,
– А то приходи, не закаешьси... Что это за дамочка с тобой? Вроде не поселковая. Смотри, Кинстянтин, не руши стару дружбу... Придешь седня?
– Говорю, некогда... Чего зря шумишь?
Панкрашов уже вышел на дорогу и стал догонять
свернувших к озеру спутников, когда в темноте снова раздался беззастенчиво заманивающий голос:
– А то приходи, не закаешьси...
Орлиев, сделав вид, что поправляет ручку у чемодана, пропустил вперед Виктора и Лену, дождался Панкратова.
– Ты что, опять путаешься?
– Что вы, Тихон Захарович? Вот честное слово...
– Тебе выговора мало? да? Достукаешься – из партии выгоним... Нашел с кем дружбу заводить – с самогонщицей.
– Да я ничего, ей-богу... Сама пристает. Даже стыдно.
– Завтра же из поселка выгоню. Не посмотрю, что работница хорошая... И с тобой то же будет. Герой нашелся. По нему стоющие бабы с ума сходят... Почему не женишься на Рябовой? Чем она тебе не пара?
– Да что вы, Тихон Захарович! Разве она пойдет за меня.
– Ну, вот что! Ты мне мозги не темни! Я все вижу. Одно учти – колобродить в поселке я тебе не разрешу... И Рябову нечего изводить. На эту тему я говорю с тобой первый и последний раз, ясно?
– Ясно, Тихон Захарович,– смиренно ответил Панкрашов, хотя и ясности никакой у него не было, и разговор этот был у них не первый.
Тетя Фрося уже спала, когда Орлиев поднялся на высокое крыльцо и энергично постучал. Лена с надеждой смотрела на высокие, словно игрушечные, окошки огромного, как крепость, дома. Больше всего она опасалась, что в доме никого не окажется и им вновь придется тащиться куда-то в поисках ночлега. Она уже начала жалеть, что не согласилась остаться в комнате Орлиева, когда за дверью послышался голос:
– Кто там? Не заперто! Сейчас свет зажгу!
– Это я, Орлиев.
– Тихон Захарович! – с каким-то непонятным испугом воскликнула старушка.– Сейчас, сейчас...
– Гостей к тебе привел. Это наш новый технорук. Бывший партизан. Друг твоего Павла. Это его жена. Пусть у тебя поживут! Месяца два. Люди они молодые, присмотреть за ними надо, обиходить в чем. Ну как, нет возражений?
– Ради бога! – обрадованно засуетилась хозяйка, вводя гостей в дом и зажигая лампу.– Пусть хоть сколько. Дом большой, места хватит. Проходите, я сейчас самоварчик подогрею. Вот уж не знаю, чем и угостить... Может, молочка хотите?
– Нет, нет. Ничего, пожалуйста, не надо! – остановила ее Лена.– Мы уже поужинали. Нам бы отдохнуть поскорей, если можно, а то, знаете, целый день в дороге...
– Ради бога! Вон кровать, устраивайтесь, не стесняйтесь. А завтра я вам отдельную комнату приготовлю, уберу ее честь по чести...
Орлиев и Панкрашов попрощались и ушли. Виктор вдруг спросил:
– Скажите, у вас есть сеновал?
– Сеновал? – переспросила тетя Фрося – Сарай-то? Есть. А как же без сарая?
– Можно, мы там переночуем? Я давно мечтаю поспать на сеновале. Сено сейчас свежее, пахучее, и спишь, как без памяти!
– Отчего ж нельзя? Можно. Только сена-то у меня маловато. А так – ради бога, спите себе на сеновале. Возьмите вот одеяло ватное, чтоб не замерзнуть. Пойдемте, я вас провожу. Стало быть, вы Павлушку моего знавали, воевали вместе?
– Да, знал... Он был моим командиром отделения.
– Радость-то какая мне! А я уж думала, никто его и не помнит... Ну-ну, не буду надоедать. Отдыхайте, потом поговорим.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ 1
Самые старые дома в деревне Войттозеро стоят на берегу и опечаленно смотрят маленькими, похожими на бойницы, окошками в озерную даль. Они, вероятно, выросли в те времена, когда не было здесь никаких дорог, когда густые леса подступали к самой воде и каждый клочок пригодной для застройки земли приходилось отвоевывать с немалыми усилиями. Возможно, потому эти дома – с хлевом под одной крышей, с полуразваливши-мися баньками у самой воды, с причалами для лодок – жмутся друг к другу так тесно, что между ними нет места для огородов.
Дом Кочетыговых тоже расположен в этом ряду, но стоит он в отличку от своих ровесников. Все постройки глядят жилой половиной на озеро, а кочстыговская, как бы назло всем, повернулась туда слепым бревенчатым торцом большого и длинного хлева. Если б не печная труба да не высокое крыльцо, то с озера и не понять было бы – дом ли стоит или огромная ригача затесалась посреди жилья. Зато со стороны леса вся старая часть деревни оживлялась маленькими и частыми окошками ко-четыгозского дома. Особенно вечерами, когда лишь в его окнах вспыхивали и подолгу не угасали огненно-багровые отсветы поздних северных закатов. Окна других домов никогда не знали такой красоты.
Но, конечно, не ради красоты закатов кочетыговский дом был выстроен не так, как другие. Его хозяин, наверное, догадывался, что рано или поздно придет в Войт-тозеро дорога. Она протянется дальше, за каменистую сельгу, и не будет ей другого места, как обогнуть деревню с внешней стороны. А раз будет дорога, обязательно появятся и новые люди, которые захотят построиться вдоль нее.
Так оно и получилось. Дорога в Войттозеро пришла. По другую ее сторону вырос второй ряд построек, центр деревни переместился выше от озера, и уже теперь старые дома выглядели угрюмо отвернувшимися от своих односельчан. Из них лишь дом Кочетыговых оказался стоящим по всем правилам немудрой деревенской планировки – он глядел окнами туда же, куда и должен глядеть дом у хорошего хозяина – к дороге, связывающей деревню со всем миром.
Это было давно, очень давно. Никто в Войттозере и не помнит тех времен. И даже, может быть, по какой-либо иной причине кочетыговский дом первым выбился из угрюмого ряда своих ровеснигсов, сонно уставившихся в озерную даль...
Но когда смотришь на старую деревню со стороны дороги, то прежде всего бросаются в глаза частые, весело поблескивающие кочетыговские окошки. И невольно задумываешься, почему этот дом, внешне так похожий на своих соседей, строившийся в одно с ними время, возможно, даже долгие годы терпевший осуждающие взгляды, в конце концов оказался правым?