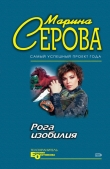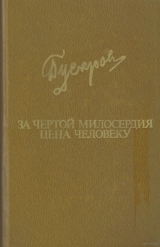
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 46 страниц)
– Принимай гостя, мать! —с улыбкой сказал он, удивляясь, что она все еще не узнает его.
– Пашенька! – Пустой чугун грохнулся на пол, опрокинулся и зазвенел старыми обожженными боками. По привычке наспех вытирая руки о передник, мать кинулась к сыну, хотела повиснуть у него на шее, но, пораженная его одеждой, остановилась.
– Да это я! Я, не пугайся! Совсем вернулся, понимаешь!
2
Курганов и Орлиев виделись два раза в день.
Сферы деятельности разделились сами собой. Виктор после планерки, если не было других срочных дел, вместе с рабочими уезжал в лес. Тихон Захарович оставался в поселке. В дни, когда на биржу почему-либо мало поступало древесины, он появлялся на делянке – строгий, решительный и шумный...
Да, он умел заставить шевелиться кого угодно. На повалочной ленте его еще никто и в глаза не видел, издали еще едва доносился громкий орлиевский бас, ругающий кого-то на эстакаде или на волоке, а обрубщицы сучьев уже кричат электропильщику:
– Жми, Василий... «Сам» идет! Сердитый!
Крикнут, подмигнут друг дружке, даже засмеются,
а все же топоры дружнее и звонче начинают мелькать в их руках.
Казалось бы, чего бояться начальника им, этим веселым и болтливым девчатам, у которых язык острее их топоров и на все всегда есть готовый ответ?! Никого из них начальник не смог бы даже понизить в должности, так как профессия сучкоруба считается самой неквалифицированной на делянке. И все же, когда Орлиев, мрачно оглядев бригаду, удалялся, женщины, нисколько не скрывая этого, облегченно вздыхали.
Орлиеву все подчинялись с полуслова. Он дважды не повторял распоряжений. Непосредственно к рабочим Орлиев никогда даже и не обращался. Если он видел, что кто-либо из рабочих делает не так, как нужно, он подзывал мастера:
– Ты что, этот пень пониже обрезать не можешь, что ли? Так и будешь каждым хлыстом за него задевать?
Словно сам мастер расчищает волок и подрезает пни.
' Так же Орлиев поступал и во время войны. За каждое, даже мелкое упущение бойца он учинял спрос прежде всего с командира отделения. Тем самым проступок провинившегося как бы удваивался: и сам проштрафился, и своего командира под удар поставил.
У Виктора с подчиненными сложились совсем иные отношения. Почти с первых дней ему пришлось добиваться своего не приказами, а убеждением. Это требовало времени, сил и нервов. Зачастую приходилось подолгу объяснять, почему надо сделать именно так, и почему по-другому это делать не выгодно. Хорошо, если тебя понимали с первого раза. Бывали случаи, когда Виктор искренне завидовал умению Орлиева сказать словно отрубить. И все же потом он испытывал истинное удовлетворение оттого, что добился своего не предоставленной ему властью, а умением убеждать.
Отчуждение между Кургановым и Орлиевым усугубили очерки Чадова. Они печатались в нескольких номерах газеты под рубрикой «Письма из Войттозера». Первый очерк назывался «Там, где гремели бои». В нем Чадов возвышенно и упоенно рассказывал о днях войны, о судьбах Орлиева, Курганова, Рантуевой, о новом поселке. Все это было как бы продолжением той статьи, которую он напечатал в связи с приездом Курганова.
Все в очерке было правильным, но, читая его, Виктор не мог преодолеть чувства несогласия и даже неприязни. Близкое и дорогое казалось фальшивым и надуманным лишь только потому, что о нем рассказал Чадов. Даже рубрика вызывала какое-то отвращение.
«Сидит человек в петрозаводской квартире, строчит себе, а читатели должны думать, что он пишет все это из Войттозера. Кому нужен такой обман? Он бы мог действительно из Войттозера написать письмо... Было о чем... Но он не захотел, испугался!» – подумал Виктор.
В последнем очерке «Новое пробивает дорогу» Чадов зло обрушился на Орлиева, изображая его как рутинера, деспота, отставшего от жизни человека. Начальнику лесопункта противопоставлялся молодой энергичный технорук, который был расписан в таких положительных тонах, что Виктор невольно краснел при виде газеты с этим очерком.
В те дни газеты в Войттозере читались нарасхват. Даже в лесу во время перекуров не было другой темы для разговора.
Последний очерк показался Виктору самым несправедливым, хотя все факты, описанные в нем, имели место в жизни. Угнетало уже одно то, что Чадов не сдержал своего слова. За каждой строкой Виктору виделось желание Чадова сразить Орлиева, свести с ним счеты за прежнюю взаимную неприязнь. Тем более что все, на что указывалось в очерке, на лесопункте уже было осуществлено.
Еще острее, видимо, почувствовал эту несправедливость сам Орлиев. Он ходил мрачнее тучи. По поселку прошел слух, что Тихон Захарович написал в Петрозаводск протест – то ли в газету, то ли в ЦК партии.
Очерк окончательно утвердил разлад между начальником и техноруком.
Как раз в те дни, в середине сентября, Виктор предложил на дождливые месяцы перевести в сухие боры и участок Панкратова. Своевременность такого решения была очевидной. Дорожно-подготовительный участок наладил свою работу, и переход не занял бы много времени.
– Понравилось в героях ходить, еще захотелось,– недобро сверкнул глазами Орлиев.
Близился конец квартала. Участок Рантуевой на новых делянках в первые дни справлялся с заданием без особого напряжения. Стала реальной надежда, что лесопункт войдет в график и сумеет до конца сентября покрыть хотя бы часть задолженности по прежним месяцам. Но как только в сводках начали появляться очень разительные итоги работы двух участков, Орлиев постепенно стал перебрасывать трактора и лесовозы от Рантуевой к Панкратову, мотивируя это тем, что участки соревнуются, а условия работы у них слишком различные.
Техники у Панкратова скопилось немало, но каждый трактор давал выработку чуть ли не в два раза меньшую, чем на участке Рантуевой. Частые осенние дожди затруднили и трелевку и вывозку. Работать приходилось почти по колено в воде.
Напрасно Виктор спорил, настаивал, доказывал, что делать нужно как раз наоборот. Если уж и не переводить участок Панкратова в сухие боры, то нужно сосредоточить побольше техники у Рантуевой, то есть там, где она будет давать большую выработку. Его поддерживали и Вяхясало, и Рантуева, и председатель рабочкома Су-греев, Но Орлиев был неумолим.
После одного из таких разговоров Курганов вгорячах решил позвонить наконец в райком Гурышеву. То ли Виктор очень был взволнован и говорил слишком сбивчиво, то ли Гурышев куда-то спешил, но секретарь райкома пристыдил его:
– Неужели вы не можете разобраться в этом на месте? Есть у вас партбюро или нет? Соберитесь, обсудите. Если не прав Орлиев, поправьте его...
Видимо, вспомнив, что Курганов беспартийный, Гурышев помолчал и потом попросил сказать Мошникову, чтобы тот срочно позвонил ему.
Сегодня во время планерки Мошников тихо предупредил Виктора, что завтра вечером состоится расширенное заседание партбюро, где будет рассматриваться вопрос о работе лесопункта, и ему, как техноруку, нужно обязательно присутствовать.
– Ты комсомольскую рекомендацию из Ленинграда не получил еще? – поинтересовался Мошников.
– Получил... Мне ее сразу же, через две недели выслали.
– Так чего же ты тянешь? Сдавай ее. Теперь у тебя с документами все в порядке. Рассмотрим вопрос и о твоем приеме в кандидаты.
– Может, обождать пока? – спросил Виктор, пытаясь заглянуть сквозь толстые очки в глаза Мошникову.– Как вы считаете, а?
Мошников неопределенно пожал плечами, ссутулился еще больше. Весь его вид говорил: «Сам решай... Я даже не знаю, принято ли в таких делах советоваться...»
Виктор вынул из бумажника рекомендацию райкома комсомола, и через минуту она уже была в сейфе, где хранились две другие, полученные им от Орлиева и одного из товарищей по академии,
з
В день возвращения Павла Виктор находился на участке Панкрашова.
К концу обеденного перерыва сюда неожиданно приехала на попутном лесовозе Оля Рантуева.
– Вот это новость! – воскликнул Панкрашов.– К нам гостья пожаловала... Из верхнего светлого рая в кромешный наш низменный ад!
– Смотри-ка, ты от зависти стихами заговорил! – засмеялась Оля. Вид у нее был встревоженно-радостный.
– А что? Могу и стихами...– Панкратов браво выставил вперед ногу, подбоченился и, закатывая в деланном упоении глаза, продекламировал:
Из светлого верхнего рая В кромешный наш низменный ад Спустилася дева младая,
Чьи очи, как звезды, горят.
– Здорово, а? – обрадованно закричал он.– Ведь сам сочинил, только что... Взял и выдал!
– Как бы Орлиев тебе вечером панихиду не выдал! Опять на обочине два воза аварийки прибавилось... Много ли вывез сегодня?
– Будет, будет нам панихида,– горестно замотал головой Панкратов.– Такая уж наша планида. Кому пироги и пышки, а нам синяки и шишки.
– Да что с тобой сегодня? Опять стихами сыплешь?!
– И верно, опять складно вышло!—искренне удивился Панкратов.– Оказывается, уж и не такое трудное дело стихи сочинять. Легче, чем план давать... Эх, брат Костя, может, загубил ты свой талант?!
Виктор уже давно приметил, что при разговоре с женщинами, особенно с молодыми и красивыми, Панкратов не может быть самим собой. Он обязательно примет позу то разудалого весельчака, которому море по колено, то удрученного жизнью печальника, на которого незаслуженно валятся удары судьбы, то простоватого парня, способного сболтнуть все, что вздумается. А вообще-то Панкратов был далеко не глупым человеком. В бригадах его любили за веселый нрав и слегка ироническое отношение к своему положению начальника. Обращались с ним запросто, называли Костя, охотно приглашали на семейные праздники, во время поездок на работу вышучивали его так же, как и любого другого, попавшего на язык...
Одну слабость Панкратова знали все: любил нравиться женщинам. Как уж ни высмеивали его мужчины, как ни издевались над ним, а стоило появиться в поселке новенькой красивой девушке, приехавшей из деревни наниматься на работу обрубщицей сучьев, Панкратов весь преображался, начинал по очереди разыгрывать свои роли,
Лишь перед одной женщиной в поселке Костя никогда ничего не разыгрывал, и даже больше того – терялся, делался неловким и тихим. Это была Анна Никитична Рябова. Многие диву давались, чем могла его прельстить школьная директорша? И красотой особой она не отличается, и немолода, а ходит за ней Костя тенью, под всякими предлогами ищет ежедневных встреч.
Кто знает, может, потому он и хотел нравиться другим, чтоб вызвать у Анны Никитичны хотя бы ревность? Может, потому и старался блеснуть своими талантами, чтоб говорили о нем в поселке, чтоб все это услышала и оценила она?
Сегодня представился особый случай. Оля – близкая подруга Анны Никитичны, и Панкрашов неожиданно обнаружил новую возможность привлечь к себе ее внимание.
Курганов с улыбкой наблюдал, как Костя напряженно шевелит губами, стараясь подобрать что-то похожее на стихи. Но окончательно закрепить свой успех ему не удалось. Оля повернулась к Виктору:
– Можно с тобой посекретничать?
Это было так неожиданно, что Виктор не сразу нашелся.
– Что-нибудь случилось на участке?
– Было бы с чего секреты разводить, если б на участке что случилось! – Весело оглядев наблюдавших за ними рабочих, она громко сказала:– Я, может, в любви объясниться хочу... Имею на это право или нет?
– Имеешь! – подтвердил Панкрашов.– А вот на месте Курганова я бы подумал... Все-таки женатый человек!
– Нашелся радетель о чужих женах!—со смехом выкрикнула пожилая женщина, учетчица с эстакады.
– Разве я о женах? Я к тому, что надо бы и о друзьях помнить, которые в холостых еще ходят... Нечего невест зря отвлекать!
– С такими женихами, как ты, невесты в девках состарятся,– махнула рукой Оля и первой пошла от эстакады.
По влажному чавкающему под ногами мху они спустились с пригорка к светлому родничку и, не сговариваясь, остановились. На лесосеке был тот редкий и непривычно тихий час, когда от скрытой за кустами эстакады отчетливо доносилось не только каждое слово, но и даже легкое позвякивание черпака в руках у раздатчицы, разливавшей по кружкам чай. Все вокруг как бы нарочно затаилось, застыло в пасмурной сыроватой мгле, рождая у Виктора смутную, необъяснимую тревогу.
– Ты знаешь, что вернулся Павел?
– Н-нет.– Виктор так часто думал об этом, так ждал этого, а вопрос Оли прозвучал настолько обыденно, что он не сразу понял. Л когда чуть позже осознал услышанное, то уже не мог что-либо добавить, так как любое слово стало казаться ему ненужным, ничего не выражающим в сравнении со значимостью радостной вести. Он молчал. Это обидело Ольгу.
– Не понимаю тебя...– пожала она плечами.– Я так торопилась, думала, ты обрадуешься.
– Спасибо... Ты видела Павла?
– Где я могла видеть? Мне прислала записку Валя Шумилова... Уже все знают, что он вернулся... Я хочу поехать в поселок. Поедем вместе?
– Нет... Сейчас я не могу.
– Какой же ты, Витька...– Оля не докончила, со злостью сбила носком сапога дряблую бесцветную шляпку позднего мухомора и вновь язвительно заговорила:– Неужели Панкрашов не справится здесь без тебя? Нянька ты ему, что ли? Надеюсь, мне ты, как технорук, разрешаешь на пару часов оставить участок?
– Ты можешь ехать...
– Спасибо и на этом. Хотела поговорить с тобой еще об одном деле, да теперь уже не буду...
– Говори, я слушаю.
– Нет уж, ладно... Потом, если вообще такой разговор понадобится... Непонятный ты человек! Сам столько хлопотал о Павле, всех на ноги поднял, а теперь вроде и не рад. Даже повидаться не торопишься.
– Мы виделись с ним полтора месяца назад.
– «Виделись»! Хорошее было свидание, когда он под стражей был.
– Вечером мы увидимся.
Оля уехала в поселок.
В четыре часа приступила к работе вечерняя смена. Тракторы один за другим подтащили к эстакаде по пачке хлыстов, уже отправился на нижнюю биржу первый лесовоз, и можно было уезжать домой, но Виктор все еще медлил, беспокойно переходя от бригады к бригаде и оправдывая себя тем, что работа еще не совсем наладилась. Наверное, сегодня он был бы рад, если бы на делянке вдруг случилось что-либо непредвиденное и понадобилось бы его вмешательство. Но как нарочно, все шло даже лучше, чем в предыдущие дни. Первой смене удалось оставить запас хлыстов и для разделочников на эстакаде и для трелевщиков на пасеке. Если не подведут лесовозы, то участок Панкрашова даст сносную суточную выработку.
«И все же надо ехать!» – подумал Виктор, когда механик передвижной электростанции включил освещение, и лес вокруг эстакады сразу сделался непроницаемо-темным. Где-то за этой черной стеной рокотали, всхрапывая, близкие, но невидимые трактора.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 1
Вот уже больше месяца Кургановы жили в одной из комнат женского общежития, расположенного в центре поселка.
Виктор опасался, что их неожиданный переезд от Ко-четыговых вызовет немало разговоров и пересудов, однако никто этого и не заметил. Орлиев даже не спросил, чем вызвано такое внезапное решение. Выслушав Виктора, он приказал Мошникову подыскать комнату и подобрать на время необходимую мебель.
Труднее было объясниться с тетей Фросей.
Когда Виктор за вечерним чаем сказал ей, что в поселке им выделили комнату и завтра они переедут туда, тетя Фрося запротестовала и принялась стыдить Лену, считая почему-то ее виновницей поспешного переселения.
– Это еще что за причуды! Сама целый день на работе, мужик на работе – какая ж будет жизнь, прости меня, господи? Да разве ж с добра люди идут в это самое общежитие?.. Поглупее тебя девки еще не успеют замуж выскочить, и то уже просят у Тихона Захаровича отдельную квартиру.
Лена сидела подавленная, молчаливая, опустив глаза.
– Лена здесь ни при чем. Это я так решил! – сказал Виктор.
Тетя Фрося поглядела на него и вдруг притихла.
– Коль не по нраву вам что, могли бы сказать... Не чужие, поди! – вздохнула она и обиженно поджала губы.
Виктор попытался успокоить старушку. Поблагодарив за все доброе, что она сделала для них, он объяснил, что в общежитии они будут лишь до пуска новых домов, которые к ноябрьским праздникам обязательно вступят в эксплуатацию, что переезжать им рано или поздно все равно придется, так как со дня на день может вернуться Павел, и лучше это сделать сейчас, пока есть возможность.
– Ты думаешь, Пашенька скоро вернется? – спросила тетя Фрося. В ее взгляде было столько надежды – робкой, чуть недоверчивой и такой желанной,– что Виктор, даже если бы и не был уверен в правоте своих слов, не осмелился бы ответить другое.
– Обязательно. Как же иначе? – подтвердил он.
Тогда он мог только надеяться. Поездка в Петрозаводск и разговор с Дороховым укрепили эту надежду. Но из Москвы никаких вестей не было. Он получил лишь ответы от товарищей по отряду. Теплые, удивительно сердечные ответы, какие могут прислать верные и близкие друзья! Первой пришла телеграмма от Проккуева из Чупы: «Сделал все, как ты просил. Верю, надеюсь, радуюсь. Пиши скорее подробности. Федор».
...Да, тогда и он мог сказать: «верю, надеюсь, радуюсь». Теперь надежда сбылась, Павел вернулся. Почему же теперь к этой большой радости снова примешивается горечь? Неужели до ковда жизни Виктору так и суждено носить в сердце ощущение своей вины перед Павлом за все случившееся? Разве он не сделал все, что мог, чтоб скорее забылось то неприятное прошлое?
...Комната, где поселились Кургановы, была большая, и, несмотря на все старания Лены, ее пока не удалось сделать уютной. Мебели было мало: шкаф, стол, несколько стульев и две узкие металлические кровати у противоположных стен. Книги лежали стопками в углу, так как стеллаж, заказанный школьному столяру Егорычу, еще не был готов. Виктор и Лена питались в столовой, денег на покупку мебели почти не оставалось, да и заниматься домашними делами было некогда. Лена работала в две смены, все свободное время у нее уходило на подготовку к урокам, а Виктор приезжал из лесу таким усталым, что, ожидая жену, иногда засыпал нераздетым, привалившись головой на кровать.
Единственной радостью в новом жилье была огромная круглая печь с такой чудесной тягой, что пламя вку-три всегда гудело, а папиросный дым тонкими струйками тянулся туда чуть ли не с середины комнаты.
Топить такую печь было одно удовольствие. Вернувшись домой, Виктор первым делом приносил дрова, снимал промокший плащ, топором щепал лучину, стоймя набивал топку поленьями и от одной спички разжигал печь. Через несколько минут все трещало, гудело, полыхало, по стенкам полутемной комнаты метались неровные блики. Он гасил свет, садился к печи на поваленную набок табуретку и подолгу глядел немигающими глазами на огонь. Нет, это гудящее прожорливое пламя было совсем не похоже на медлительные ласковые языки партизанского костра, но и оно удивительно настраивало на воспоминания и раздумья.
Если уроки были удачными, Лена приходила возбужденная, счастливая. Она у дверей щелкала выключателем, бросала портфель и с ходу принималась рассказывать, что восьмиклассники сегодня просто прелесть, что Костя Огуреев («помнишь, Котька-баянист?») с таким чувством наизусть читал отрывки из «Слова о полку Игореве» («на древнерусском языке, понимаешь»), что весь класс был удивлен.
Неудачные уроки делали Лену несчастной. Не зажигая света, она бессильно садилась к столу, долго молчала и почти всегда начинала с одного и того же:
– Видно, я совсем, совсем никудышный преподаватель. Такая простая тема, и никто ничего не ответил... Никто, ты понимаешь?!
Виктор лишь улыбался в темноте ее сетованиям и начинал успокаивать, ссылаясь на то, что вчера на лесопункте был трудный день, работали допоздна, и, естественно, ее ученики не имели возможности подготовиться.
– Но ведь я им все объяснила на уроке. Все-все, до последней мелочи... Могли же они хоть что-то запомнить? Могли. Но они, видно, ничего не поняли – вот что печально!
Виктор принимался ей доказывать, что ее ученики – взрослые люди, и если они почему-либо не подготовились к уроку, то на авось отвечать не станут. Виктор сам учился в вечерней школе и знал, что все это не всегда так, но надо же хоть чем-то успокоить Лену, а то она всю ночь не сомкнет глаз.
Утренние уроки с первашами, которых Лена так боялась раньше, давались ей, видно, легче, чем литература в восьмом классе. По крайней мере о первашах она говорила реже и обязательно что-либо радостное и смешное.
...В этот вечер Виктор не успел снять рабочий плащ, как пришла тетя Фрося. Она прямо с порога со слезами на глазах бросилась ему на шею:
– Витенька, сынок! Радость-то какая! Мой Пашенька вернулся!
Осторожно и неловко прижимая к груди всхлипывавшую старушку, Виктор вдруг ощутил всю беспредельность ее радости, всю силу благодарности судьбе за то, что она подарила ей такое счастье. Материнское сердце щедро. Пусть на долю Виктора пришлась лишь маленькая частица ее чувств, но и той доли вполне хватило, чтобы его прежние собственные переживания стали казаться мелкими и ненужными. Он рос без матери. Может быть, поэтому он, тоже не сдержав слез, стыдливо отворачивался в сторону и бессвязно бормотал:
– Что вы, тетя Фрося?.. Плакать-то зачем?..
Позже, когда старушка ненадолго присела на стул и
наступило молчание, Виктор заметил у порога набитую свертками сумку, из которой торчали горлышки нераспечатанных бутылок.
– Да что же это я?! – спохватилась тетя Фрося вскакивая.– Столько дел, а я расселась тут... Витенька, собирайся скорей! И так уж поздно. Леночка еще в школе? Зайди за ней. Так и скажи, в гости зовут.
– Павел тоже звал меня? – помедлив, спросил Виктор.
– А как же? – удивилась тетя Фрося.– Кого же ему и звать-то, если не тебя... Народу не много будет... Вы с Леночкой, Тихон Захарович обещал зайти, Олюшка да еще из деревенских кто придет. За угощение не обессудьте – наскоро готовимся! Ты уж, Витенька, не задерживайся, поскорей приходи1
– Хорошо, тетя Фрося.
Давно не бывало у Виктора такого радостного настроения. С озера дул напористый влажный ветер, раскачивал тусклые уличные фонари, но он не замечал ни ветра, ни тьмы, ни слякоти. В распахнутом пальто он шагал по середине улицы, намеренно поворачивая лицо в сторону ветра и даже напевая что-то про себя.
Заметив еще открытый магазин, он остановился, подумал, что надо обязательно чего-нибудь купить, вошел внутрь, долго решал, что именно, и, не придумав ничего лучшего, купил запыленную бутылку шампанского и две пачки папирос с красивым названием «Северная Пальмира».
Возле почты тоже остановился, постоял в нерешительности, глядя на темные окна, потом бегом понесся к теперь уже знакомому дому, где жила заведующая. К удивлению, его встретила Валя Шумилова. Босая, одетая в старенькое пестрое платье, она мыла пол и очень смутилась, увидев Виктора. Так они и стояли друг против друга, виновато и растерянно улыбаясь. Лишь теперь Виктор понял, почему при первой встрече лицо молоденькой заведующей почтой показалось ему знакомым. Ведь она, конечно, сестра Вали.
– Можно Веру? – спросил он, все еще продолжая улыбаться.
Даже то, что Веры не оказалось дома, уже не могло изменить его настроения.
– Она сможет, когда вернется, отправить несколько телеграмм?
– Не знаю. Если уж очень срочные...
– Конечно. Очень даже срочные... Вы понимаете, вернулся Павел Кочетыгов! – воскликнул он, совсем забыв, что именно Валя сообщила об этом на делянку.
– Напишите текст, я передам Верке.
– Да? Очень хорошо... Только не надо никакого текста. Я оставлю адреса и деньги, а под каждым адресом пусть она напишет всего два слова: «Павел вернулся» и ничего больше.
– Но нужна же хоть какая-то подпись.
– Подпись? Пожалуйста. Везде пусть подпишет «Курганов». Вот адреса. Один, другой, третий. Всего пять. Вот деньги.
– Не знаю, примет ли у меня Верка такие телеграммы,– покачала головой Валя.– Нужно хотя бы переписать все это.
– Нет уж, пожалуйста, уговорите ее. А если нельзя– пусть перепишет. Только пусть обязательно сегодня отправит. Скажите* я очень просил. Договорились?
– Хорошо,– улыбнулась Валя.
– Большое спасибо. Скажите, что за мной подарок к ее свадьбе. Да и к вашей тоже! – уже из сеней крикнул Виктор и сбежал с крыльца.
«Теперь – скорее в школу, а потом – туда... Туда, гуда»,– чуть не нараспев повторил он, поглядывая на едва пробивавшиеся сквозь тьму желтые пятнышки деревенских окон на другой стороне залива,
2
О приглашении гостей сам Павел узнал последним, когда тетя Фрося с покупками примчалась домой и заохала, заахала, не зная, за что наперед приняться.
– Пашенька, ты бы хоть помог чем. Люди придут, а у нас ничего не готово. Совестно будет.
– Какие люди! Что ты еще выдумала!
– А как же? Неужто не придут? Придут же люди с тобой повидаться? Неужто не надо их угостить? Тихон Захарович обещал быть.
– Ты что – никак гостей наприглашала?
Мать, сделав вид, что не заметила его недовольного лица, ласково заговорила:
– Зачем приглашать? Хороших людей и приглашать не надо. А если б и позвала, так что ж тут худого? Отчего же не посидеть, не выпить рюмочку ради праздника.
Павел все понял. Но спорить и ругаться было поздно. Он лишь мрачно усмехнулся:
– Не велико торжество. Не из экспедиции на полюс я вернулся... Нашла тоже праздник!
– Не совестно ль так тебе говорить, Пашенька? – обиделась мать, готовая вот-вот расплакаться.– Разве ж есть для меня другой такой праздник?! Нет и никогда не будет. Неужто ты мать не можешь уважить, хоть в такой-то день?
– Ладно, ладно, чего теперь говорить,– пробурчал Павел.– Чего делать-то надо? Да не гоношись ты! Подумаешь, велика важность – гости! Давай за водой схожу...
Когда Виктор пришел к Кочетыговым, никого из гостей, кроме Оли, еще не было. Тетя Фрося в огромной деревянной чаше размешивала винегрет, Оля перетирала старые с потемневшими ручками вилки, а принаряженный Павел, сидя на сундуке, листал забытую Кургановым книгу с таким видом, словно все происходящее в доме его совершенно не касалось.
Увидев Виктора, он неторопливо поднялся, пожал ему руку, даже сдержанно улыбнулся, но не произнес ни слова. Вероятно, и улыбнулся он лишь потому, что за ними наблюдали внимательные глаза Оли. Виктор не видел этого, и скупая улыбка Павла очень обрадовала его. Он разделся, вынул из кармана бутылку, поставил ее под лавку и прошел в передний угол.
– Леночка скоро ли придет? – ласково спросила тетя Фрося.
– Придет... Закончит уроки и придет.
Виктор присел на лавку рядом с Павлом и оглядел комнату.
Ничто в ней не изменилось за месяц, но знакомая, ставшая даже родной комната вызывала теперь тоскливое чувство. Как будто каждая вещь в ней смотрела па него с немым упреком: «Вот ты испугался, переехал,
а делать этого совсем и не надо было...»
Павел молчал. Женщины занимались своим делом. Виктор достал коробку «Северной Пальмиры», распечатал ее, взял папироску и предложил Павлу. Тот оторвался от книги, помедлил, покосившись на этикетку, и все-таки принял угощение, с большим трудом выковырнув покалеченными пальцами папироску из плотно уложенной коробки.
– Мужики, никак дымить здесь собрались? – громко спросила Оля.– Шли б в другую комнату, там и чадили.
– Ишь ты какая неженка стала! – усмехнулся Павел.
– Пусть себе курят, чего ты? – вступилась тетя Фрося, но Павел первым поднялся и направился в комнату, где еще совсем недавно жили Виктор и Лена.
В опустевшей комнате было темно и прохладно. Они остановились у окна и напряженно курили, попеременно озаряя себя красноватым светом при затяжке.
– На лесопункт будешь устраиваться? – спросил Виктор, чувствуя, что Павел первым разговора не начнет.
– Нет,– резко отозвался тот.
– А чем заниматься думаешь?
– Не знаю... Там видно будет.
Загасив окурки, помолчали и, не сказав друг другу больше ни слова, вернулись в переднюю комнату, где все уже было готово и самовар весело тянул нескончаемую, уютную песню.
Вскоре раздался стук в дверь, и на пороге появилась счастливая улыбающаяся Лена.
– Вот и мы! Не опоздали? – весело спросила она и, обернувшись, позвала: – Анна Никитична, где ты там?
– Здесь я, здесь,– послышался из сеней знакомый голос, потом на свет вышла Рябова, тоже веселая, улыбающаяся.– Ну и темнотища у вас тут в деревне! И когда только Орлиев сюда электричество подведет? Где он? Ах, его нет. А то заставила бы платить за порванный капрон... Где тут воскресший из мертвых? Здравствуй, Павел! Здравствуй, тетя Фрося! Я, как всегда, незваная прихожу. У меня нюх такой – как где праздник, я тут как тут... Но сегодня не моя вина. Вот Елена Сергеевна пристала – пойдем да пойдем... Чего ж, думаю, стесняться? Такие дни не часто бывают. А Павел, думаю, не забыл, как я ему «двойки» ставила? Чего ты смеешься, или я неправду говорю? – повернулась она к Ольге.
– Конечно, неправду,– улыбнулась та.
– Это еще почему? Может, скажешь, что и тебе я «двоек» не ставила?
– Конечно, не ставила...
– Да вы что? Сговорились тут, что ли?—в удивлении развела руками Рябова.– Не хотите ли теперь сказать, что вы отличниками всегда были, а?
Павел неожиданно улыбнулся и глухо сказал:
– Вы нам не могли «двойки» ставить. Тогда «неуды» в ходу были...
– Вот именно! – закричала Оля и довольно захлопала в ладоши.– Молодец, Пашка!
– Так это ж еще хуже, чего вы радуетесь? – попробовала вывернуться Рябова.– У «двойки» хоть «единица» утешением служит, а у «неуда» и того нет... Вот всегда так,– обратилась Анна Никитична к тете Фросе.– Хотела людям хорошее сделать, а они норовят меня же и впросак посадить.
– Неужто и правда, Пашенька, ты «неуды» получал?– спросила тетя Фрося с таким искренним огорчением, что все дружно рассмеялись.
Минут десять подождали Орлиева. Но как только шумное настроение начало понемногу спадать, Анна Никитична вдруг спросила:
– Долго ль нас тут голодом морить собираются? Почему шестеро должны ждать седьмого?
– Садитесь, садитесь за стол, дорогие гости,– заторопилась тетя Фрося, хотя, видно, ей очень хотелось дождаться Тихона Захаровича.– Пашенька, приглашай, чего же ты! Анна Никитична, Оленька, Лена! Садитесь, где поудобней.
Гости сели первыми: Рябова и Оля на лавке у стены, Виктор и Лена на скамью напротив, оставив Павлу табуретку. Однако он, помедлив, выбрал место рядом с Рябовой.
– Э-э, так не годится! – запротестовала та.– Чего на угол сел? Хочешь семь лет в холостяках ходить?
– Мне не страшно,– слегка улыбнулся Павел.– Я уже больше того просрочил... А табуретку давайте за Орлиевым забронируем...
– Ну, если так, то на углу мне и подавно бояться нечего...– Она поменялась с Павлом местами, заставила его придвинуться поближе к Оле, а сама уселась на табуретку.– Чего мы тесниться будем? Правда, тетя Фрося? Придет Орлиев – ему место найдется... Еще Гоголь говорил, что городничему в любой тесноте место найдется... Где это он говорил, Елена Сергеевна, в «Ревизоре», что ли?