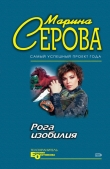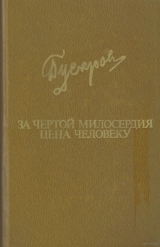
Текст книги "За чертой милосердия. Цена человеку"
Автор книги: Дмитрий Гусаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц)
Приглядевшись и разобравшись, что к чему, Вася подумал, что собралось их здесь явно многовато. Конечно, и путь до реки Сегежа немалый – около сорока километров. Но если с каждыми двумя ранеными бригада начнет возвращать назад по пятнадцать здоровых, то кто же воевать будет? Эта мысль как-то успокоила и вроде обнадежила Васю. Он стал терпеливо ждать.
Командир группы Борис Шунгин сделал перекличку, представил назначенного политруком Виктора Кошкина и, как положено, проверил у каждого оружие и боеприпасы. До Чуткина он дойти не успел. Появился комбриг Григорьев, поздоровался и объявил:
– Задание вашей группе следующее. Понесете раненых до озера Тухкаярви. Это недалеко – шесть километров. Мы там были позавчера. На озере надо быть не позже двадцати трех часов. Ночью прилетит самолет. Будете ждать его до тринадцати часов завтрашнего дня. Если по каким-либо причинам самолета не будет, понесете раненых до поселка Услаг. Пойдете по старой тропе– Шунгин с маршрутом знаком. Вам навстречу выйдут пограничники. Какие есть вопросы?
– Раненых отправим на самолете, а нам самим куда? – спросил Пянтин.
– Все вы возвращаетесь своим ходом в Сегежу и поступаете в распоряжение командира отряда «Красное знамя» Введенского.
И тут Чуткин решился, сделал шаг вперед.
– Можно, товарищ комбриг?
Григорьев вгляделся и кивнул:
– A-а, это ты, Чуткин... Что у тебя?
Он помнил его по шокшинской разведке и по всей той истории, о которой и сейчас трудно вспоминать без улыбки.
– Товарищ комбриг, разрешите мне с бригадой... Я могу. Я последние дни хорошо шел.– Вася сам испугался своей смелости и привычно загнусавил: – Чё, я хуже других, чё ли... Я вон только разошелся, а тут назад...
Комбриг смотрел на Васю, щурился и уже не скрывал улыбки.
– Попова ко мне, быстро,– приказал он связному.
К счастью, Попов оказался поблизости. Минутку они
вполголоса посовещались, поглядывая на Васю, и Григорьев приказал:
– Чуткин, возвращайся в отряд... Только если отставать будешь, палкой погоню, понял? Ну, остальные распределяйтесь по носилкам и трогайтесь. Шунгин, назначь наблюдателей по сторонам. Счастливого пути!
Григорьев подошел к носилкам, попрощался с ранеными разведчиками, сказал им несколько ободряющих слов и пошел к штабу. До выхода бригады на север оставалось менее получаса.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ НАДЕЖДЫ ЛАЗАРЕВОЙ
(с. Ладва, 20 февраля 1971 г.)
...Как это случилось тогда? Нет, забыть-то оно не забылось, хоть и прошло почти тридцать лет. Такое как забудешь, только вспоминать да рассказывать тяжело.
Попрощались мы с комбригом, ребята встали по четверо к носилкам и пошли. Бригадный врач Екатерина Александровна Петухова проводила нас до постов, сунула напоследок еще один пакет с сульфидином: «Девочки, у Кузнецова жар начинается, поите его почаще!» Да, с нами шла еще третья девушка – переводчица Аня Ке-мова.
Поначалу все было хорошо. Первый отдых сделали, когда прошли с километр или даже больше. Хотя кто их считал, эти километры... Посидели минут десять и дальше тронулись. А потом и началось... Только тот, кому хоть раз довелось тащить летом по лесу на носилках раненого человека, и может понять, какое это тяжкое дело! Поднимут ребята носилки, протащат шагов сто – двести и, обессиленные, чуть не падают на землю. И так тяжело, а тут смотри, чтоб не оступиться, не грохнуть наземь ношу. А там ведь не мешок какой – живой человек, да еще с перебитыми ногами, ему каждый толчок – мука нестерпимая.
Хорошо бы сами носильщики были крепкими. Тут сила нужна, а они ведь ослабевшие...
Так вот и тащились час, другой, третий. Солнце уже низко опустилось, а командир наш Шунгин на запад посматривает, хмурится, поторапливает. Сам он работал больше всех, подменял ребят по очереди.
Освободится от одних носилок, шагов десять передохнет и бежит на подмену к другим. Девчата по два вещмешка несли и оружие раненых – тоже выбивались из сил.
Недалеко уже до этого озера оставалось, куда мы шли, как догнала нас еще одна группа из бригады. Было их человек восемь и сандружинница Аня Леонтьева с ними. Несли они еще одного раненого, подорвавшегося на мине. Там ребята здоровые были, и шли они ходко. Думали мы – вместе дальше пойдем, помогут нам, ведь у них все-таки две смены на одни носилки. А они только на минутку остановились, объяснили, что им после самолета бригаду догонять надо, и ушли вперед.
К назначенному сроку мы опоздали. На озеро вышли в полночь и очень обрадовались, что самолета еще не было. Только радость наша оказалась ни к чему. Всю ночь прождали мы самолета, и все напрасно.
Те, восьмеро, нервничали, уговаривали Шунгина взять их раненого, чтоб им поскорей вернуться в бригаду, а тот словно знал, что самолета не будет:
– Ребята, говорит, если вы хотите погубить всех больных и раненых, то можете уходить. Вы же видите, что у нас и на двое носилок нет людей. Самолета ведь может и не быть.
Раненый у них был совсем тяжелый, все время стонал, иногда впадал в беспамятство. Аня Леонтьева так и не отходила от него.
Уже утро наступало, а самолета все нет. Та группа не выдержала, схватила свои носилки и отправилась на восток. Решили поскорей добраться до пограничников. Мы ждали, как было приказано, до часу дня и тоже тронулись.
Теперь уж, наверное, не столько шли, сколько отдыхали. Старались ребята по-прежнему, но силы убывали с каждым шагом. Пронесут сколько могут, сядут на землю и, как говорится, языки на сторону. Пять – десять минут никто и с места не сдвинется – только и дышат, отдышаться не могут.
В ночь и настигла нас беда.
Не знаю, сколько мы прошли от этого озера, где самолета ждали. Может, километров десять, а то и больше. Помню, что случилось это после большого привала на малом...
Надо честно сказать, что к тому времени осторожности у нас никакой не было. Шли хотя и по нейтральной полосе, а считали ее своей. На западе – бригада, на востоке – пограничники, откуда тут противнику взяться? Думы наши о другом были – как бы до своих добраться, хватит ли у нас сил, если пограничники навстречу не выйдут? Кузнепову-то совсем плохо стало. Хотя его перебитые ноги и были взяты в жесткие шины, а такая дорога растревожила их – стонал почти беспрерывно. Второй раненый – Першин – чувствовал себя получше.
Только мы присели на отдых, ребята еще и закурить не успели – тут и началось. Трудно сказать, откуда финны взялись – то ли случайно на нас вышли, то ли по следу нагнали. Было их немного, человек пятнадцать – двадцать, и напали они на нас с одной стороны.
Развернуться к бою группа не успела, хотя Борис Шунгин первым открыл огонь и крикнул: «Ребята, занять оборону!» У большинства и оружия при себе не оказалось. Пока разбирали винтовки и пытались занять оборону, финны подошли совсем близко. Они строчили из автоматов чуть ли не в упор и кричали: «Рюсся, сдавайся!»
Открыть ответный огонь успели лишь несколько человек из наших. Борис Шунгин и политрук Кошкин были ранены в первые минуты, но отстреливались. Тут же
ранило в руку и меня. «Девчата, оттаскивайте раненых в кусты!» – крикнул нам Шунгин. Першин успел сползти с носилок и тоже открыл огонь. Еще из двух-трех мест бухали винтовки наших ребят, потом и они начали затихать. Финны подошли совсем близко к Борису Шунгину, наверное, хотели взять его живьем. Тот долго отстреливался, потом бросил одну гранату, а второй тут же взорвал себя. На какое-то время перестрелка затихла. Мы с девчатами подхватили раненых Першина и Кошкина и через густой кустарник поползли к болоту. Кошкин еле дышал. С места боя слышались уже редкие автоматные очереди. Как мы поняли, это финны добивали тех, кто был жив, но уже не мог ни стрелять, ни двигаться.
Уползти далеко мы не могли. Едва перебравшись через болото, все пятеро – я, Першин, Кошкин, Аня и Валя – укрылись под густой елкой. Из оружия у нас было – винтовка, три нагана и две гранаты... Если финны пойдут сюда, решили живыми не сдаваться. Кошкин терял сознание и просил пить. Вода была близко, в болотине, но с той стороны слышались голоса финнов и рисковать было бессмысленно.
Я осторожно выдирала прохладный, чуть сыроватый мох и подносила ко рту Кошкина. Он жадно сосал его и затихал. Валя перевязала мне руку – рана была сквозная, но чистая, и кровотечение скоро остановилось, хотя боль не утихала.
Трудно сказать, почему финны не решились перейти болото. Они наскоро обшарили поле боя на той стороне и скрылись. Наверное, посчитали, что наша группа – это маленькая частица более крупных сил, которые вот-вот могли прийти к нам на помощь, и поспешили поскорее убраться. Судя по голосам, у них были тоже потери или убитыми, или ранеными. Как оказалось потом, им понадобились носилки, и они использовали наши.
Тем временем мы лежали под елкой и думали, как быть дальше? Саша Першин – он стал у нас за старшего– решил направить Валю Клыкову к пограничникам за помощью. Он много раз терпеливо объяснял ей ориентиры, по которым нас можно найти. Сложного тут ничего не было: мы находились слева от бригадной тропы, которая, наверное, не зарастет и через три года – так глубоко пропахали ее партизанские сапоги.
Першин проверил, как мы умеем ходить по азимуту,– оказалось, что умеем плохо, лишь теоретически и приблизительно. Он терпеливо учил нас, и Валя отправилась. По его подсчетам, она должна была вернуться через трое суток.
Вскоре скончался Кошкин. Умер он тихо, и мы бессильны были ему помочь – два ранения в грудь сделали свое дело.
Утром Аня Кемова сходила на место боя, собрала и принесла вещмешки с остатками продуктов.
Прошли сутки, другие, третьи, четвертые...
Мы боялись признаться друг другу, но, наверное, каждый про себя уже считал, что с Валей случилось неладное. Эта мысль угнетала нас, мы меньше стали разговаривать, сидели, молчали, думали и ничего не могли придумать.
Когда истекли четвертые сутки, Аня Кемова первая произнесла то, чего, наверное, ждали все трое: «Надо что-то делать. Надо кому-то идти».
Я считала, что идти должна Аня. Дело не в моей ране, которая, хотя и болела, по не настолько, чтобы я не могла двигаться. Я понимаю так, что мне, как сандру-жиннице, которой был поручен раненый Першин, нельзя оставлять его, и я должна быть с ним.
Но Саша решил по-своему. Он долго молчал, вроде и не слышал Аниных слов. Потом он сказал: «Слушайте меня, девчата. Идите вдвоем. Так будет лучше и вернее. Кто знает, что случилось с Валей. Одной в лесу вообще трудно. А тут еще минные поля, финны бродят... Оставьте мне немного продуктов, принесите несколько котелков воды и отправляйтесь. Я буду ждать вас через три дня. Договорились?»
Желая подбодрить нас, он даже улыбнулся.
Мы отправились. Мы сделали все, как он просил: запасли воды, натаскали валежника, чтоб в случае дождя он мог развести костер и обогреться. Мы гадали, чем еще помочь ему, и оттягивали свой выход. Он торопил нас.
С тяжелой и неспокойной душой уходили мы от этой густой ели, спасшей и приютившей нас. Шли и все время оглядывались, прислушивались. Мне почудилось, что голос Першина окликнул меня. Бегом я вернулась обратно. «Что случилось?» – встревоженно спросил Саша, потянувшись к винтовке.– «Ты звал нас?» – «Нет».– «Саша, что бы ни произошло, мы обязательно придем за тобой. Обязательно, понимаешь?» – «Я знаю... Идите, не теряйте время».
Мы пошли. Мы шли, не отдыхая – день, ночь, еще день... В полночь вторых суток нас остановили пограничники. Поверили нам не сразу. Пока разбирались, пока комплектовали группу, еще прошли сутки. Мы поспали, отдохнули немного. С трудом удалось добиться, чтоб мне разрешили пойти назад, хотели направить сразу в госпиталь.
Несмотря на усталость, последние километры мы с Аней чуть ли не бежали. И обессилевшие упали на землю лишь тогда, когда из-под густых еловых лап выглянуло лицо Першина – еле живого, измученного болью и одиночеством.
Уже в госпитале в Сегеже я узнала, что Валя Клыкова заблудилась и вышла позже нас. Узнала я также, что остались в живых еще двое ребят из тех, что были отправлены из бригады нести раненых.
В живых осталось шестеро из шестнадцати.
ГЛАВА ПЯТАЯ
(высота 161,1, 12 июля 1942 г.)
1
Бригада шла на север, вокруг Елмозера, и еще не знала, что уже понесла первые ощутимые потери. Разве мог кто-нибуь предположить, что группы Шунгина уже не существует, что от нее в живых останутся лишь шестеро, что десять человек, в том числе и сам Борис Шунгин, погибнут в неравном бою на нейтральной полосе, на полпути между озером Тухкаярви и рекой Вой-ванец, где наши пограничники держали передовые посты.
О плохом никто не думал, и все же у командования бригады жила какая-то смутная тревога за судьбу отправленных назад, так как при каждой связи с Беломорском радиограммы заканчивались просьбой: «Сообщите о прибытии раненых».
Бригаду в свою очередь преследовали обидные неудачи. Не успели отойти от Мальярви и пяти километров, как головной дозор напоролся на минное поле. Один из бойцов получил тяжелое ранение в ноги. Еще оставалось время, и восемь ребят покрепче спешно понесли раненого к озеру Тухкаярви, чтобы успеть к первому рейсу гидросамолета.
Сплошное минное поле тянулось от побережья Елмо-зера до огромного, с множеством бурых «окон» болота, которое пришлось обходить с востока, а это прибавило верст десять лишнего пути.
Никто тогда и не думал, что это самое болото через сорок дней придется преодолевать чуть ли не вплавь и кое-кто из раненых и обессилевших партизан найдет свою могилу в его бездонной жиже.
Настроение людей менялось. На привалах все реже говорили о том, что будет там, в тылу противника. Это начинало казаться далеким и не таким уж трудным или страшным – главное перейти линию охранения. Нашлись и скептики: «Походим, походим, паек сожрем и назад вернемся... Дураки они, финны, что ли? Так и откроют нам ворота – входите, мол, милости просим. За год вон чего понатворили – ступить негде».
Подобные рассуждения резко обрывали не только командиры или политруки, но и сами бойцы: у молодых они задевали чувство партизанской гордости, а те, кто постарше и поопытнее, понимали, что путь назад лежит для бригады только через тылы противника. Иного не могло и быть: обстановка на юге с каждым днем ухудшалась, положение на фронтах становилось отчаянным, и оно требовало действий любой ценой.
Утром и вечером штабные радисты Николай Мурзин и Александр Паромов подавали комиссару сводки Совинформбюро. Аристов прочитывал их и подолгу сидел в раздумье – спускать ли их в отряды и как строить очередную политинформацию? Люди ждут чего-то обнадеживающего, а в скупых сообщениях чуть ли не ежедневно появлялись все новые и новые оперативные направления: Воронежское, Лисичанское, Ростовское. Партизаны выслушивали сводки сосредоточенно и молча. Вопросов не задавали, так как понимали, что и политруки знают о положении на юге не больше их. Карты, чтоб определить, как далеко прорвался враг на юге, в бригаде не было, но находились уроженцы упоминаемых в сводках мест, и картина понемногу восстанавливалась.
В проведении политинформаций выручала вторая часть сообщений Совинформбюро, где говорилось об успешных действиях отдельных частей и партизанских отрядов. Все – и комиссары, и бойцы – понимали, что в условиях, когда враг движется лавиной на тысячекилометровом фронте, удачная контратака одного батальона или разгром немецкого гарнизона в белорусском селе значат слишком немного для общего перелома в войне, и все же действия никому не известного батальона капитана Колосова или партизанского отряда товарища Ф. делали события на юге доступными и близкими, поддерживали и надежду, и веру в лучшие времена.
Аристов это почувствовал сразу же. Радисты, ссылаясь на то, что не успевают, вначале записывали лишь общие сообщения в масштабах фронтов и пропускали частности. Тогда комиссар стал сам садиться к рации, и сводки уже выглядели полнее и не такими удручающими. Тем более, что Аристов стал сам проводить политинформации по очереди в каждом отряде, увязывая их с задачами бригады и обязанностями каждого бойца. На данном этапе о задачах бригады он мог говорить лишь в самой общей форме, цели похода были пока еще военной тайной, но обязанности всех и каждого определялись строгой и точной формулой: железная дисциплина, полная самоотверженность, беззаветная храбрость.
Думали ли рядовые партизаны о конкретной боевой задаче бригады? Конечно, думали, даже спорили втихомолку друг с другом, основываясь на каких-либо случайных и косвенных догадках... Естественно, что каждому хотелось определенности и ясности. И вместе с тем отсутствие этой общей для всех осведомленности скорее сближало, чем разъединяло людей. Тайна делала их сопричастными чему-то большому, значительному, успех которого будет зависеть и от тебя, и от товарищей, и от всех вместе... А это, в свою очередь, укрепляло взаимозависимость друг от друга и дисциплину.
11 июля бригада остановилась на привал вблизи высоты 161,1, в восьми километрах от дороги Кузнаволок – Коргуба, куда сразу же была выслана разведка. Отряды заняли круговую оборону, выставили постовых и затихли: костров и движения не полагалось. Было известно, что иногда . над финской линией охранения пролетает самолет-наблюдатель. Правда, летал он слишком редко и нерегулярно, но было бы обидно оказаться обнаруженными из-за ложки горячей каши.
В восемь утра Аристов записал очередную сводку Совинформбюро и вместе со своим связным Борей Вороновым направился в расположение отряда «Мстители»,
Сводка вновь была нерадостной – наши войска на юге вели тяжелые оборонительные бои в излучине Дона.
Отряд собрался на политинформацию под густой завесой ольховых кустов у самого края болота. Партизаны сидели на сырой земле и напряженно слушали. Едва Аристов начал говорить, как появился разводящий и знаком позвал дежурного по отряду командира взвода Бузулуцкова. Тот незаметно поднялся и ушел. Минут через пять он вернулся, пробрался к командиру отряда Попову и стал что-то шептать ему на ухо. Попов сидел рядом с Аристовым, он был виден всем, и глаза партизан смотрели уже не на докладчика, а на чем-то встревоженного командира отряда. Аристов раз-другой кинул на шептавшихся требовательный взгляд, но те продолжали свое дело. Когда Попов встал и хотел незаметно уйти, Аристов не выдержал:
– Что случилось?
Командир отряда в нерешительности посмотрел на комиссара бригады, потом на внимательно наблюдавших бойцов.
– Я спрашиваю, что произошло? Бузулуцков, отвечай!
Возможно, если бы недовольный Аристов, явно в нарушение субординации, не обратился прямо к дежурному по отряду, то случившееся получило бы другой исход. Но комиссар обратился к Бузулуцкову, а тот был дисциплинирован и исполнителен. Он, чуть помешкав, громко ответил:
– Боец Якунин уснул на посту, товарищ комиссар.
Все замерли. По партизанскому кодексу, сон на посту
в боевых условиях приравнивался по тяжести преступления к прямой измене...
– Это какой Якунин? – спросил Аристов.– Не тот ли, с которым я позавчера беседовал?
– Тот самый, товарищ комиссар.
Секунду-две Аристов молчал, потом сказал:
– Вот так. Говорим о железной дисциплине... и вот, пожалуйста, иллюстрация... Попов, разберись, принимай меры и доложи комбригу. Продолжаем, товарищи, политинформацию.
Конец беседы был испорчен. Аристов говорил о положении на фронтах, о необходимости остановить врага, о приказе Верховного Главнокомандующего «Ни шагу назад!»2 о долге каждого карельского партизана, не считаясь с жизнью, громить врага здесь, в Карелии, и тем помогать бойцам героического Юга, а сам беспрерывно думал о случившемся. Он понимал, что об этом же думают и его слушатели. Он видел их сумрачные беспокойные лица, их редкие вопросительные переглядывания, он принял их встревоженность случившимся за сочувствие виновнику, и это заставило его говорить резко:
– Чтобы победить врага, мало одного оружия. Болтливость, ротозейство, беспечность могут погубить любое дело. Ротозей, как и трус, прямой пособник врагу.– Аристов протер очки, близоруко сощурился: – Будут ли вопросы?
Сандружинница Аня Шалина подняла руку:
– Товарищ комиссар, что теперь будет Якунину?
Аристов надел очки, в упор посмотрел на нее:
– А как ты сама считаешь?
– Не знаю...
– Значит, плохо ты, Шалина, разбираешься в обстановке. Надо внимательней слушать и понимать, что говорится... Что касается Якунина – это решит полевой трибунал. Это ведь не первый его проступок в этом походе... Сначала невыполнение приказа командира отделения, потом сон во время дневальства, теперь – вот и сон на посту. Преступление и начинается с мелочи, Шалина! Расходитесь по местам. Комиссару и политрукам остаться!
Аристов выждал, пока бойцы разойдутся, и сурово посмотрел на комиссара отряда:
– В отряде царит беспечность и беззаботность! Случай с Якуниным немедленно сделать предметом обсуждения в каждом взводе! Еще раз подчеркнуть, что при малейшем нарушении дисциплины будут применяться самые строгие меры. Завтра перейдем линию охранения, и пора понять, что пощады никому не будет!
Когда Аристов вернулся в штаб бригады, там уже знали о случае в отряде «Мстители». Была сформирована тройка полевого трибунала. Из опроса виновного и троих свидетелей выяснилось, что Якунин спал на посту так крепко, что разводящий, забрав у него оружие и поставив другого часового, успел сходить за дежурным по отряду и уже втроем они разбудили спящего.
Никаких смягчающих вину обстоятельств не было, и приговор был единодушным – расстрел.
Приговор подлежал утверждению командиром бригады.
Листок, вырванный из блокнота, с десятком строк, тяжело выведенных химическим карандашом, и тремя подписями внизу—был первым смертным приговором, который предстояло утвердить Григорьеву. Он знал мнение комиссара, начальника штаба, секретаря партбюро бригады Кузьмина, и все же, прежде чем написать одно-единственное необходимое слово, еще раз молча встретился глазами с каждым.
Да, в восьми километрах на запад проходила для них, партизан, черта милосердия, и иного выхода не существовало.
Приговор был объявлен по отрядам, и вечером, незадолго до выхода, приведен в исполнение.
Вечерняя радиограмма в штаб партизанского движения заканчивалась на этот раз фразой: «За сон на посту расстрелян боец Якунин».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ АННЫ БАЛДИНОЙ
(пос. Пряжа , 18 декабря 1970 г.)
О том, как мы переходили линию финского охранения, я хорошо помню еще и потому, что именно в эти дни произошел случай, который мог кончиться большой бедой и для меня, и для Степана Халалеева.
Чтоб было понятно, начну издалека.
Когда я зимой пришла в отряд сандружинницей, мне сразу же дали винтовку, но через некоторое время фельдшер Ольга Павловна Пахомова приказала винтовку сдать обратно. Представляете мое разочарование! Пришла воевать, бить врага, а на вооружении одна санитарная сумка! Несколько дней я ходила совершенно подавленная...
И тут Миша Ярошенко, связной командира отряда, неожиданно подарил мне трофейный пистолет. Это был красивый и маленький, похожий на детскую игрушку пистолетик в аккуратной лакированной кобуре. В обойму вмещалось шесть крохотных патрончиков. Миша дал мне еще две запасные обоймы, научил меня разбирать и чистить пистолет, а потом и стрелять. Стрелял пистолет хорошо, мягко, звук был похож на выстрел из малокалиберной винтовки, а метров с десяти я легко попадала в тетрадный лист, прикрепленный на дереве. Большего, как объяснил Миша, мне и не требовалось, оружие полагалось сандружиннидам лишь для самообороны.
Я была счастлива, но счастье оказалось недолгим. Постепенно все в отряде узнали о подарке, и мой чудный, изящный пистолетик стал предметом не только любопытства, но и постоянных вышучиваний. Уж как над ним только не издевались, как не называли – и пушкой, и гаубицей, и мухобойкой. Даже мой тогдашний командир взвода Саша Аверьянов – потом в походе он стал начальником штаба отряда – строил, глядя на меня, хитрую улыбочку. Сначала я отшучивалась, потом это стало надоедать, но приходилось терпеть, так как я понимала, что в нашей партизанской жизни без шуток не обойтись.
Свой пистолетик я любила и с гордостью носила его на поясном ремне. Тогда я не думала, что он принесет мне столько переживаний.
...В Сегеже мы жили в здании школы, рядом остановилась воинская часть, а чуть подальше – жилой дом. Мы познакомились с одной женщиной из этого дома и часто вечерами, захватив с собой что-либо съестное, бегали к ней пить чай.
Так было и в тот вечер – последний перед походом.
Аня Леонтьева, Дуся Григорьева, Наташа Герасимова успели забежать в подъезд дома, я мчалась последняя и вдруг слышу окрик патруля:
– Стой!
Я не остановилась, но патруль дал выстрел в воздух, меня забрали и повели в комендатуру, почти через весь город.
Там первым делом приказали сдать оружие, и мой пистолетик оказался на столе у дежурного коменданта. Надо было видеть, как загорелись у него глаза!
– Откуда? Где взяла? Есть ли разрешение? Почему без документа с оружием?
Не успела я ничего объяснить, как раздался телефонный звонок. Это звонил наш командир Федор Иванович Греков.
Как выяснилось, кто-то из ребят видел из окна случившееся, доложил командиру отряда, и тот теперь решительно требовал доставить сандружинниду Балдину в расположение части.
Комендант, держа на широкой ладони мой маленький, блестящий пистолетик, долго сопротивлялся, упирая на то, что я не подчинилась приказу патруля, вынудила их стрелять, переполошила город и должна за это понести наказание, но потом вдруг согласился, положил телефонную трубку и приказал патрульному:
– Отведи ее назад!
– А пистолет? – спросила я.
– Иди, иди! С пистолетом еще разбираться будем.
Со слезами на глазах я вернулась в отряд, пошла
к командиру, все рассказала. Он снова взял телефонную трубку, потребовал вернуть оружие. Мне приказал:
– Ступай отдыхать. Утром получишь. Завтра поход, а вы тут приключения устраиваете.
Всю ночь я не сомкнула глаз. Я словно бы предчувствовала, что так просто мне свой пистолет не получить, уж больно он понравился коменданту.
Так оно и вышло. Несколько часов мне пришлось проторчать в комендатуре. Того коменданта уже не было, мне по очереди предлагали взамен сначала старый облупившийся наган, потом черный браунинг и даже новенький «ТТ», но я стояла на своем, даже расплакалась, и наконец мой маленький пистолетик снова оказался у меня в руках.
Если бы я тогда знала, что он принесет мне в походе, то, может быть, и согласилась бы на замену.
...Помню, это был последний привал перед линией охранения. Был строгий приказ о соблюдении тишины и маскировки. Вообще после случая с Якуниным дисциплина и на марше, и на привалах резко поднялась, все поняли, что шутки и беспечность должны быть оставлены позади.
Я, конечно, не знала, что линия охранения уже близко. Думаю, и другие бойцы не знали об этом. Мы могли лишь догадываться, что приближается что-то серьезное. Переходы стали быстрыми, даже стремительными. С привалов снимались неожиданно и так же внезапно останавливались. Костров не разводили. Питались всухомятку, запивая сухари озерной водой.
Таким же неожиданным был и тот злополучный привал.
С огромным наслаждением я скинула с плеч свой полегчавший вещевой мешок, отстегнула ремень с пистолетом, достала котелок и пошла вниз по склону к видневшейся сквозь деревья ламбушке. Набрала воды, поднимаюсь обратно и вдруг – впереди словно сухой сук треснул. В лесу этот звук привычен, но треск был какой-то уж очень неосторожный. Помнится, я невольно шагу прибавила.
Возвращаюсь, и что же?
Степа Халалеев стоит около моего мешка, в его правой руке поблескивает мой пистолет, а левая – вся в крови. Кровь густыми темными каплями падает на землю. Лицо бледное как полотно, глаза испуганные.
Котелок с водой так и выпал из моих рук.
– Степан, что ты сделал? – прошептала я, выхватывая у пего пистолетик.
Он молчал и только морщился от боли. Я мигом достала индивидуальный пакет, йод и принялась перевязывать рану, от испуга и растерянности повторяя:
– Что же ты наделал? Что наделал?
Степа по-прежнему молчал и озирался по сторонам, пытаясь понять – видел ли кто случившееся. К счастью, все занимались своими делами или делали вид, что ничего не случилось.
Наконец рана перевязана. Что делать дальше? По положению я обязана доложить фельдшеру Оле Пахомовой, та – командиру отряда, тот – комбригу... Но что будет потом? Как в штабе расценят все это? В той ситуации, в какой находилась бригада, за выстрел, даже случайный, полагалась самая суровая кара... Выстрела, положим, никто не слышал, или не обратил на него внимания, а кто и слышал, тот ничего не понял. Слава богу, мой пистолетик стреляет так, что и на выстрел непохоже. Но рапа! Я хоть и не медик, до войны работала учительницей в начальных классах, однако и моих знаний, полученных на занятиях по санитарному делу, вполне хватало, чтобы определить, что рана относится к разделу тяжелых: повреждена кость указательного
пальца. Хочешь или не хочешь—а налицо членовредительство. Перед самой линией охранения человек вывел себя из строя. Случайно или намеренно – тут надо разбираться. Я-то не сомневалась, что случайно, да и другие, кто знал Степу, по-иному не могли думать, его все любили, уважали, он, единственный в отряде, еще до войны был награжден правительственной наградой, медалью «За трудовое отличие», и одно то, что медаль эту он получил в Кремле, из рук Михаила Ивановича Калинина, делало в наших глазах Степу Халалеева человеком особенным. Я-то, конечно, не за медаль ценила Степу, мы питались в походе из одного котелка, и я лучше других знала, какой это честный, добрый и верный товарищ. Захотят ли там, в штабе, разбираться во всем этом? Да и есть ли для этого время, если каждую минуту может раздаться команда и бригада должна будет скорей-скорей двигаться на запад?
Думала я обо всем этом, а из головы не выходил недавний случай с уснувшим на посту Якуниным.
Мы сидели на земле и молчали. Степа тихо баюкал свой забинтованный куклой палец, морщился от боли, изредка поглядывал на меня, наверное, ожидая моего решения, а я не знала, что и сказать. Зачем он брал мой пистолетик? Неужели только затем, чтобы полюбоваться на эту противную блестящую игрушку? Я-то тоже хороша – ушла за водой и оставила личное оружие, словно забыла, что в боевых условиях это тоже наказуемо.
– Аня, не говори никому, ладно? – вдруг тихо попросил Степан.– Заживет, куда ему деться... Подумаешь – палец!.. Пустяк ведь это, верно?
– Нет, Степа. Не будем лечить, не заживет. Кость ведь задета.
– А ты и лечи, только не говори никому.